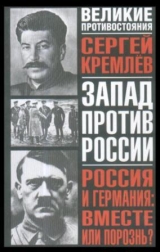
Текст книги "Россия и Германия: вместе или порознь?"
Автор книги: Сергей Кремлев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
В августе 1935 года на Всесоюзном парашютном слете Полосухин познакомится с изобретателем ранцевого парашюта Глебом Евгеньевичем Котельниковым. До революции проект Котельникова рассматривала Комиссия военно-технического управления генерала Кованько. Генерал иронически улыбался:
– Все это прекрасно. Но, собственно, кого вы собираетесь спасать?
– То есть как? – не понял изобретатель.
– Если ваш спасающийся выпрыгнет из самолета, то ему уже незачем будет спасаться!
– Почему?
– Потому, что у него от толчка оторвутся ноги. –??!
– Да-с, ноги...
А ведь Кованько был еще не худшим. Он сам поднимался в воздух на привязных шарах, в 1909 году совершил свободный полет на аэростате, в авиации служил его сын.
Эмигранты в Париже издевались над «невежественными московскими комиссарами», взявшимися управлять Россией. Вот документальное мнение «просвещенного» царского начальника Российских воздушных сил великого князя Александра Михайловича: «Парашют в авиации – вещь вообще вредная, так как летчики при малейшей опасности, грозящей со стороны неприятеля, будут спасаться на парашютах, представляя самолеты гибели».
По себе, знать, судил августейший «главком» ВВС. Потому, наверное, так оскорбительно и не верил в силу русского духа! А вот Сталин как раз на ней, в том числе, и строил свой расчет на создание мощной и независимой России.
12 июля 1935 года над Тушинским аэродромом накрапывал дождь. Но настроения спортсменов Центрального аэроклуба он не охлаждал. Приехали Сталин и Ворошилов.
Начался авиационный показ. Взлетали планеры и самолеты. Инструкторы Полосухин и Щукин с московским рабочим Коскиным прыгали затяжными с трех У-2, а с двух тяжелых ТБ прыгнули 50 парашютистов.
Летчик-ас Алексеев веселил публику номером: «Первый самостоятельный вылет пилота-ученика». Самолет в воздухе дергался, заваливался, на посадке давал сильного «козла» – нелепо прыгал... Все весело смеялись, а Алексеев уже набирал высоту для демонстрации мастерской посадки с последнего витка многовиткового штопора.
Виток, второй,., пятый... И не выходя из шестого, машина врезается в Москву-реку. Фонтан брызг и полное молчание зрителей. Со старта срывается санитарная машина, через пару минут возвращается к группе во главе со Сталиным. И из нее вылезает... мокрый, с забинтованной головой, сконфуженный Алексеев:
– Товарищ народный комиссар обороны, летчик Алексеев потерпел аварию.
– Причина?
– Дождь, мокро, в последний момент сапог соскользнул с педали.
Может, конечно, Алексеев и просто ошибся в увлечении, да как тут ругать его? Ворошилов, однако, деланно хмурится, но тут к неудачнику широко шагает Сталин и пожимает ему руку. Потом молча обнимает. И снова самолеты уходят в воздух...
Пустяк? Нет, стиль времени. Невольную ошибку особенно своему простить можно. Халатность даже своему нельзя. И уж тем более, нельзя простить вредительство и саботаж чужим. Но была ли экономическая контрреволюция явлением? Была. И еще каким!
Осенью 1918 года видный кадет профессор Карташев говорил в Гельсингфорсе (то есть в Хельсинки): «Мы уже не те кадеты, которые раз выпустили власть. Мы сумеем быть жестокими».
Кто же собирался быть жестоким в составе, скажем, кадетского подпольного Национального центра на территории РСФСР?
Вполне цивилизованные люди: инженер Штейнингер – совладелец патентной конторы «Фосс и Штейнингер», профессора Котляревский, Муравьев, Устинов, Сергиевский, Муралевич, Каптерев, Фельдштейн, бывший попечитель Петроградского учебного округа Воронцов.
Профессора-экономисты Плетнев, Букшпан, Кафенгауз были всего лишь «техническими экспертами» Центра.
Это Национальный центр готовил сдачу Петрограда Юденичу. И шанс у него был. В заговоре участвовали крупные военные, служившие в Красной Армии: адмирал Бахирев, начальник сухопутного отдела штаба Балтфлота полковник Медиокритский, начальник штаба 7-й армии полковник Люндеквист, начальник авиаотряда Еремин.
В министры-председатели правительства намечался профессор Технологического института Быков.
Директора Института экспериментальной биологии Кольцова мы знаем как генетика, «пострадавшего» в конце 30-х годов. А в 1920 году он был казначеем Национального центра, хозяином конспиративной квартиры и явки для курьеров Колчака и Деникина.
Инженер Жуков готовил взрывы на железной дороге Пенза—Рузаевка, чтобы не допустить переброски войск с Восточного фронта на Южный.
О научных премиях Альфреда Нобеля знает весь мир. Но в 1918 году существовали и еще одни «нобелевские» премии. Их назначил перед отъездом из России член правления акционерного общества нефтяных предприятий «Нобель» Густав Нобель русским служащим фирмы за саботаж указаний Советской власти и экономический шпионаж.
Среди этих «нобелевских лауреатов» были профессор Тихвинский, лаборант «Главнефти» Казин, начальник технического управления «Главнефти» в Москве Истомин, председатель «Главнефти» в Петрограде Зиновьев.
Финансирование и присуждение премий было прервано лишь с раскрытием в 1921 году заговора «Петроградской боевой организации». Руководил ею, между прочим, профессор Таганцев – бывший член Национального центра.
Так что у угольного «Шахтинского дела», рыбной «Астраханщины» и обширной «Промпартии» были глубокие, прочные корни.
Не лучше прямого промышленного саботажа оказался и саботаж нравственный. Бывший конногвардейский офицер Георгий Осоргин в нэповские годы занялся перекупкой. Принимал у знакомых – «бывших людей» – драгоценности, золото и перепродавал маклерам-евреям. Знакомые считали его «безупречно честным» человеком: брал «определенный процент» и «не обманывал».
Когда его спрашивали, почему он, офицер, дворянин, занимается маклачеством, Осоргин с гордостью отвечал:
– Я присягал государю-императору, и Советской власти служить не хочу.
В конце 20-х – начале 30-х годов таких осоргиных хватало. Считали они себя русскими, но вместо того, чтобы помочь новой России стать на ноги, тупо и мелочно предпочитали холуйствовать «на подхвате» у темных дельцов.
И у тех, кто эту Россию строил и обязан был думать об ее безопасности, все чаще, читатель, возникала резонная мысль: «А если завтра запахнет порохом? Как поведут себя эти бывшие
233
конногвардейцы? Ведь никаких моральных обязательств перед СССР они за собой не числят, Родиной его не считают».
20 марта 1935 года было опубликовано постановление НКВД: «В Ленинграде арестованы и высылаются в восточные области СССР: бывших князей 41, бывших графов 32, бывших баронов 76, бывших крупных фабрикантов 35, бывших помещиков 68, бывших крупных торговцев 19, бывших царских сановников 142, бывших генералов и офицеров царской и белой армий 547, бывших жандармов 113. Часть их обвинена в шпионаже».
Высылали тысячу человек. Кого – в Казахстан, кого – всего лишь в Саратов и Самару. Жестоко? Что ж, по отношению к этим «тысячникам» и тем трем тысячам членов семей, что уезжали вместе с ними, действительно не очень-то милосердно.
Но надо ведь ответить, читатель, и на такой вопрос: «А как насчет тех десятков миллионов, с которыми эти тысячи не ощущали себя согражданами?». Высылаемые, их «безупречно честные» родственники и приятели всегда считали само собой разумеющимся наследственный блеск меньшинства и наследственное же прозябание остальных. А ведь на достойную жизнь имели право и эти «остальные», то есть то большинство, которому царская Россия отказывала в таком праве из поколения в поколение.
Но может, на восемнадцатом году Советской власти «бывшие» уже не представляли опасности для «остальных» ста семидесяти с лишком миллионов граждан СССР? Увы, очень многие из этих бывших имущих таили глухую злобу и думали о будущем с надеждой на возврат прошлого.
А если они даже не стремились к возврату, то все равно были вредны для страны своими претензиями на избранность, на особое понимание жизни. Хотя они так ничего и не поняли по обе стороны границы России.
Родственника конногвардейца Осоргина, писателя Михаила Осоргина, выслали из России весной 1922 года с советским паспортом. С ним он и жил, писал книги, переписывался с Горьким, просился обратно. А зачем?
В 1936 году, через год после ленинградского «исхода бывших», Горький писал старому (с 1897 года) другу в Париж: «Время сейчас боевое, а на войне как на войне надо занимать место по ту или иную сторону баррикады».
Осоргин отвечал: «Против фашизма, положительно захватывающего прямо или косвенно всю Европу, можно бороться только проповедью настоящего гуманизма... Мое место неизменно по ту сторону баррикады, где личная и свободная общественность борется против насилия над ними чем бы это насилие ни прикрывалось, какими бы хорошими словами ни оправдывало себя. Мой гуманизм готов драться за человека. Собой я готов пожертвовать, но жертвовать человеком не хочу. Лучше пускай идет к черту будущее».
Вот так, читатель: будущее – к черту. Если это будущее пусть и великое, но советское...
Осоргин упрямо не хотел видеть, что его «баррикада» стоит поперек жизни и борьбы за человека. Но было ли это так уж безобидно? Если бы он вернулся в СССР, то вначале путался бы под ногами. А потом?
А потом...
Нет, не стоило испытывать еще одного интеллигента из тех, о ком писал Грум-Гржимайло, на верность идее реального социалистического строительства. Осоргин ведь и в 1936 году писал надменно: «Вы нашли истину. Ту самую, которую ищут тысячи лет мыслители. Вы ее нашли, записали, выучили наизусть, возвели в догму и воспретили кому-либо в ней сомневаться. Она удобная, тепленькая, годная для мещанского благополучия. Рай с оговорочками, на воротах икона чудотворца с усами».
Но может, семидесятилетний парижский «гуманист» был прав? Нет, вряд ли, если он писал и так: «Поражает ваша научная отсталость. Русские ученые – типичные гимназисты. Я просматриваю академические издания, и поражаюсь их малости и наивности».
Осоргин, конечно, ошибался, но ошибался так, что выходило – клеветал.
Так нужен ли был новой России этот «кадровый» литературный «борец за человека», уверявший Горького, что не менее его «верует в советскую молодежь и многого от нее ждет»?
Молодой москвич, авиаконструктор Саша Яковлев, взволнованный одобрением своего первого «настоящего» самолета УТ-2, в это время улыбался и смотрел в объектив фотографа, уткнувшего треногу аппарата в дерн Тушинского аэродрома.
А на плече Яковлева лежала рука стоящего сзади... Кого? По мнению Осоргина, «чудотворца с усами». А по мнению Саши, «товарища Сталина»... Старшего его товарища.
Американец Лорен Грэхэм тоже числил себя в гуманистах, как и Осоргин. Поэтому он печатно возмущался: мол, когда в конце 1920-х годов Сталин начал проводить политику ускоренной индустриализации, он-де совершенно игнорировал при этом вопросы здравоохранения и счел специалистов по общественной гигиене опасными оппонентами.
Если Грэхэм тут прав, то можно предположить, что Сталин не укатал Корнея Чуковского за «Мойдодыр» на Колыму лишь по недосмотру, но зато назвал Владимира Маяковского «величайшим поэтом нашей пролетарской эпохи» исключительно в знак благодарности за поэтическую поддержку сталинского неприятия-де общественной гигиены.
Ведь в своем рассказе о людях Кузнецкстроя Маяковский прямо сообщал:
«...под старою
телегою
рабочие лежат...
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут...
свела
промозглость
корчею —
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют».
Какая уж тут гигиена – сплошная антисанитария... Однако, читатель, и здесь осоргины с грэхэмами не видели дальше собственной злобы на Сталина. А вот что увидел в год «московских процессов», в год 1937-й, видный американский историк медицины Генри Зигерист: «В Советском Союзе сегодня начинается новая эпоха в истории медицины. Все, что было достигнуто в медицине за предыдущие пять тысячелетий, составляет лишь первую стадию, стадию лечебной медицины. Новая эра, эра профилактической медицины, берет свое начало в Советском Союзе».
Наверное, Зигерист был прав, если в царской России 1913 года было девять женских консультаций и детских поликлиник, а в СССР 1940-го – почти девять тысяч во главе с Государственным институтом охраны материнства и младенчества. В Москве 1913 года каждый год умирало 22 москвича из тысячи, а в 1931 году – менее 13.
Вот ради этого и сидели в грязи рабочие Кузнецкстроя, вслед за которыми Маяковский повторил: «Через четыре года здесь будет город-сад!»
В начале марта 1920 года Ленин выступал на Всероссийском съезде трудовых казаков:
– Эсеры и меньшевики говорят, что большевики залили страну кровью в гражданской войне. Но разве эти господа не имели 8 месяцев для своего опыта? Разве с февраля до октября 1917 года они не были у власти вместе с Керенским, когда им помогали все кадеты, вся Антанта? Тогда их программой было социальное преобразование без гражданской войны...
Ленин остановился, окинул взглядом внимательно слушающий зал, а потом озорно улыбнулся и продолжил:
– Сегодня мы вправе сказать этим господам: «Нашелся ли бы на свете хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если бы вы действительно начали социальную реформу?».
По залу пошел понимающий хохот, а Ленин отмахнул рукой, и во вновь наступившей тишине опять зазвучало:
– Почему же они этого не сделали? Потому что их программа была пустой программой, была вздорным мечтанием. Потому что нельзя сговориться с капиталистами и мирно их себе подчинить, особенно после четырехлетней империалистической войны. Как можно согласиться с этим капитализмом, который 20 миллионов людей перекалечил и 10 миллионов убил?...
Ленин ошибся здесь в одном, потому что точной статистики потерь тогда еще не было. Капитализм убил не 10, а 26 миллионов человек, из них 13 миллионов гражданских лиц.
Ни в Европе, ни в самом СССР противники нового строя ЭТИХ цифр видеть не хотели. Кто-то, как осоргины московские и парижские, просто показывал фигу в кармане. Кто-то имел более серьезные намерения.
«Промпартию» профессора Рамзина не раз объявляли выдумкой ОГПУ, а расстрелянного в 1929 году горного инженера Петра Пальчинского – «невинной жертвой сталинского террора» и всего лишь «идеологом технократии». Именно так о нем пишет профессор Лорен Грэхэм.
Однако Пальчинский имел возможность проводить свои идеи в жизнь еще в 1917 году, когда был товарищем министра торговли и промышленности в правительстве Керенского. И еще раньше, когда руководил капиталистическим синдикатом «Продуголь» и был тесно связан с банковскими кругами.
Но вот как он «технократствовал» в 1917-м: 5 мая создано коалиционное министерство, в которое входит Пальчинский. Оно обещает контроль и даже организацию производства. 16 мая меньшевистско-эсеровский (!) Петроградский Совет требует немедленного государственного регулирования производства, и тут же министр Коновалов уходит в отставку, а Пальчинский начинает саботировать все меры контроля.
В Донбассе создается катастрофическая ситуация. Не большевистская, а проправительственная газета «Новая жизнь» сообщала: «Безвыходный круг – отсутствие угля, отсутствие металла, отсутствие паровозов и подвижного состава, приостановка производства. А тем временем уголь горит, на заводах накопляется металл, когда там, где он нужен, его не получишь».
Донецкий комитет через Советы солдатских и рабочих депутатов организует анкету (читатель, – всего лишь анкету!) о количестве металла. Промышленники жалуются, и товарищ министра Пальчинский запрещает «самочинные контрольные комиссии».
Правительственных же комисиий этот «технократ» не назначает, зато срывает все попытки учета и регулирования. Возмущение настолько велико, что Пальчинского удаляют из правительства, обеспечив «хлебное местечко» губернатора Петрограда с доходом в 120 тысяч рублей. В качестве такового Пальчинский как раз и организовал оборону Зимнего дворца, выставил те пушки, о которых писал Сталин.
Этот-то Пальчинский и стал организатором «профессорского саботажа» и вредительства. В 1926 году это был «Союз инженерных организаций», позднее образовалась «Промышленная партия».
Читатель! Простое следование документам может подвести даже честного исследователя, и чтобы не ошибиться, надо не просто сопоставлять, но и постараться поставить себя на место современника той эпохи.
Сталин, например, писал в служебных письмах о зарубежных организаторах вредительства и упоминал в 1930 году Петра Рябушинского. Но тот умер в 1924 году.
А-а-га! Вот мы Сталина и подловили на информационном подлоге! А с ним – и чекистов-подтасовщиков!
Так что это, читатель, – мы действительно имеем дело с неудачной подтасовкой ОГПУ – Объединенного Главного Политического управления, давшего «не те» сведения и «подставившего» Сталина?
Но странно, ведь ОГПУ уже провело к тому времени блестящие операции «Трест» и «Синдикат-2» по внедрению своих людей в круги эмиграции. Чекисты были прекрасно осведомлены о положении дел там. Между прочим, «Трест» обеспечил тайную поездку по СССР выдающегося деятеля белого движения Шульгина.
Его не арестовали, позволили вернуться в Европу, и в Берлине он издал книгу «Три столицы» о впечатлениях от Москвы, Ленинграда и Киева. Шульгин ожидал увидеть умирающую страну, а увидел «несомненное ее воскресение» и признался, что в Советской России «быстро теряешь отвращение к тамошней жизни, которое так характерно для эмигрантской психологии».
Однако как же с Рябушинским? Атак, что фабрикантов Рябушинских, связанных с внешней контрреволюцией, было двое. Был, кстати, и третий эмигрант Рябушинский – ученый-аэродинамик.
Так вот, второй Рябушинский (живой) в 1934 году (17 февраля, если точно) вместе с крупнейшими промышленниками-эмигрантами Гукасовым и Лианозовым приветствовал офицерский РОВС на страницах парижского монархического «Возрождения».
Фамилия Рябушинских в России стала еще до революции символом бешеного богатства, а после революции – символом бешеного сопротивления Советской власти.
И у Сталина явно произошло одно из тех странных смещений восприятия, которые потом так охотно используют «исто-рики»-фальсификаторы.
Тут надо знать, что в 1921 году много шума наделала поездка в США деятелей так называемого Торгово-промышленного комитета, «Торгпрома», образовавшегося еще при Временном правительстве, – Рябушинского (Петра), Гукасова, Лианозова, Денисова.
И как раз о них же писал Сталин, имея в виду не столько конкретных людей, сколько явление, разбираться с деталями которого у него не было ни времени, ни нужды. Ему доложили об акции Рябушинского-Гукасова-Лианозова, а он, надо полагать, не забыл поездки Рябушинского-Гукасова-Лианозова...
Что ж, запутаться в трех Рябушинских и случайно перепутать Петра и Ивана – грех для главы государства невеликий. Тем более, что все три стоили один другого.
Значение имело то, что «Торгпром» и другие объединения промышленников действительно существовали и пытались активно влиять на процессы в СССР. Методы при этом избирались, естественно, конспиративные, тайные.
Еще в середине 1918 года представители «Торгпрома» внедрились в Московский районный комитет, в учетные комитеты при Госбанке, в Главное управление текстильной промышленности ВСНХ – Центротекстиль. Тогда ВЧК сработала оперативно, однако Рябушинский Петр в мае 1921 года с трибуны торгово-промышленного съезда в Париже заявил:
– Мы смотрим отсюда на наши фабрики, а они нас ждут, они нас зовут. И мы вернемся к ним, старые хозяева, и не допустим никакого контроля...
Пальчинский остался в стране в числе тех, кто должен был эту программу подготавливать «на местах». А с кадрами у Пальчинского с Рябушинскими проблем не было.
Вот сословный состав студентов российских университетов в 1914 году: детей дворян, чиновников и офицеров – более трети, детей почетных граждан и купцов – треть. Остальные – это дети мещан, цеховых, крестьян, казаков, духовенства (каждый десятый), иностранцев и «прочих».
В высших технических учебных заведениях «белоподкладочники» составляли четверть, дети почетных граждан и купцов – половину.
Так обстояло дело с теми, кого учили.
А кто учил их еще в 1917 году? А вот кто: в университетах профессорско-преподавательский состав из потомственных и личных дворян, из чиновников и обер-офицеров составлял 56 процентов, а если сюда прибавить почетных граждан с купцами, то получится уже 64 процента. Из крестьян и казаков происходило 2,8 процента, а сыновья «врачей, юристов, художников, учителей и инженеров» профессорствовали «в размере» 4,7 процента.
В технологических институтах, высших технических училищах и политехникумах выходцев из этой последней («инженерской») категории было среди преподавателей, как ни странно, еще меньше – всего 4 процента. Зато «белых» профессоров насчитывалась примерно половина (еще 15 процентов давало купечество с почетными гражданами, и пятую часть – «мещане и цеховые»).
Многие из них не захотели сотрудничать с «быдлом» и вместо того, чтобы остаться в трудный час с Россией, эмигрировали. Хотя удалось это далеко не всем. Своим благополучием их прадеды, деды, отцы и они сами были обязаны народу, его поту и крови. А когда пришло время отдавать долги, они высокомерно увильнули, лишив страну большой части ее образованного слоя.
Если до революции в одном лишь Лысьвенском горном округе работало 66 инженеров, то в 1924 году на всем Урале их было 91. Теперь от каждого инженера зависело намного больше, чем раньше. Он мог принести исключительную пользу, а мог и нанести серьезный вред. И здесь уж каждый выбирал свое.
Кстати, любителям версий о «мифах» ОГПУ не мешает напомнить мнение знаменитого нашего правоведа Анатолия Федоровича Кони.
Кони царская власть терпела лишь постольку, поскольку он был выдающимся юристом. Родившись в 1844 году, к 1917 году он успел стать членом Государственного совета, сенатором и действительным тайным советником (чин II класса), то есть штатским генералом, кавалером орденов Анны и Станислава I степени, Владимира II степени, Белого орла и Александра Невского.
Это был высший класс чиновных заслуг, но после революции Кони ни минуты не сомневался, на чьей стороне его симпатии. И он предупреждал большевиков: «Вам нужна железная власть и против врагов, и против эксцессов революции, которую постепенно нужно одевать в рамки законности, и против самих себя. А сколько будет болезненных ошибок. И все же я чувствую, что в вас действительно огромные массы приходят к власти».
Но не все обладали таким безоговорочным чувством Родины, как Анатолий Федорович.
БЫЛИ среди специалистов и просто недалекие, растерявшиеся люди. Горный техник Краснянский весной 1927 года писал в газету «Красный шахтер» Шахтинского округа Северо-Кавказского края: «Мы не догоняем Америку, а наоборот – в противоположную сторону бежим с быстротой американского поезда, занимаемся самообманом».
Это была, так сказать, «честная паника». Хотя перед наступлением (а дело шло к первой пятилетке) паникеры – явление не лучше предателей. Были, однако, и просто предатели...
В марте 1928 года Северо-Кавказский крайком партии обсуждал «Шахтинское дело» о вредительстве в угольной промышленности. Шахтинский процесс, прошедший парой месяцев позже, сразу же многие недоброжелатели расценили как «очередную штуку большевиков», но председатель краевого исполкома Богданов не ошибался, когда делил старых специалистов на три группы: первый тип – связанные с буржуазией и враждебные Советской власти, второй – связавшие свою судьбу и работу с большевиками, и третий – большинство, промежуточная масса, которая свои убеждения скрывает и работает из-за хлеба.
Что ж, оценка трезвая и без истерики. Главное же – верная в том смысле, что первый тип, увы, существовал не только в сводках ОГПУ.
Никто на этом заседании крайкома не собирался сваливать на вредительство все грехи. Полномочный представитель ОГПУ по Северному Кавказу Евдокимов сообщил: «За 1926—1927 операционные годы несчастных случаев, происшедших на рудниках Шахтинского округа, – 6213. Неполадок у нас зарегистрировано 1733 и проходит 500 вредительских актов».
Итого, вредительством объяснялся лишь каждый двенадцатый случай.
И он-то, чаще всего, выдумкой не был... Ильф и Петров хорошо описали настроения «бывших» в то время. Они интервенции ждали с часу на час в уверенности, что «Запад нам поможет».
«Двенадцать стульев» и «отец русской демократии» Киса Воробьянинов – это литература.
А вот стенограмма со все того же заседания крайкома: «На последнем этапе они настолько обнаглели, настолько уверены, что интервенция на носу, что решили вести себя более активно по подготовке свержения Советской власти».
Что ж, и это звучало убедительно. В Донбассе чекисты обнаружили у арестованного инженера Павленко записку хозяина каменноугольного рудника действительного статского советника Парамонова, помеченную «июня 2-го дня 1919 года».
Было в записке вот что: «Милостивый государь Василий Петрович! В случае захвата рудника большевиками прошу Вас не оставлять предприятия, всеми мерами заботиться о сохранении шахт, машин и инвентаря»...
Задумаемся, с чего бы это надо было хранить инженеру Павленко старую бумажку?
Вряд ли тут надо много сомневаться! Статский советник Парамонов рассчитывал на скорое возвращение, но ожидание затянулось. Оказалось, что прежде чем свергать «Советы», надо было их расшатать.
И теперь инженеру Павленко приходилось заботиться не о сохранении, а о порче «предприятия». А старая записка играла уже роль своего рода пароля, припрятанного на случай успешной интервенции. Ну действительно, читатель, не для коллекции же держал инженер Павленко этот небезопасный документ где-то в тайнике целых десять лет!
Да, по мере усложнения обстановки, а она усложнялась потому, что в стране назревали новые огромные перемены, все активнее действовали не только большевики, но и наши внутренние враги.
Тут могли быть частные ошибки, но в общем ошибиться было нельзя. С 25 ноября по 7 декабря 1930 года в Москве прошел открытый судебный процесс «Промышленной партии». Судили людей, в СССР видных.
Профессора Калинников и Ларичев были членами президиума Госплана СССР, профессор Рамзин – директором Теплотехнического института.
По «торгпромовской» традиции не обошлось без крупных руководителей из Оргтекстиля ВСНХ.
Подсудимые не раз бывали в заграничных командировках, и возможностей для контактов со старыми знакомыми из эмиграции у них хватало.
Главной на процессе была тема возможной интервенции. Профессор Рамзин говорил:
– Нашей основной ставкой была ставка на интервенцию против Советского Союза, ибо лишь интервенция признавалась верным и быстрым способом совершения контрреволюционного переворота...
Да, без интервенции рассчитывать на переворот не приходилось – так же, как без переворота интервенция была обречена еще до ее начала. Имущие классы Антанты, особенно Франции, страстно желали падения Советской власти, но народные массы Франции и Англии в поход на Москву не пошли бы. Оставалось одно: действовать руками Польши, Румынии, прибалтийских лимитрофов и силой белой эмиграции.
И вот такой вариант был вполне реален, потому что каждый возможный участник интервенции был у Антанты в кармане. Кроме того, у каждого были и свои планы в СССР. Мировой экономический кризис 1929 года ударил по Польше очень больно, и война могла здесь «спустить пар» (не говоря уже о Киеве – сладкой мечте белополяков).
Румыны постоянно опасались утраты оккупированной ими Бессарабии, и тоже поддержали бы интервенцию с охотой.
Лимитрофы большого значения не имели, но были бы не лишними.
О настроении же офицерской эмиграции можно и не говорить. То есть шанс был. Но обязательно при серьезном внутреннем заговоре. Так что ОГПУ никак не могло выдумать его уже потому, что тут чекистов явно опережали спецслужбы Запада.
Рамзин признавался:
– От прямого технического вредительства центр быстро пошел к «плановому» вредительству, которое сводилось к таким способам планирования отдельных отраслей народного хозяйства, которые искусственно замедляли бы темп экономического развития страны, создавали диспропорцию между отдельными участками народного хозяйства...
Читатель! Это говорилось в конце 1930 года, всего через год после начала первой пятилетки. Еще не время было подсчитывать ее успехи и просчеты, и у Сталина не было необходимости объяснять неудачи вредительством.
Совсем не с руки было Сталину с Молотовым и расхолаживать народ якобы «выдуманными» в ОГПУ показаниями о том, что в пятилетний план, мол, уже при его создании были заложены «мины» планового вредительства. Ведь первой мыслью при этом было бы: «А надо ли выполнять такой план?».
Остается один вывод: Рамзин говорил правду. Есть один документ, который комментаторы-фальсификаторы приводят как обвиняющий Сталина: мол, вот как он придумывал «показания», которые следовало получать у арестованных по делу несуществующей-де «Промпартии».
Но это письмо Сталина председателю ОГПУ Менжинскому как раз внятно показывает, что «Промпартия» была реальностью, а показания ее руководителей не изобретали в сталинском кабинете. Описание деятельности Рамзина и его коллег (стенограмма процесса плюс материалы, приобщенные к делу) составило приличную книгу и было издано в Москве в 1931 году.
Материалы следствия были, естественно, вообще многотомными.
И за этой массой показаний и деталей могло легко ускользнуть основное – политический момент. Тянуть с процессом не позволяла обстановка, а следствие разрасталось. Чекистам были важнее конкретные детали внутреннего заговора, но Сталина как политика, как ответственного вождя страны, интересовали, естественно, не столько явки, сколько общий замысел.
С мыслью о необходимости такого подхода к следствию Сталин и писал:
«Тов. Менжинский!Письмо от 2/Х и материалы получил. Показания Рамзина очень интересны. По-моему, самое интересное в его показаниях – это вопрос об интервенции вообще и, особенно, вопрос о сроке интервенции. Выходит, что предполагали интервенцию 1930 г., но отложили на 1931 или даже на 1932 г. Это очень вероятно и важно. Это тем более важно, что исходит от первоисточника, от группы Рябушинского; Гукасова, Денисова, Нобеля, представляющих самую сильную социально-экономическую группу из всех существующих в СССР и в эмиграции группировок, самую сильную как в смысле капитала, так и в смысле связей с французским и английским правительством. Может показаться, что «Промпартия» представляет главную силу. Но это не верно. Главная сила – Торгпром. «Промпартия» – мальчики на побегушках у Торгпрома. Тем более интересны сведения о сроке интервенции, исходящие от Торгпрома. А вопрос об интервенции вообще, о сроке интервенции, в особенности, представляет, как известно, для нас первостепенный интерес. Отсюда мои предложения:








