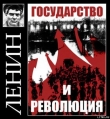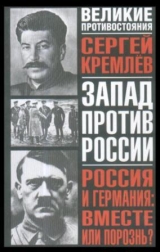
Текст книги "Россия и Германия: вместе или порознь?"
Автор книги: Сергей Кремлев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Гитлер протянул руку и сказал:
– Я тем более рад видеть вас, господин посол, что еще не истекли мои первые Сто дней. Как видите, едва-едва разобравшись с внутренними проблемами, мы тут же принялись выводить на широкую дорогу наши отношения с Россией.
Гитлер был любезен, улыбался и реагировал быстро и точно. Хинчук невольно наблюдал его и отмечал про себя, что рейхсканцлер явно умеет владеть собой, и при том обладает ярко выраженной индивидуальностью.
– Да, господин рейхсканцлер, Правительство СССР с удовлетворением восприняло ваше выступление 23 марта в рейхстаге. Однако вера моего правительства в будущее наших взаимоотношений за последнее время часто подвергалась суровым испытаниям.
– Суровым? Что вы понимаете, господин посол, под этим суровым словом?
– Неуважение к нашим гражданам, незаконные обыски...
– Возможно, возможно... – В голосе Гитлера возникли раздраженные и одновременно усталые интонации. – Видите ли, в Германии произошла революция. И хотя она не была кровавой, но как во всякой революции без эксцессов тут не обойтись. Вряд ли ваша страна уже забыла об этом, не так ли?
Гитлер умолк, собираясь с мыслями, взмахнул рукой, убирая челку, тут же спавшую опять на лоб. Словно смахнув что-то еще невидимое, вновь поднял руку уже предостерегающе, и начал:
– Господин Хин-чук, – он выговорил трудную фамилию раздельно, но тщательно. – Мы действительно только становимся на ноги. Однако уже теперь стоим твердо и устойчиво. Время перемен проходит, и наступает время работы. Это нужно констатировать как факт. Оба наших государства должны признать непоколебимость фактов взаимного существования на долгое время и исходить из этого в своих действиях. Наши страны – полноправные хозяйки каждая у себя. А хорошие хозяйки не вмешиваются во внутреннюю жизнь друг друга...
Гитлер на мгновение остановился, и Хинчук тут же вставил:
– Такое невмешательство всегда было нашим руководящим принципом и строго осуществлялось...
Гитлер испытывающе посмотрел на Хинчука, потом на Нейрата, потом опять на Хинчука. Потрогал себя за нос, опять посмотрел на Хинчука, теперь уже подольше и продолжал:
– Власть национал-социализма установлена раз и навсегда! Наши внутренние враги оказались крайне слабы. Честно говоря, я сильно переоценил силу и социал-демократов, и Тельмана. Партийная масса у коммунистов была неплохой, да и социал-демократы...
Гитлер прервал сам себя, засмеялся и с вызовом в голосе сказал:
– Вот если бы во главе их партий стоял я, то дело могло выглядеть совершенно иначе! Для рядового человека в коммунизме есть немало привлекательного... Но независимо от разности миросозерцаний, нас связывают взаимные интересы, и эта связь носит длительный характер. Причем я имею в виду и экономическую область, и политическую. Трудности и враги у нас одни... Вы должны заботиться о своей западной границе, мы – о восточной.
Напомню тебе, уважаемый читатель, что на запад от России была панская Польша. И она же была на восток от Германии.
Хинчук повел бровями то ли соглашаясь, то ли нет, но Гитлер как бы не заметил этого и продолжал:
– У Германии нелегкое экономическое положение, но и у Советов оно нелегкое. Думаю, нам надо всегда помнить, что обе страны могут дополнять друг друга и оказывать взаимные услуги. Наша эпоха трудна, господин посол... Чем явилось бы для Германии падение национал-социалистского правительства? Катастрофой! А падение Советской власти для России? Тем же! В этом случае оба государства не сумели бы сохранить свою независимость. И что бы из этого вышло?...
Хинчук увлекся слушанием, сам не замечая того. Гитлер был совершенно не похож на лощеного фон Папена, скользкого фон Шлейхера. Он был прост, естественен, а главное – за его словами была мысль, а не протокол.
А Гитлер, довольный вниманием этого «большевика», повторил свой же вопрос:
– Да, что бы из этого вышло?... И сам же ответил:
– Это привело бы ни к чему другому, как к посылке в Россию нового царя из Парижа. А Германия в подобном случае погибла бы как государство.
Фюрер помолчал, а затем уже деловым тоном закончил:
– Что касается конкретных вопросов... Нейрат, вы разбирались с ними?
– Да, мой фюрер! И говоря откровенно, считаю претензии господина Хинчука справедливыми.
– Разберитесь... Конечно, нам надо все это уладить. Что еще?
– Я уж не знаю, к кому с этим и обращаться, господин рейхсканцлер, – развел руками Хинчук. – Мы уже много раз обращали внимание германского правительства на гибельность его мероприятий для нашего экспорта. Мы много покупаем – особенно у вас. Значит – должны много платить. А основное средство платежа для нас – экспорт.
– Нейрат! – Гитлер повернулся к министру, – надо серьезно заняться этим. Сесть и поговорить, как быть дальше.
Затем он вновь посмотрел на Хинчука:
– Я поручу Гугенбергу связаться с вами и искать пути для согласования наших интересов. Рад был знакомству с вами, господин Хинчук. Если возникнут трудности, вы всегда можете обратиться ко мне лично. Лучший посредник – крепкое рукопожатие. И я буду к вашим услугам...
Читатель! Я не придумал этих монологов Гитлера. Они почти точно повторяют официальную запись об этой беседе Хинчука. И в этой речи Гитлер был несомненно искренен.
Со времени установления его канцлерства не прошло и трех месяцев. После того, как на волне дестабилизации он получил личную власть, фюрер крайне нуждался в стабилизации. И внутренней, и внешней. Тем более, что формально высшая власть все еще была у Гинденбурга – до его смерти 2 августа 1934 года оставалось еще больше года. Только после нее Гитлер провозгласил себя руководителем Германского государства, а Вооруженные силы принесли ему присягу на верность.
Положение Гитлера тогда еще не было абсолютным, хотя он уже стал единственно мыслимым фактором стабилизации Германии. Укрепить свои позиции ему надо было быстро, причем так, чтобы не накренить страну ни влево, ни чрезмерно вправо. Хотя пришел он к власти в процессе сдвига Германии вправо, а его политическую борьбу финансировал антикоммунистический Капитал, нередко враждебный по отношению к СССР.
И вот в своей первой беседе с полпредом Страны социализма Гитлер мыслил и говорил не как салонный политик прогнившей парламентской закваски, не как убежденный антикоммунист, вежливостью прикрывающий ненависть, а как вождь своей страны, сознающий ее интерес в том, в чем он и состоит на самом деле.
Противников курса на сближение с СССР, а не на вражду с ним, было много как внутри Германии – во всех слоях элиты, так и вне ее. Власти и возможностей у них было более чем достаточно. Провокации в такой ситуации становились не просто возможными. Они были неизбежны!
Но Гитлер искал путей не к провокации в качестве основного инструмента отношений с нами, а к такой прочной базе, на которой можно было бы спокойно заняться делами – каждый своими.
За несколько лет до этого солидная французская «Тан» писала: «Республике нужна, наконец, своя антикоммунистическая политика. Государственные власти должны пойти до конца в осуществлении столь часто провозглашаемых ими принципов и нацелить удары в голову и сердце коммунизма. Сохранять дипломатические отношения с Москвой и в то же время действовать во Франции против коммунизма – это все равно, что решать квадратуру круга».
И вот Гитлер, похоже, был готов решать эту квадратуру в условиях Германии.
Если бы Литвинов хотел, он бы понял сам и объяснил бы Сталину и Молотову, что случай с Германией и Гитлером принципиально отличается от остальных европейских «буржуазных» демократий.
Германия искала нечто среднее между разъединяющим людей капитализмом и коллективистским социализмом.
Гитлер в среде карьерных парламентских лидеров Европы был инородным телом не только из-за происхождения, но и по всей своей натуре – политической и человеческой.
«Друг СССР» Эдуард Эррио думал не об СССР, а о Франции и отводил СССР всего лишь роль затычки в прорехах французской политики.
И был при этом чистокровным во всех отношениях буржуа.
А Гитлер был социальным реформатором – то и дело непоследовательным и неустойчивым, однако – реформатором. И уже этим он мог быть ближе к нам, чем к буржуазной Европе...
Все эти болдуины, штреземаны, бенеши, коты и эррио боялись личной ответственности, как черт ладана. Даже не боялись – просто были на нее неспособны.
Гитлер же открыто шел к личной власти вождя, цементирующего усилия нации самим собой. Уже тогда рождался миф о том, что Гитлер – это исключительно «продукт Версаля», что он вознесся на чувствах унижения немцев и на жажде реванша. Чепухой такой взгляд назвать нельзя, но не в Версале было дело в первую голову... Гитлера привела к власти надежда немцев на лучшее общество.
Понять все это в силу служебного положения могли тогда именно люди из внешнеполитической сферы жизни советского общества.
Понять и переступить через идеологию так, как это готов был сделать Гитлер, было прямым служебным и гражданским долгом Литвинова и его сотрудников. Именно так! Тем более, что именно они вступали с руководством Германии в прямой контакт. Сталин в Берлин не ездил. Туда ездил (точнее, как правило, – останавливался проездом из «парижей» и обратно) Литвинов.
И как же Литвинов и литвиновцы исполняли этот долг? А вот так – мелочно и неумно.
Да они им попросту пренебрегали! И поступали прямо вопреки ему!
Устраивали, скажем, свары из-за того, что почта рейха задерживала толстенные бандероли с десятками (!) экземпляров «Правды» и «Известий» в адрес полпредства. Немцы в Москве получали свою прессу в диппакетах, но берлинское полпредство отвергало для себя такой же вариант.
И во имя чего? Чтобы вызвать дополнительные трения ради трений? Чтобы передать через «Дероп» компартии Германии пару лишних десятков «Известий»?
Тем не менее, 5 мая Дирксен и Литвинов обменялись в Москве ратификационными грамотами о вступлении в силу Московского протокола от 24 июня 1931 года.
«Фолькишер Беобахтер» откликнулась на это громадной редакционной статьей в двух номерах. Геббельс писал: «Этим актом национальное правительство Германии продемонстрировало, что оно намерено сохранять и развивать в дружественном духе политические и экономические отношения с Советским правительством».
Иначе реагировали «Известия», родное детище Стеклова-Нахамкеса, которые уже вот-вот начнет редактировать Бухарин (последнего 1936 году сменит Таль). Ничего, кроме скепсиса и брюзжания немцы там не нашли бы...
«Дружественные отношения вызывают дружественный ответ, враждебные действия вызывают соответствующий отпор», – так заканчивалась передовая «Известий» от 6 мая.
Что ж, недаром Семенов-Ляндрес вложил в уста своего Штирлица мысль о том, что запоминается последнее слово.
Впрочем, ситуация тогда еще не была упущена. 10 мая в Москву приехали пять немецких генералов во главе с начальником вооружений рейхсвера фон Боккельбергом.
Немцев познакомили с Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ), с полигоном в Луге, с заводами в Голутвине, Ленинграде, Харькове, Запорожье, Москве.
Формально приглашал их Тухачевский в ответ на свою поездку 1932 года по германским военным предприятиям. Но конечно же поездка и суть контактов были санкционированы Сталиным в Москве и Гитлером в Берлине.
Информацию о визите Сталин получал на этот раз из первых и надежных рук – от Ворошилова.
13 мая, на приеме у Дирксена, щеголеватый Клим говорил о стремлении поддерживать и дальше связи между «дружественными армиями».
Настроение было приподнятым, обстановка – вполне искренней. Дирксен сиял и был особенно радушен.
Но веселье весельем, а посольский прием – это не забава, а работа. И слово здесь – не воробей, потому что каждое серьезное слово тут же ловят и фиксируют обе стороны.
А как же – отчеты о «застольных» беседах потом изучают очень тщательно. И так же тщательно взвешивают то, что говорят.
Так что отнюдь не после лишней рюмки (тут не Париж, расслабляться нельзя) Тухачевский заявил немцам:
– Не забывайте, что нас разделяет наша политика, а не наши чувства, чувства дружбы Красной Армии к рейхсверу. И всегда думайте вот о чем: вы и мы, Германия и СССР, можем диктовать свои условия миру, если будем вместе.
Если бы сказанное шло вразрез с мнением Сталина, то оно бы просто не было сказано вслух, публично.
Ан нет... Тухачевский выступал сейчас в официальном качестве и «работал» тут «на Сталина», потому что говорил вещи, нужные и выгодные СССР.
Пикантность же заключалась в том, что такая линия Тухачевского была выгодна неофициально и ему самому.
В Германии умирал фон Сект. Как и французы Эррио, Эрбетт, он был патриотом. Но патриотом Германии. И поэтому не мог, задумываясь о Германии, не задумываться также о Франции и России.
В своей книге «Германия между Западом и Востоком» Сект писал: «Франция, носительница судеб Германии!».
Залогом же уверенной германской судьбы Сект считал Россию, но понимал: «Россия опасается, что Германия в один прекрасный день предаст свои дружеские отношения с Востоком в обмен на подарок на Западе».
В день похорон Секта фельдмаршал Бломберг отдал Гитлеру текст завещания покойного, где тот заклинал Гитлера не относиться с предубеждением к русским вопросам и прийти к соглашению с Советским Союзом.
Вскоре VII отдел Главного управления госбезопасности НКВД положил изложение этого завещания на стол Ворошилову...
«Очень интересный и почти правдивый документ. Умные немцы, даже фашисты, иначе и не могут рассуждать. KB», – написал в углу документа Клим Ворошилов.
Да, многое зависело от многого, но пока общая внешняя политика Союза зависела все же от того, как вел дело Литвинов.
А ТУТ, как назло (впрочем, для многих в Москве наоборот – как раз кстати), в июне подоспел и скандал с меморандумом Гутенберга на Международной экономической конференции в Лондоне, начавшейся 12 июня.
Свое логическое завершение история с этим меморандумом получила в августовской беседе (помнишь, читатель?) Дирксена и Молотова. Но шума она наделала много именно в июне. И еще больше принесла вреда.
Альфред Гугенберг – тогда ему было уже под семьдесят – имел яркий темперамент. Он дожил почти до девяноста лет, но как политик кончился тем же летом 1933-го. Гугенберг относился не просто к убежденным пангерманистам. Он-то Пангерманский союз в свое время и основал.
До пятидесяти он успешно возглавлял совет директоров Круппа, а потом, в 1916 году, завел свое дело и вскоре стал одним из самых могущественных промышленников Германии. Кроме того, в его руках были многие газеты, телеграфные агентства и издательства. Крупнейшая киностудия УФА тоже была его собственностью.
Гугенберг блокировался с Гитлером, ссорился с Гитлером, но помогал ему в начале тридцатых годов немало. В первом кабинете нового рейхсканцлера Гугенберг получил пост министра хозяйства, и 17 июня 1933 года он представил Лондонской конференции свой путаный и эмоциональный меморандум. Речь там шла об утраченных рейхом колониях, о необходимости новых земель «для энергичной немецкой расы», и много еще о чем. Поминалась не лучшим словом и Россия.
Враждебная и Германии, и Советскому Союзу лондонская «Дейли геральд» тут же начала выдергивать из меморандума фразы и толковать их вкось и вкривь, но с одним генеральным смыслом: вот, мол, здорово, вот здорово – немцы уже завтра пойдут войной на «Советы» за «жизненным пространством».
С пространством в Германии и впрямь было туговато: на квадратный километр приходилось 145 человек. У нас – 8, и даже в Европейской части – 23. А глава четырнадцатая знаменитого раннего труда Гитлера «Майн Кампф» толковала как раз о «лебенсраум», то есть об этом самом «жизненном пространстве» на Востоке.
Но что касается речей Гугенберга, то налицо была отсебятина кино– и газетного магната. Тем более, что идеи относительно «лебенсраума» Гутенбергу ни у кого занимать не приходилось. Наоборот – занимали у него.
Восточные земли были для бодрого пангерманиста таким «пунктиком», что он в тридцать лет, в 1894 году, пытался выкупать польские земли для расселения там немецких переселенцев. Ни отсутствием решительности, ни наличием тонкости бравый старый Фред никогда не страдал.
Для Литвинова выходка Гутенберга стала подарком судьбы: он мог теперь тыкать этим меморандумом в нос на всех углах, начиная с его любимых «Известий», где спешно опубликовали его интервью, и заканчивая заседаниями Политбюро.
Потом-то сам Молотов сравнил газетную фальшивку с подлинным текстом и понял, что дело не стоило выеденного яйца.
Но это было потом.
А сейчас Хинчука срочно командировали к фон Бюлову Выслушав очередные протесты, Бюлов устало и безразлично сказал:
– Я уезжаю в отпуск, так что официально вам все равно будет отвечать Нейрат. А неофициально скажу, что ответ будет острым. Очень уж вы чувствительны и придирчивы, господа... Газетчики переврали, а вы тут же рады строчить ноты. Я сам связывался с Лондоном и проверял аутентичность текста «Дейли геральд» и той части выступления Гугенберга, где идет речь об СССР. Говоря о новых поселениях, Гугенберг имел в виду Канаду, Чили и вообще Южную Америку. Говоря о колониях – Африку. А вас он попрекал низкой покупательной способностью. Да и тут больше досталось Китаю, чем вам.
– Кроме Гугенберга есть еще и Альфред Розенберг, рассуждающий об экспансии за счет СССР, – не сдавался Хинчук.
– Ах, Розенберг!... Рассуждать – это его хобби. Розенберг не имеет государственного статуса. Позвольте начистоту, господин Хинчук. Что бы вы сказали, если бы мы начали цитировать вам рассуждения основателя СССР Ленина о мировой революции? Или статьи из журнала Коминтерна? Ведь если бы мы исходили в своей практической политике из буквального их анализа, то нам бы уже давно следовало сойтись с Россией в смертельной схватке. А мы покупаем у вас рожь и продаем вам краны «Демага», трубы «Маннесмана» и турбины «Симменса»... Германия в отношении СССР стоит на точке зрения традиционных дружественных отношений и никогда не примет того участия в интервенции Антанты против вас, к которой нас кое-кто подталкивает.
Хинчук молчал, да и что тут можно было возразить? А Бюлов примирительно закончил:
– Я вчера весь день искал Гугенберга по телефону, но не мог доискаться. Вы же знаете, он полностью провалился со своей Национальной партией и занят делами по ее ликвидации.
Гутенберг был лидером крайне правой Национальной партии, нередко выступавшей совместно с гитлеровской НСДАП, но к лету 1933 года из партии Гутенберга начался массовый выход.
И оставалось лишь юридически этот крах оформить, что сейчас Гугенберг и делал.
Потерпел эксцентричный политик и еще одно фиаско. Гитлер отозвал его из Лондона и немедленно отправил в отставку. Отправил демонстративно, чтобы всем было ясно: причина в меморандуме, вызвавшем раздражение (пусть и малообоснованное) в России.
Гитлер явно не хотел, чтобы продление Берлинского договора повисало в воздухе, и лишний раз намекал, что готов к совместным поискам надежной почвы для отношений двух стран.
Через неделю Хинчука пригласил Нейрат:
– Дорогой господин Хинчук! Я передаю ответ на ваш протест...
– Благодарю, я передам его моему правительству.
– Господин Хинчук, я был удивлен и раздосадован, увидев интервью Литвинова в «Известиях». Зачем же так – на основании искажений «Дейли геральд»?
– А Розенберг?
– Ах, Розенберг... Вам не кажется, что отставка Гугенберга должна бы убеждать вас в дружественности наших намерений больше? Повторяю, тут явное недоразумение, но ваша острая реакция стала главной причиной его ухода. Фюрер не желает омрачать наши отношения даже недоразумениями. Он огорчен, что за последнее время со стороны СССР не замечается серьезных дружественных усилий. Напротив, тон советской прессы становится все более резким. К чему нам конфликты?
Хинчук, не отвечая на вопрос, упрямо продолжил:
– Меморандум понят нами верно. Там есть призыв к войне с нами...
– Ну вот, вы опять за свое...
– Союз заграничных немцев размахивает провокационными письмами о голоде немцев в СССР, а белогвардейцы из РОНДа участвовали в государственной демонстрации 1 мая.
– Дорогой господин Хинчук, за всем не уследишь. Эти «голодные» письма – это же психопаты. А РОНД мы закрываем. Надо ли вам объяснять, как многим выгодно поссорить нас?
– И все же, вам надо избавиться от теневых сторон, задевающих СССР.
Хинчук с «подачи» Литвинова добросовестно «отработал» в разговоре с Нейратом и дежурную тему «Деропа».
Не забыл он и об очередных арестах. Что ж, в Париже и Лондоне советских граждан задерживали крайне редко. Но значит ли это, что Франция и Англия были более дружественны СССР, чем рейх?
Да, они тоже торговали с нами. Но получали от нас в основном сырье, и не очень-то делились промышленным оборудованием. И это доказывало далеко не мирные настроения англо-французов. Сырье проще брать из колонии, полуколонии или войной.
А Германия поставляла нам индустрию. Товар, для колоний неподходящий. Однако Литвинов гнул свое: «Германия агрессивна»...
Напомню, читатель, что тут речь о 1933 годе. В тот год Германия была еще очень слаба и практически не имела боеспособной армии, запрещенной Версалем.
Только через год будет утверждена программа строительства люфтваффе с расчетом выхода к 1935 году на скромную цифру в четыре тысячи самолетов. Еще только начиналась серьезная подготовка боевых летчиков, способных сесть на эти самолеты.
Только через два года в Германии будет введена всеобщая воинская обязанность, а численность только-только образованного вермахта будет еще лишь планироваться на уровне 500 тысяч.
Массового производства танков в Германии не было и в помине.
Артиллерия слаба и стара.
Мы же осенью 1935-го провели знаменитые Киевские маневры, где на голову ошеломленных военных атташе и наблюдателей из Европы за десять минут свалилось две с половиной тысячи десантников. А Ворошилов при этом посмеивался: «Не видели вы, господа, десанта в шесть тысяч!».
В составе РККА было около миллиона человек.
Германия была слаба настолько, что когда весной 1936 года батальоны вермахта вошли в демилитаризованную Рейнскую зону, Франция, если бы захотела, могла прихлопнуть эти «войска», как муху!
А Литвинов в своих докладах рисовал Германию, готовую завоевывать СССР чуть ли не через неделю.
Да, Гитлер сразу же жестко подавил своих внутренних политических врагов – коммунистов и заодно социал-демократов. Но быть практическим антикоммунистом у себя в стране – еще не значит быть практическим антисоветчиком в отношениях с СССР.
Да, Геринг в ответ на заявление Димитрова о том, что коммунисты правят на одной шестой земного шара бросил в запале: «К сожалению!». Но мы же знаем уже, читатель, что перед этим Димитров его спровоцировал, по собственной инициативе заведя речь об СССР.
Коминтерновская печать писала потом, что Геринг обрушился-де «с нападками на Советский Союз». Но это было заведомой ложью. Геринг наоборот, даже взвинченный Димитровым, говорил, что ему нет дела до России. Даже плохо владея собой, он весьма ясно дал понять, что руководители рейха готовы делать различие между коммунистами в Германии и коммунистическим руководством великой державы.
А если присмотреться к шуму вокруг «Деропа»?
Кроме того, что он был бельмом в глазу детердингов, он же в 1933 году не сходил и с языков литвиновского «воинства». Но почему только «Дероп»?
Почему только он был объектом «провокаций», обысков, бойкотов? Ведь были еще «Дерулюфт» – Русско-германское общество воздушных сообщений, «Дерунафт» – Общество торговли нефтью, «Дерутра» – Складочное и транспортное товарищество.
И там почему-то обходилось без бойкотов.
Почему же? Наверное потому, что в этих обществах, не имевших всегерманской сети, подобной «дероповским» бензоколонкам, обходились без «совмещения» обязанностей по части заданий Коминтерна...
Годовой отчет полпредства СССР в Германии за 1933 год, составленный секретарем Хинчука Гиршфельдом в соавторстве с Бессоновым, Виноградовым, Иоффе, Троянкером, Изансоном, Левитиным, Гасюком, был на самом деле крупной диверсией.
Написали его ловко: «1933 год был переломным годом в развитии советско-германских отношений. Приход фашистов к власти в Германии поставил в порядок дня германской внешней политики осуществление давнишних антисоветских планов Гитлера и Розенберга. Конечная цель этих планов состояла в создании антисоветского блока стран Западной Европы под руководством Германии для похода на СССР».
Да, картина получалась «внушительная», «грозная» и «правдоподобная»: обязанная Франции Версалем, на деле расчлененная версальским «польским коридором», лишенная авиации, танков и флота Германия с парой десятков дивизий образца 1933 года, «руководит» новым крестовым походом Европы на СССР.
Что должно беспокоить дипломата? В чем его долг перед страной? Безусловно, в первую очередь – обеспечить ей мирные и дружные отношения со страной пребывания.
Во вторую – обеспечить отношения выгодные. Дипломат призван мирить и соединять, а не ссорить и разъединять народы и государства.
Но в гиршфельдовском отчете не было места размышлениям о том, что и почему не удалось сделать в Германии для укрепления связей с ней, для создания атмосферы дружбы, или хотя бы отсутствия вражды.
Этого в отчете не было.
Зато там было другое: «Советская общественность и Советское правительство с чрезвычайной настороженностью и скепсисом отнеслись к «миролюбивым» заверениям Гитлера от 23 марта и 17 мая, к ратификации Берлинского договора и к выступлению Нейрата от 16 сентября 1933 г., считая эти выступления и акты лишь маневром».
И далее «козни фашистской Германии» опять расписывались в «лучшем виде»...
Германия была не «фашистской», а нацистской, но эта неточность всего лишь показывала демонстративное неумение и нежелание полпредства разбираться в идеологических тонкостях нового государственного порядка. И это было бы еще полбеды.
Хуже было то, что вину за двухлетние проволочки с ратификацией Берлинского договора литвиновские соратники перекладывали с настоящих виновников – Брюнинга, фон Папена, фон Шлейхера и веймарского режима – на Гитлера.
То есть на того, кто придя к власти в январе, добившись с использованием антикоммунистических и антисоветских карт победы на выборах в начале марта, уже в конце марта фактически дезавуировал свой прошлый курс, в начале апреля заявил о готовности к ратификации, а в начале мая ее уже ПРОВЕЛ...
Хорош «маневр»! Что он давал в то время фюреру, кроме очевидного недовольства поддерживавших его промышленников и – вот уж действительно – настороженности того капиталистического Запада, с которым ему еще предстояло сыграть непростую и многотуровую игру...
Да, собственно, игра уже и началась. И Запад сразу шел в ней с антисоветских карт в расчете на то, что Гитлер начнет тут же их принимать.
Одновременно Запад провоцировал и нас. Того же 5 мая, когда Дирксен и Литвинов обменивались ратификационными грамотами, английская «Дейли телеграф» опубликовала интервью Гитлера, где фюрер якобы говорил, что Германия будет целиком занята поисками жизненного пространства на востоке Европы.
НКИД Литвинова тут же ухватился за это перевранное заявление и подсунул дополнительно перевранные переводы Молотову.
И теперь уже не сам «демократический» Запад, а Литвинов в угоду этому Западу растравлял желчь советского премьера.
Молотов по русской привычке газетам верил. Представить себе, что англичане способны на такое наглое передергивание, он не мог. Тем более, что текст на его стол укладывало собственное внешнеполитическое ведомство.
И за литвиновскими «негодованиями» у Молотова как-то не возникала простая, достаточно очевидная мысль: «Ну не круглый же дурак Гитлер! Можно, конечно, вести двойную игру, но вести ее открыто может только сумасшедший. В политическом уме и ловкости фюреру, вроде бы, не откажешь. А тут он, что – выходит, дал маху?».
Основания для таких рассуждений были, что называется, «на слуху»...
Суди сам, читатель, на что это похоже: 28 апреля лояльно вести себя с Хинчуком, 5 мая официально подтвердить верность советско-германскому договору 1926 года и в тот же день – если верить английской газете, заявлять «по секрету всему свету», что Германия, мол, ни о чем другом не думает, кроме как о том, как бы захватить СССР.
Пожалуй, за таким «интервью» не надо было ездить в Берлин – хватило бы похода в лондонский Бедлам, где всегда хватало разных «наполеонов» в смирительных рубашках.
А Гитлер был умным политиком.
Еще со времен Гражданской войны, Генуэзской конференции и Локарно у Антанты было одно желание в отношении Германии и СССР: стравить. Стравить в расчете на то, что сапог германского солдата раздавит новую жизнь России.
Ради этого затевались конференции, встречи, намеренные «утечки информации» и газетные статьи. В чем тут загвоздка, Гитлер знал прекрасно и умел этим пользоваться. Под дымовой антисоветской завесой он входил в Рейнскую зону, перевооружался, получал кредиты и усыплял бдительность Запада.
Но палка без двух концов не бывает. И вот одним-то концом она раз за разом ударяла по отношениям с Россией.
Больно?
Если честно – не очень... За весь 1933 бурный, решающий, переломный – «туда» или «сюда» – год в Германии было проведено всего 39 кратковременных арестов советских граждан и 69 обысков на их квартирах, причем иногда аресты и обыски совмещались.
А помня о «коминтерновском» оттенке «Деропа». надо признать, что не всегда обыски были необоснованными.
Для такого года как германский 1933-й, число поводов для нашего недовольства, в общем-то, было невелико. А вот одних письменных нот германскому МИДу наркомат Литвинова подал аж 217 (!), не считая «бесчисленных устных заявлений».
Эпитет «бесчисленных» – не плод моего творчества. Это выражение из отчета полпредства в Германии за 1933 год.
Да уж, с такими талантами да на одесский бы Привоз. Все торговки разбежались бы, видя, как из мухи делают слона.
А стоило ли поднимать из-за, по сути, мелочей, такой уж всеевропейский крик?
Конечно, журналистка Кайт страху натерпелась. Так ей же это было только полезно – описание «зверств» выглядело натуральнее.
Хотя на деле доходило только до грубости. Конечно, и грубость немцев не красила, но... Но какой могла бы оказаться цена нашей предельной сдержанности? Цена нашей выдержки?
А вот какой: стабильность отношений с Германией.
Разве этого было мало?
На одну чашу весов враги Германии и России бросали единичные эксцессы. А что могло быть положено на другую чашу весов?
На другой могли оказаться рядом, как писал посол Эрбетт министру Эррио в 25-м году, «Германия и Россия, обе возродившиеся»...