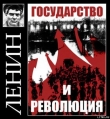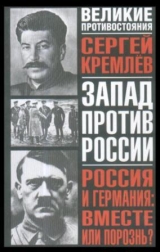
Текст книги "Россия и Германия: вместе или порознь?"
Автор книги: Сергей Кремлев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Французы соглашались, и осенью в швейцарском Локарно были парафированы Локарнские соглашения, принятые на конференции, проходившей с 5 по 16 октября. Основные идеи были тут те же, что в германском меморандуме, только к странам, подписавшим Рейнский гарантийный пакт, прибавилась Бельгия. США формально остались в стороне, а державами-гарантами становились Англия и Италия.
Кроме этого были подписаны франко-германский, германо-бельгийский, германо-польский и германо-чехословацкий договоры об арбитраже. Впрочем, в нашем повествовании все это – лишь присказка. Для нас важно сейчас то, что Германию в Локарно очень пытались сбить на вражду с СССР и давили на нее крепко, но немцы устояли. Они даже немедленно заключили с нами отдельный договор, чтобы доказать нам, что в Локарно никаких антисоветских обязательств они на себя не взяли. Этот договор, читатель, мы еще вспомним не раз.
Надежный способ понять атмосферу эпохи, в том числе и «локарнскую ситуацию», – это обратиться к свидетельству компетентного и активного участника эпохи.
В 1926 году в Берлин приехал народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, и нам, уважаемый мой читатель, будет полезно познакомиться с некоторыми его берлинскими впечатлениями.
Вот что, например, говорил ему выдающийся немецкий востоковед, тоже министр народного просвещения – только бывший, Фридрих Шмидт-Отт: «Вы говорите, что улицы Берлина демилитаризованы. Но как это печально! На мой взгляд, нет большего вреда, нет большего унижения, какое можно нанести народу, чем лишить его армии. Не подумайте, что я говорю это с точки зрения какого-то восстановления империализма. В эту минуту я имею в виду даже не оборону, а колоссальное воспитательное значение армии. Вас можно поздравить с тем, что вы имеете вашу Красную Армию. Мы прекрасно знаем, как удачно вы пользуетесь ею для воспитания вашей рабочей и особенно крестьянской молодежи. Конечно, воспитание нашей армии во многом было бы совершенно иным, но поднятие физической культуры, общеумственного уровня и сознания своей связи с целым – остается. Потеряв армию, мы потеряли один из методов национального воспитания».
Собственно, из всех великих народов в новейшие времена на роль армии так смотрели только два – немецкий и советский.
В своих «Письмах из Берлина», которые публиковались в «Красной газете», Луначарский восхищался: «В Берлине работа повсюду кипит... И весь Берлин напоминает усовершенствованную фабрику, где сосредоточенно, организованно и усердно работает почти все население, словно пытаясь перемолоть этой работой свою жестокую судьбу», и прибавлял: «И в отношении культурном немцы работают крепко и интересно».
При этом Луначарский писал: «Огромное большинство немцев, особенно интеллигенции, относится к Союзу, во-первых, как к политической опоре, во-вторых, как к стране, где проделывается исключительный и волнующий эксперимент».
А вот и его строки, прямо относящиеся к Локарно: «Обсуждение в рейхстаге Локарнского договора глубоко взволновало весь Берлин, деля его на разные лагери и – в разной мере – во всех возбуждая еще более обостренный интерес к России».
«Луначарский-Наркомпрос» сообщал, что локарнские разногласия «рассекли Берлин на четыре большие группы».
Надеюсь, уважаемый читатель, что тебе будет интересно узнать, что кроме, естественно, коммунистов, наиболее яро против локарнских идей выступали... правые, то есть националисты. Они видели в Локарно окончательную сдачу Германии на милость Англии, и как писал Луначарский, «это заставляло их... даже в самых реакционных кругах как-то судорожно хвататься за Советский Союз, который, благодаря политической ситуации, становился как бы единственной опорой в предстоящих перипетиях вассального существования Германии».
Круги, поддерживавшие правительство, – то есть сами «локарнисты», – с правыми были, по сути, согласны. Министр государственного хозяйства Ганс фон Раумер так и сказал гостю из Москвы:
– Вы понимаете, что чем яснее для нас неизбежность локарнского соглашения, тем резче мы должны подчеркнуть неизменность нашей дружбы с Союзом.
И действительно, свой публичный доклад о торговом договоре с СССР Раумер тогда построил как намеренную демонстрацию сохранения и развития наилучших отношений между Германией и Россией.
Остается осведомить читателя, что единственной крупной политической группой, которая, по словам Луначарского, «восхищалась перспективами Локарно и продолжала свою политику злобного брюзжания против Советов», были... германские социал-демократы.
Луначарский, возможно сам того не сознавая, а просто за счет склонности к литераторской точности, в двух деталях показал и гнусность будущей расположенности своего коллеги Литвинова к французам, а также необоснованность его холодности к немцам даже в Веймарские времена.
Вот эти детали – одна «берлинская», а другая – «парижская», подмеченные Анатолием Васильевичем: «Отмечу... необыкновенную любезность германского и прусского правительства. На приеме, устроенном нашим полпредством по поводу моего приезда, вместе с представителями науки, литературы, театра, прессы были и очень многие члены правительства, начиная с рейхсканцлера Лютера и прусского министра-президента Отто Брауна».
Так встречали посланцев России в Берлине.
А вот так – в Париже: «Маленький штрих: в Париже тоже имел место прием, притом посвященный не случайному гостю (собственно, Луначарский останавливался в Берлине проездом в Париж. – С.К.), а тов. Чичерину, и отметивший вручение верительных грамот нашим полпредом президенту. Все перечисленные мною выше элементы (т.е. «наука, литература...» и т.д. – С.К.) были представлены и здесь, но не было ни одного министра».
К слову – доклад Луначарского о культурном состоянии СССР был сделан в переполненном Большом зале Берлинской консерватории, а председательствовал на вечере президент рейхстага социал-демократ Пауль Лебе (в 1933 году он открыто поддержит Гитлера).
В честь советского наркома немецкие ученые устроили специальный завтрак, где из не менее чем ста человек, сидевших за столом, каждый был обладателем громкого имени. Выступали Макс Планк, Шмидт-Отт, великий историк религий Гарнак...
Но вот поднялся известный историк и знаток России профессор Отто Гетч и произнес речь, которую закончил так: «В тяжелый час, почти в тот самый час, когда решается судьба локарнского соглашения, мне лично, врагу этого соглашения, хочется от лица собравшихся здесь ученых, разно к нему относящихся, заверить нашего гостя, что для всех нас одинаково ясна глубокая выгодность и даже безусловная необходимость самой серьезной опоры друг на друга наших народов. Разница социального строя никак не может помешать этому... Не вмешиваясь во внутренние дела вашей страны, мы от души желаем ей спокойствия и роста, уверенные, что ее возрождение и растущая мощь могут быть лишь источником блага для немецкого народа».
Такие слова были кому-то и костью в горле, и вилами в бок, и камнем преткновения, и...
И стимулом к действиям, которые были движимы идеями, прямо противоположными идеям профессора Гетча и его коллег – сотрапезников Луначарского.
Наши контакты в двадцатые годы и позже были настолько широки, что германский посол в Москве фон Дирксен позднее признавался: «Я не думаю, что какая-либо страна прежде или теперь располагала столь подробным информационным материалом о Советском Союзе, как Германия в эти годы...».
А за счет чего же германское посольство на рубеже двадцатых—тридцатых годов и позднее было так хорошо о России осведомлено? Сам же Дирксен на этот вопрос и отвечал: «Инженеры, разбросанные по всей России, представляли для меня ценный источник информации».
Кто-то скажет – это же шпионаж! Но немецкие инженеры, во-первых, поддерживали контакты с посольством вполне открыто. А во-вторых (и это было наиболее существенным), они были приглашены к нам официально и активно участвовали в реализации советских пятилетних планов.
4 сентября 1928 года в Берлине был создан Комитет немецкой экономики по России, и в его отчете за 1929/30 хозяйственный год сообщалось: «Особую главу представляет консультация специалистов, желающих поехать в Россию... С лета 1929 года консультацию – письменную и устную – получило около 1100 специалистов, большей частью инженеров..., а также химики, архитекторы, мастера, квалифицированные рабочие, а в отдельных случаях сельские хозяева, лесничие и ученые».
Надеюсь, уважаемый мой читатель, что цитата эта достаточно красноречива сама по себе. Обращу лишь твое внимание на то, что 1929 год – это год лишь изготовки к широкой социалистической реконструкции России.
И даже в этот – еще не ударный – год Германия направила Советам целый полнокомплектный ударный «инженерный батальон».
Так было в 1929 году. А какие настроения были у немцев позднее?
Ну вот, скажем, февраль 1931 года.
Президент Германского общества по изучению Восточной Европы Шмидт-Отт с 1920 года и член наблюдательного совета «ИГ Фарбен» (знакомый нам по его беседам с Анатолием Васильевичем Луначарским) пишет письмо министру иностранных дел Юлиусу Курциусу (который сменит Шмидт-Отта на посту президента Общества через год): «Я всегда полагал, что имею право рассматривать всю деятельность общества как содействие развитию наших отношений с Россией».
Пожалуй, стоит сразу же задаться и следующим вопросом: «А как там было еще позднее – в уже нацистские времена?».
Что ж, берем памятную записку Общества за апрель 1933 года и читаем: «По отношению к Советскому Союзу общество – как его ответственные руководители, так и рядовые сотрудники, – занимало позицию, в точности соответствующую линии, сформулированной в речи г-на рейхсканцлера Гитлера, произнесенной в рейхстаге 23 марта 1933 года: культивирование хороших отношений с Россией при одновременной борьбе против коммунизма в Германии. Именно уничтожение коммунизма в Германии расчистило путь к хорошим отношениям с Россией, которым более не мешают препятствия внутриполитического порядка».
Впрочем, остановиться на этих годах у нас еще будет повод и возможность в дальнейшем. Пока что на календаре европейской политики была эпоха Германии Веймарской, все более активно сотрудничающей с «допятилеточным» Советским Союзом...
В этой Германии далеко не все были рады сотрудничать не просто с русскими, а с советскими русскими.
Было немало и таких немцев, которые очень хотели бы дружбы с Россией, но по сердечной склонности стремились поддерживать знакомство с «некоммунистическими» кругами московской общественности. Однако и им приходилось убеждаться в том, что круги-то такие имеются, но перспектив у них (у этих кругов) нет. Особенно – если иметь в виду перспективы экономические.
Перспективы же у советско-германских отношений были, очевидно, хорошими, что пугало как наших европейских недоброжелателей, так и, конечно же, могущественных недоброжелателей американских, уже в 1920-е годы подумывавших о новой европейской войне...
КАК НИ странно, разрушить наши тогдашние германские связи хотели не только в Лондоне и Вашингтоне, но также в Москве и в коммунистических кругах Берлина. Чичерин все чаще болел, а лечился всегда в Германии и мог наблюдать ситуацию вблизи. 3 июня 1927 года он писал из Франкфурта Сталину и Рыкову: «Компартии относятся самым легкомысленным образом к существованию СССР, как будто он им не нужен. Теперь, когда ради существования СССР надо укреплять положение прежде всего в Берлине, ИККИ (Исполком Коминтерна. – С.К.) не находит ничего лучшего, как срывать нашу работу выпадами против Германии, портящими все окончательно».
С этим письмом вышла настолько интересная история, читатель, что хотя бы в скобках на ней надо остановиться. Когда Хрущеву понадобилось оклеветать Сталина, то в «Известиях» от 4 декабря 1962 года появились без указания адресата, извлечения из письма с комментариями насчет того, что Чичерин-де высказывал здесь недовольство... Сталиным. Итак, по хрущевской фальшивке выходило, что Сталину жаловались на него самого. И эту же фальшивку воспроизвел уже послеперестроечный клеветник на Сталина Федор Волков в книге «Взлет и падение Сталина». Хотя Чичерин ясно указывал направление своего негодования: «Хулиганизированный Коминтерн! Проституированный Наркоминдел! Зиновьевцы руководят делами»...
Вместо Чичерина оставался теперь Максим Литвинов и он такой «хулиганизированной» политике ИККИ только подыгрывал. Причем Литвинов склонялся к ориентации на Англию, и было это не случайным заблуждением. Максим Максимович Чичерина люто ненавидел и всячески старался дискредитировать. И это тоже не было случайным, но поговорить о Литвинове у нас еще будет времени более чем достаточно, читатель. Вернемся к Чичерину, который в конце 1920-х уже доживал как нарком последние дни.
Не Сталин был тому причиной. Прекрасно понимая сложность ситуации с Чичериным, он, тем не менее, внятно заявил, что Георгий Васильевич должен быть наркомом, «даже если будет работать по два часа». Но в конце 20-х сам Сталин был еще далеко не всесилен, а интрига против Чичерина велась мощная, хитрая, чисто троцкистская по методам. Чичерин предлагал назначить на свое место Молотова, однако тайный элитный союз троцкистских и зиновьевских соратников внутри партии выталкивал вперед Литвинова. И будущее покажет, что на то были особые и дальновидные (для врагов России) причины...
18 октября 1929 года Чичерин пишет Молотову: «Меня крайне волнует гибельное руководство Коминтерна, стремление Москвы во что бы то ни стало испортить в угоду Тельману отношения с Германией». А еще раньше он сообщает Сталину: «Я считаю глубоко ложным, когда международное положение СССР подрывается и подвергается опасности только для того, чтобы плохо клеящаяся агитация т. Тельмана могла пойти чуть лучше».
Сталин понимал его прекрасно, хотя Литвинов и троцкисты из ГПУ чернили Чичерина перед Сталиным почем зря. Но всерьез отвлекаться на внешние дела у Сталина просто не было возможности. Начиналась ПЕРВАЯ пятилетка. Ее успех или неуспех определял все – и положение СССР, и положение самого Сталина. Поэтому, до крови борясь за свою внутреннюю – единственно спасительную для страны линию, Сталин еще не имел сил на такую же безошибочно верную свою внешнюю линию. От внешней политики он пока мог требовать только обеспечения поставок иностранной техники и оборудования для нужд будущей пятилетки.
19 ноября 1928 года Сталин выступал на пленуме ЦК:
– Вопрос о быстром темпе развития индустрии не стоял бы у нас так остро, как стоит он теперь, если бы мы имели такую же развитую промышленность и такую же развитую технику, как, скажем, в Германии, если бы удельный вес индустрии во всем народном хозяйстве стоял у нас так же высоко, как, например, в Германии. В том-то и дело, что мы стоим в этом отношении позади Германии и мы далеко еще не догнали ее в технико-экономическом отношении.
Вопрос о быстром темпе развития индустрии не стоял бы так остро, если бы мы представляли не единственную страну диктатуры пролетариата, а одну из стран пролетарской диктатуры. При этом условии вопрос об экономической самостоятельности нашей страны, естественно, отошел бы на задний план, мы могли бы включиться в систему более развитых пролетарских государств, мы могли бы получать от них машины для оплодотворения нашей промышленности и сельского хозяйства, снабжая их сырьем и продовольственными продуктами. Но вы знаете, что мы не имеем этого условия. Вот почему вопрос о том, чтобы догнать и перегнать экономически передовые страны, Ленин ставил как вопрос жизни и смерти нашего развития.
Веймарская Германия не была страной пролетарской диктатуры, но наши экономические взаимоотношения все более напоминали ту схему, о которой говорил на пленуме Сталин. Только вместо готовых машин (а вернее – вместе с ними) мы получали от Германии все больше промышленного оборудования, которое позволило бы нам быстро производить собственные машины. США и Англия на такое идти зачастую не хотели, Франция – не могла по причине своей прогрессирующей отсталости.
Построить экономическую основу социализма мы могли лишь с помощью немцев. Но и наши рынки имели тогда для немцев первостепенное значение. Это обстоятельство было настолько очевидным, что укрепляло наши отношения лучше чем какие-то личности, и никакие личности в тот момент не могли советско-германским связям помешать всерьез и сорвать их. Вот почему Сталин не просто успокаивал больного Чичерина, а констатировал факт, когда 31 мая 1929 года писал ему:
«Все Ваши письма получаю, и большую часть из них рассылаю для сведения членам инстанции. Ввиду перегрузки в связи со всякими съездами я не мог до сих пор ответить Вам. Прошу извинения. Когда думаете вернуться в Москву на работу ? Было бы хорошо вернуться немедля по окончании курса лечения в Висбадене. Что скажете на этот счет ?
Я думаю, что несмотря на ряд бестактностей, допущенных нашими людьми в отношении немцев (бестактностей немцев по отношению к СССР имеется не меньше), дела с немцами у нас пойдут хорошо. Им до зарезу нужны большие промышленные заказы, между прочим для того, чтобы платить по репарациям. А они, т.е. заказы, на улице не валяются, причем известно, что мы могли бы им дать немаловажные заказы. Дела с немцами должны пойти.
С комм, приветом, И. Сталин».
Сталин писал уважительно и надеясь на Чичерина, как на активный штык. Но тонкая, нервная натура Георгия Васильевича не выдерживала уже организованной травли, и его гонители своего добились: 21 июля 1930 года Чичерина освободили от должности наркома, а 22 июля наркомом был назначен-таки Литвинов. Советской внешней политике предстояла внешне блестящая, а на деле черная полоса. Предвидя это, Чичерин написал в начале июля огромную служебную записку, судя по ее тону и смыслу – своему преемнику, которым он явно видел Молотова. Узнав о победе литвиновской клики, Чичерин, несомненно, должен был нечто подобное направить Сталину и тому же Молотову, но по причинам неясным к этим адресатам ничего не попало. А был в этом документе Чичерин по-прощальному прозорлив и кое-что нам из его последних записей знать надо – чтобы будущие события представали перед нами не в искаженном, а в подлинном их значении.
Начал Чичерин с нелестных слов по адресу своего заместителя – Литвинова, и лестных – по адресу одного из давних советских дипломатов Карахана. С последним Чичерин был очень короток, но сам же как-то писал о нем: «красивая внешность и хорошие сигары». О члене Коллегии НКИДа Стомонякове сказано было так: «т. Стомоняков сухой формалист, без политического чутья, драчливый, неприятный, портящий отношения»... Портрет, надо сказать, типичный для троцкиста. Кстати, литвиновского любимца Юренева Чичерин прямо как троцкиста и определял.
Уже скоро Литвинов сделает печать средством вызвать вначале недоумение, потом раздражение, а еще потом и озлобление немцев против все более бездарной и высокомерной литвиновской внешней политики по отношению к Германии. С нашими корреспондентами в Берлине давно было неблагополучно, и Чичерин предупреждал:
«Полпред должен проверять посыпаемые в Москву телеграммы представителей ТАСС. Но т. Крестинский (в то время полпред в Берлине. – С. К.) упорно отлынивал: и работа лишняя, и ответственность. И берлинский корреспондент ТАСС, и слишком бойкая Кайт из «Известий» постоянно вредят нашей политике; надо заставить Крестинского (который не хочет) контролировать их. А один из важнейших вопросов – контроль НКИД над прессой. Несколько раз я прямо спасал положение, когда какой-нибудь идиот из братской компартии проталкивал чудовищную нелепость. Например, Реммеле дал в «Правду» статью о том, что по неопровержимым сведениям Германия получила право утроить численность рейхсвера и за это вступила в антисоветский фронт. Эта ребяческая ложь была страшно вредной, чистая провокация. Очевидно невежды из КПГ захотели этой дикой чепухой подкрепить обычное тельмановское лганье. Если бы я не задержал эту гадость, был бы величайший скандал».
Георгий Васильевич не случайно особо беспокоился о берлинских корреспондентах – именно там находились наиболее важные наши нити во внешний мир, и именно там их было легко рвать, но непросто связывать вновь. Литвинов как раз и собирался рвать – да и рвал, уже около двух лет фактически подменив Чичерина, который возмущался: «Самым вандальским актом было уничтожение берлинского бюро т. Михальского. Чьи-то мне неизвестные, закулисные интриги к этому привели. Постоянными врагами бюро были тт. Литвинов и Крестинский, а врагом т. Михальского – Уншлихт».
Бюро Михальского вполне легально собирало различную политико-экономическую информацию прямо в гуще событий, обрабатывая литературу, налаживая личные контакты во всех кругах. Оно было, по словам Чичерина, образцовым. Но Литвинову, его будущему заму Крестинскому, Уншлихту точная информация о Германии не требовалась – им были нужны тенденциозные антигерманские материалы, а с этим отлично справлялась «бойкая» журналистка Кайт. И не из-за лени Крестинский увиливал от контроля за печатью. Смысл тут был иной: видимость отстраненности НКИДа позволяла московским газетчикам действовать в Берлине более свободно и независимо, то есть провокационно. А полпредство только разводило перед немцами руками: мол, свобода печати...
Чичерин считал, что «нарком иностранных дел должен быть всегда на месте» и напоминал, что «80-летнего Горчакова будили ночью из-за спешной телеграммы, а 75-летний Лобанов среди ночи спускался в канцелярию, чтобы отослать спешную телеграмму, посмотреть, что получено». При Чичерине так и было, а Литвинов ввел чисто канцелярский стиль: приходил ровно в девять и уходил ровно в шесть.
Еще одна боль была у уходящего Чичерина – Коминтерн. Чичерин писал:
«Из наших, по известному шутливому выражению, «внутренних врагов» первый – Коминтерн. До 1929 года неприятностей с ним хоть и было много, но удавалось положение улаживать. С 1929 года положение стало совершенно невыносимым, это смерть внешней политики. Макс Гельц получил Красное Знамя за преступление против дружественного германского правительства (Гельца наградили по приказу Реввоенсовета СССР №578. – С. К). В 1928 году был поставлен вопрос об удалении иностранных коммунистов из наших полпредств, торгпредств, разных экономических учреждений, банков и представительств ТАСС. В Берлине весь актив партии сидел в наших учреждениях; это была форма финансирования партии. Ужасное безобразие – наше радиовещание. Когда во время германских стачек мощная радиостанция Исполкома Коминтерна в Москве по-немецки призывает стачечников к борьбе, или когда она призывает немецких солдат к неповиновению, это нечто недопустимое. Никакие международные отношения при таких условиях невозможны».
Чичерин рассуждал здесь как настоящий русский советский патриот: внешние связи СССР должны укреплять не компартии за рубежом, а позиции СССР. Но Литвинова и тех, кто стоял за ним, вполне устраивали такие условия в Германии, при которых была невозможна нормальная наша политика в Германии же. Коминтерн в Германии и был хорошим инструментом для организации разлада межгосударственных отношений.
26 июля 1930 года Максим Максимович, демократически расположившись на крылечке НКИДовского особняка на Спиридоновке, давал иностранным корреспондентам первое интервью в ранге наркома.
Его сразу же спросили:
– Господин Литвинов, не приведет ли новое назначение к изменениям во внешней политике?
– Нет, у меня был опытный предшественник, и мы с ним активно работали сообща над одним и тем же.
Но уже из первой тронной речи Максима Максимовича было видно, что изменения в политике будут. Хотя он уже не первый год был фактическим наркомом, исполнять обязанности и быть полноправным хозяином – вещи, все же, разные. И вот теперь, получив полную волю, Литвинов сразу же показал зубы Германии. Формально он не назвал «поименно» ни одной страны, а сказал так:
– Мы не скрываем, что при осуществлении нашего растущего экономического строительства мы хотели бы рассчитывать на дальнейшее расширение экономических связей с другими государствами. Но здесь мы встречаемся с противоположными стремлениями отдельных враждебных капиталистических групп. Их усилия направлены как будто бы главным образом против нашего экспорта, но на самом деле против всего нашего внешнего товарооборота, ибо. сокращение нашего экспорта неизбежно привело бы и к соответственному сокращению нашего импорта.
Сказано было хитро. Германия стала не просто нашим главным торговым партнером, а подавляюще главным. Обширность связей – неизбежные недоразумения. Однажды так уже было в отношениях России и Германии – в прошлом веке. И тогда как раз экспортно-импортные неурядицы помогли врагам российско-германской дружбы развести нас и привязать Россию к Франции, потом – к Антанте, а в конце концов – к губительной и ненужной для России мировой войне. Теперь возникали неясные перспективы того, что все могло повториться. И скрытые литвиновские угрозы уже в первом интервью не могли немцев не настораживать. Тем более, что последние два года Чичерин на дела НКИД уже почти не влиял, вся оперативная работа шла под рукой Литвинова. А чем прочнее сидел в кресле Литвинов, тем хуже становились наши «немецкие» дела. А ведь импорт из Германии был особого рода: мы импортировали оттуда наше независимое будущее, нашу индустриальную мощь. Бороться за наш экспорт, конечно, надо было. Но грозить? Такой подход выходил боком прежде всего нам.
Литвинова и новую когорту литвиновцев это не смущало. С конца 1929 года под влиянием Литвинова все суше, официальнее, придирчивей к второстепенным мелочам становится окраска берлинских бесед нашего полпреда Крестинского и его зама Бродовского со статс-секретарем МИДа Шубертом и министром иностранных дел Курциусом. Соответственно возникает нервозность и в московских беседах Литвинова и Стомонякова с послом Германии фон Дирксеном. А их главной темой становятся не экономические связи, а советские претензии к тону немецких газет, ведуших-де «антисоветскую травлю».
«Известия» 24 апреля 1930 года в передовой, посвященной четырехлетию Берлинского советско-германского договора, не нашли никаких более добрых слов, кроме вот таких: «Вся тактика германского правительства сводится к нагромождению претензий, имеющих цель задним числом оправдать злопыхательство германской прессы и злобные антисоветские выступления». Эту фразу можно было на долгие годы взять эпиграфом ко всей литвиновской «германской» политике, хотя рыльце троцкистско-зиновьевской Москвы было очень в пуху: многочисленные советские учреждения в Германии действительно использовались как опорные базы германской Компартии.
19 февраля 1930 года полпред в Германии Крестинский после десятинедельного перерыва увиделся со статс-секретарем аусамта (германского министерства иностранных дел) Шубертом. Встретились они внешне тепло, но разговор сразу пошел о процессе по делу фальшивых червонцев. В Германии была раскрыта шайка фальшивомонетчиков, связанных с грузинскими меньшевиками. Судили их мягко, но что с того СССР? Шум в газетах? «Тонкие» намеки на причастность к «делу» Советов? Так на то и «свободная» печать. Тем более, что какие-то акции с фальшивыми долларами СССР, возможно, тогда и проводил. И намеки прессы какое-то основание, надо полагать, имели. Перебежчик из Разведупра Вальтер Кривицкий позже прямо подтверждал слухи как достоверные, и хотя Кривицкому верить надо с очень большой оглядкой, человеком он был информированным – этого у него не отнять. Так или иначе, особого ущерба берлинский процесс нам не принес.
Другое дело парижский процесс по делу о фальшивых векселях берлинского торгпредства. Служащий торгпредства Савелий Литвинов с группой сообщников сфабриковал их на 200 тысяч фунтов стерлингов. Это была очень приличная сумма, «тянувшая» на 25 миллионов франков. Векселя скупил за 200 тысяч франков французский делец Люц-Блондель и предъявил их нам к оплате. Берлинское торгпредство возбудило против группы Литвинова дело, но парижский уголовный суд присяжных ее оправдал, а в феврале 1930 года судебный исполнитель гражданского суда департамента Сена наложил арест на имущество нашего парижского торгпредства стоимостью 31 миллион 200 тысяч франков. 2 апреля председатель парижского Коммерческого суда разрешил провести опись обстановки торгпредства в обеспечение претензии Люц-Блонделя. Вот уж тут французская пресса порезвилась вволю. Скажу сразу, что эта невеселая история тянулась три года, пока тот же Коммерческий суд не признал векселя недействительными.
И вот Крестинский ставил эти две акции на одну доску и хвалился тем, что советская-де печать на берлинский приговор реагировала гораздо спокойнее, чем на парижский. Еще бы! Шуберт же просто взял в руки вырезку из «Известий» и сказал:
– Господин Крестинский! Здесь написано, что германское правительство и прокурор ответственны за оправдательный приговор. Но мы же все время были в контакте с Бродовским. Вы знаете, что мы сделали все, от нас зависящее, и давали директивы прокурору, а тот настаивал на обвинении и неприменении амнистии. И вот теперь ваша правительственная газета позволяет себе утверждения, противоречащие действительности. Как же можно допускать такое? Появление таких статей не способствует добрым отношениям. Нужно раз и навсегда договориться и положить конец возможности появления таких извращающих действительность статей...
Однако для литвиновского НКИДа это было только началом. И приходится повторять: на долгие годы обычной практикой нашего берлинского полпредства станет придирчивое, капризное выискивание всех «блох» в германской прессе и раздувание этих газетных и прочих мелких инцидентов до размера серьезных межгосударственных осложнений. Выражение «газетная травля» окажется в лексиконе советских дипломатов в Берлине наиболее употребительным. А для германских послов в Москве такой же обычной (и безуспешной) практикой станут попытки воззвать к здравому смыслу Литвинова и его заместителей.
Казалось бы, прямые дипломатические контакты с нашим основным торговым партнером своей главной темой должны иметь экономику. Тут всегда было много тонких, спорных моментов и не всегда с ними могло справиться непосредственно торгпредство. Казалось бы, контакты с дипломатией великой культурной и научной державы должны были расширять общее сотрудничество и в этих сферах – таких благотворных для дружбы народов. Увы, беседы Крестинского, Бродовского, Бессонова и в меньшей мере Хинчука были уныло похожи одна на другую: «Берлинер Тагеблат» написала, «Франкфуртер Цайтунг» (между прочим, газета, чьим корреспондентом был Рихард Зорге и которая была тесно связана с еврейским капиталом Германии) оклеветала, «Ангриф» и «Фолькишер Беобахтер» исказили, а в Мюнхене кого-то там на целых шесть часов арестовали... Что ж, бывало всякое – в Берлине даже американцев после 1933 года арестовывали и порой допускали рукоприкладство. А ведь они не вмешивались во внутренние дела Германии, поощряя работу компартии, в отличие от наших сотрудников. Американские послы относились к этому «философски», то есть протестовали, а в общем-то плевали. Литвинов же и его НКИД сразу из мухи раздували если не слона, то вполне раздорную черную кошку.