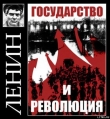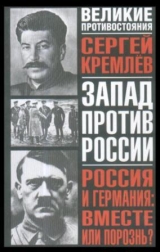
Текст книги "Россия и Германия: вместе или порознь?"
Автор книги: Сергей Кремлев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Троцкий своих вождистских претензий не таил никогда.
Зиновьев по привычке был готов играть вторую скрипку, но если бы Троцкий каким-то образом исчез с политического горизонта, то Зиновьев не отказался бы и от первой роли.
Хотя этот «вождь» почти не котировался у военных. Оставались Троцкий и Тухачевский.
Вот деталь – из показательных...
Желчный по отношению к истории собственной же Родины биограф Тухачевского Борис Соколов приводит разведсводку эмигрантской врангелевской разведки от 15 февраля 1922 года, где говорится: «Единственная среда в России, которая могла бы взять на себя активную роль в деле свержения Советской власти, – это командный состав Красной Армии, то есть бывшие русские офицеры.... Тухачевский – человек выдающихся способностей и с большим административным и военным талантами... Сознавая свою силу и авторитет, мнит себя русским Наполеоном»...
Соколов эту сводку комментирует с забавным «глубокомыслием» так: «Руководители врангелевской армии, казалось бы, должны были задаться вопросом: почему же служащие красным не использовали для переворота куда более благоприятное время гражданской войны, когда порой думали, что власть большевиков висит на волоске?».
Однако тут явно забывается, что масса «бывших поручиков и штабс-капитанов, подполковников и генералов» как раз на полную катушку и использовала время Гражданской войны для активных попыток свержения Советской власти, но не в рядах РККА, а в рядах белой армии.
Да и в рядах красных служило немало будущих перебежчиков к белым.
Да и перевороты пытались устраивать. Достаточно вспомнить мятеж главнокомандующего Восточным фронтом бывшего подполковника Муравьева в июле 1918 года.
Потому-то и доверяли «бывшим» с оглядкой.
Потому-то и контролировали их.
И в тех жестких условиях успешный заговор был нереален.
Иное дело, когда ты облечен высшей властью, можешь спокойно и открыто пригласить «фронтовых товарищей» хоть на охоту, хоть на вечеринку, хоть на партию в шахматы...
Советская власть победила, однако не окрепла настолько, чтобы все было окончательно предрешено в ее пользу.
Недовольных много, внутри партии намечаются расколы...
Политической оппозиции нужны штыки?
Что ж – побудем штыками. Наполеон тоже начинал как штык Директории...
А меня, Тухачевского, кличут в Наполеоны и справа, и слева...
Эти мысли явно бродили в крутой лепки голове бывшего гвардейца...
И он еще выше тянул свою шею, и так уже вытянувшуюся то ли от желания увидеть дальние свои перспективы, то ли от прилипшей к маршалу базедовой болезни.
Соответственно, многолетний интерес эмиграции к Тухачевскому и его соратникам был вполне обоснован в том смысле, что «жареным» из этой среды действительно попахивало.
Ошибались белоэмигранты лишь в том, что рассчитывали на Тухачевских как на собственное орудие.
Вот тут уж – дудки! «Красные маршалы» если бы уж и выступили против Сталина, то под красными же лозунгами не во имя реставрации опереточного «Государя Владимира Кирилловича» или другого «...ича», а во имя собственной неограниченной власти.
Троцкий был угрозой лишь как политик. Тухачевский – как военный лидер. Одно стоило другого, и дилемма «Троцкий или Тухачевский» действительно существовала...
Любой вариант означал гибель страны, но был ли хоть один из них реален? Страна уже стала такой, что не дала бы себя погубить. В час кризиса она пошла бы за Сталиным, и поэтому троцкистско-тухачевские планы были авантюрой, заранее обреченной на провал.
За исключением, правда, одного варианта развития событий – физического устранения Сталина в самом начале. Вот тут крах СССР был бы почти неизбежен.
Уже потом возникла легенда еще и о «кировской» альтернативе Сталину, но так могли думать лишь наивные люди, плохо понимающие самые основы механизма возникновения и существования высшего политического лидера. Любитель красивых женщин Киров был такой же типичной фигурой второго ряда, как и Орджоникидзе, Дзержинский, Фрунзе, Рыков, Куйбышев, Бухарин, Каменев, Рудзутак, Пятаков, Томский.
Конечно, Киров, как и Молотов, как Лазарь Каганович, не был бы государственным (подчеркиваю – государственным, а не р-революционным) лидером более слабым, чем любой из «троцкой» когорты, включая Льва Давидовича.
Но крупный политический масштаб Кирова, Молотова и Кагановича, их кондиционность как политических руководителей трудящейся массы, полностью сказались в том, что они не мыслили себя на первых ролях взамен Сталина. Это было не угодничество, а ясное понимание своих возможностей. Кирова потому и устранили в декабре 1934 года, что он был опорой Сталина в ранее «зиновьевском» (читай – троцкистском) Ленинграде и не считал себя способным вынести с честью – не для себя, а для страны – бремя высшего руководства.
Но и Троцкий, Зиновьев, Тухачевский лишь считали себя способными на лидерство в новой России. «Много званных, да мало избранных»...
А если и «званных» мало, то сколько же тогда избранных? В России тогда такой был один.
В свое время Дан говорил о Ленине, что невозможно противостоять человеку, который двадцать четыре часа в сутки думает об одном – о социалистической революции.
Эта же характеристика полностью приложима и к Сталину, с той только разницей, что он двадцать четыре часа в сутки думал о социалистическом строительстве в стране, эту социалистическую революцию уже совершившей.
Знаменитый эсер Виктор Чернов в марте 1924 года опубликовал в эмигрантском журнале «Воля России» статью о Ленине, из которой можно было сделать три вывода: об ограниченности самого Чернова, о закономерности политического краха его партии и... о безальтернативности Ленину как единственно возможному для России политику, способному в то бурное время Россию спасти, а не погубить.
Теперь уже Сталин оказывался таким безальтернативным политиком, единственно способным не погубить Россию, а укрепить и возвеличить ее.
Чернов писал о Ленине, которого хорошо знал. Однако то, что он писал, полностью относилось и к Сталину, которого он не знал: «Счастливая целостность его натуры и сильный жизненный инстинкт делали из него какого-то духовного «Ваньку-встаньку». После всех неудач, ударов судьбы, поражений он умел духовно выпрямляться. Его волевой темперамент был как стальная пружина, которая тем сильнее «отдает», чем сильнее на нее нажимают. Это был сильный и крепкий политический боец, как раз такой, какие и нужны, чтобы создавать и поддерживать подъем духа и чтобы при неудаче предупреждать зарождение паники, ободряя силою личного примера и внушением неограниченной веры в себя, – и чтобы одергивать в моменты удачи, когда так легко и так опасно превратиться в «зазнавшуюся партию», способную почить на лаврах и проглядеть будущие опасности.
Он никогда не был блестящим фейерверком слов и образов (чем отличались Троцкий, Зиновьев, Бухарин. – С.К). Он бывал и неуклюж, и грубоват, он часто повторялся. Но в этих повторениях, и в грубоватости, и в простоте была своя система и своя сила. Сквозь разжевывания пробивалась живая, неугомонная, волевая стихия, твердо шедшая к намеченной цели.
Его охотно считали честолюбцем и властолюбцем; но он был лишь естественно, органически властен, он не мог не навязывать своей воли, потому что был сам заряжен «двойным зарядом» ее, и потому, что подчинять себе других для него было столь же естественно, как центральному светилу естественно притягивать в свою орбиту и заставлять вращаться вокруг себя меньшие по размеру планеты, – и как им естественно светить не своим светом, а отраженным. Плебей по привычкам и натуре, он оставался прост и натурален в своем быту после октябрьского торжества так же, как и до него».
Чернов, правда, ошибся, определяя Ленина как «плебея», хотя он здесь всего лишь хотел сказать, что в Ленине-де не было утонченности.
Нет, она была! Ни Ленин, ни Сталин не были простыми натурами. Именно врожденный аристократизм как высшая форма естественности при полном отсутствии позы, сквозит в каждой фотографии Ленина.
Сталин же...
Маршал авиации Голованов как-то вспоминал об одном необычном обеде у Сталина. За столом сына сапожника сидел Черчилль – прямой потомок герцога Мальборо.
Англичанин начал с того, что налил в большую рюмку, стоящую перед Сталиным, армянский коньяк. Сталин ответил ему тем же, и...
«Тосты следовали один за другим, – пишет Голованов. – Сталин и Черчилль пили вровень. Я слышал, что Черчилль способен поглощать большое количество горячительных напитков, но таких способностей за Сталиным не водилось. Что-то будет? Черчилль на глазах пьянел, а в поведении Сталина ничего не менялось. Видимо, по молодости я слишком откровенно проявил интерес к состоянию двух политических деятелей и очень переживал, чем все это кончится. Встреча подошла к концу. Все встали. Черчилль покинул комнату, поддерживаемый под руки. А я стоял, как завороженный, и смотрел на Сталина. Конечно, он видел, что я все время наблюдал за ним. Подошел ко мне и сказал: «Не бойся, Россию не пропью. А вот Черчилль будет завтра метаться, когда ему скажут, что он тут наболтал». И твердой, неторопливой походкой вышел из комнаты»...
Черчилль был по привычкам патрицием, по натуре же – плебеем, слугой «золотого» меньшинства.
Сталин был прост по привычкам, но обладал тем величием, которое дается только благородной душе, служащей благородному делу.
А Троцкий, Бухарин, Куйбышев, Рыков, Литвинов-Валлах, Ворошилов, Черчилль, Рузвельт, Жуков и десятки других политических фигур – современников Сталина?...
У всех них были слабости, мелкие пристрастия, страстишки. Если не из каждого, то из каждого второго абзаца статей Бухарина выпирало: «Ах, какой я умный и остроумный».
У Троцкого рефрен был другой: «Ах, какой я главный!»
У Черчилля: «Какой я дальновидный и безупречный!».
Штампованная улыбка Рузвельта должна была убеждать, какой он «свой парень».
Поведение Сталина, выступления Сталина, тексты Сталина говорили: «Вот МЫ. Вот НАШИ задачи, и вот как НАМ надо их решать».
Тухачевский делал скрипки. Умилительно? Возможно...
Черчилль выкладывал кирпичные стены.
У Сталина же, практического социального реформатора с уникальными возможностями, было лишь одно увлечение, одна страсть – укрепление России, во главе которой он стоял.
Сталин не терпел ворон. Зато на его даче было множество ручных белок.
Задумаемся, читатель: мог ли он выбрать себе лучших друзей из меньших наших собратьев? Собаки, и даже кошки, требуют для себя части души, но политик, живущий для трудящихся, просто не имеет права расходовать душевные силы на что-то иное, кроме самих людей.
Лошади? Это или право прирожденного конника, или прихоть аристократа.
А вот милая русская зверушка, мгновенно сметающая с души хлам и усталость своим рыжим роскошным хвостом?
Какой точный и человечный выбор – белка на руке у Сталина.
Сама доверчивость на руке у того, кто мог оценить ее именно потому, что очень хорошо знал цену права на доверие.
Вот так же, порой на уровне инстинкта, чутья, доверяли Сталину массы. И партийные, и народные.
Троцкий тяготел к партийной элите и вообще к элите.
Сталин же вышел из народа, а свой партийный авторитет обретал... Впрочем, об этом пусть лучше расскажет Семен Веращак, бывший эсер, а в двадцатые годы – эмигрант. В парижской газете Керенского «Дни», в номерах за 22 и 24 января 1928-го он опубликовал о Сталине два фельетона. Что мог, казалось бы, написать о Сталине его политический враг? А вот что...
«Я был еще совсем молодым, когда в 1908 году бакинское жандармское управление посадило меня в бакинскую Баиловскую тюрьму. Тюрьма, рассчитанная на 400 человек, содержала тогда более 1500 заключенных.
Однажды в камере большевиков появился новичок. И когда я спросил, кто этот товарищ, мне таинственно сообщили: «Это Коба» (Сталину было тогда тридцать лет. – С.К.).
Живя в общих камерах, поневоле сживаешься с людьми и нравами. Тюремная обстановка накладывает свой отпечаток на людей, особенно на молодых, берущих примеры со старших. Бакинская же тюрьма имела огромное влияние на новичков. Редкий молодой рабочий, выйдя из этой тюрьмы, не делался профессионалом-революционером. Это была пропагандистская и боевая революционная школа. Среди руководителей собраний и кружков выделялся и Коба как марксист. В синей косоворотке, с открытым воротом, всегда с книжкой.
В личных спорах Коба участия не принимал и всегда вызывал каждого на «организованную дискуссию». Эти «организованные дискуссии» носили перманентный характер.
Марксизм был его стихией, в нем он был непобедим. Не было такой силы, которая выбила бы его из раз занятого положения. На молодых партийцев такой человек производил сильное впечатление. Вообще же в Закавказье Коба слыл как второй Ленин. Отсюда его совершенно особая ненависть к меньшевикам. По его мнению, всякий, называющий себя марксистом, но толкующий Маркса не по-большевистски, – прохвост.
Он всегда активно поддерживал зачинщиков. Это делало его в глазах тюремной публики хорошим товарищем. Когда в 1909 году, на первый день Пасхи, 1-я рота Сальянского полка пропускала сквозь строй, избивая, весь политический корпус, Коба шел, не сгибая головы под ударами прикладов, с книжкой в руках»...
К слову сказать, в Баку Сталин после возвращения с V Лондонского съезда РСДРП 1907 года в газете «Бакинский рабочий» опубликовал «Записки делегата», где писал, что большевики – по преимуществу русские, имеют поддержку развитого промышленного пролетариата России, а меньшевики – по преимуществу евреи, популярны в отсталых губерниях, например, на Кавказе. Коба шутливо замечал тогда: «Не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром».
ВИКТОР Чернов признавал, что «в лице Ленина сошел в могилу самый крупный характер из выдвинутых русской революцией».
Это так, но в лице Сталина Россия имела второй наиболее крупный характер, стоящий на стороне трудящихся. К началу 1930-х годов стало ясно, что это теперь и единственный такой первостатейно крупный характер, отвечающий требованиям эпохи наиболее полно.
К сожалению – наиболее полно, это не абсолютно полноценно. Сталин был почти безошибочен в выборе внутренней политики, но внешнеполитическая линия СССР была далеко не так безупречна. Впрочем, в том была не столько его вина, сколько драма.
Государственные интересы СССР требовали прочного союза с Германией, но идеологические причины делали его все менее возможным, по мере того как Германия уходила в сторону Гитлера и нацизма.
Это обстоятельство не было непреодолимой помехой само по себе, но идя на сближение с рейхом фюрера во внешнеполитической линии СССР, Сталин рисковал бы своими внутренними позициями. Троцкий и так не раз пытался изобразить Сталина «буржуазным соглашателем». Не хватало только стать еще и «пособником германского фашизма». А «подставляться» под такие обвинения Сталин не мог.
Приходилось работать над внутренним строительством Союза в расчете на то, что его успех развяжет руки и для верной внешней политики в Европе.
ГЛАВА 6
Треуголка Бонапарта и ермолка Дяди Сэма...
Уважаемый мой читатель! Хотя и не до конца, хотя и не всесторонне, мне кажется, я рассказал о Сталине и Гитлере что-то, для тебя новое...
Но отнюдь не новым будет сообщение о том, что Сталина и Гитлера многим соблазнительно относить к «тоталитарным» лидерам.
Допустим, что это – так. Но что же представляли собой лидеры мира «демократического»?
Бывший посланник США в Швеции Морхэд был самодовольным и не очень образованным человеком, зато имел огромное состояние. Он как-то заявил:
– В каждой стране лишь десять процентов населения делают деньги и играют ведущую роль во всех областях жизни, а поэтому они и должны обладать неограниченной властью в общественных делах...
Сказано было нагло, откровенно, с претензией на вечное, незыблемое господство своего класса и своего круга. Обычно представители имущего меньшинства предпочитали не обнажаться духовно таким совсем уж бесстыдным образом. Но мысль Морхэда очень верно передавала социальную философию абсолютно всех крупных государственных деятелей абсолютно во всех крупных и не очень крупных державах мира 1930-х годов за исключением...
Да, какие же страны и государственные лидеры составляли здесь исключение?
Прежде всего надо назвать, конечно, наш Советский Союз. «Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но паразиты – никогда!», – вот что открыто и гордо пела огромная страна, руководимая Сталиным.
И каждое слово этой великой песни опровергало паразитическую спесь морхэдов.
Была и еще одна страна, высший лидер которой публично утверждал:
«Простой деревенский мальчик зачастую может быть талантливее, чем дети зажиточных родителей, хотя в смысле знаний этот деревенский мальчик будет им сильно уступать. Если дети более зажиточных родителей больше знают, это вовсе не говорит в пользу их большей талантливости. Действительно творческий акт получается только тогда, когда знание и способности заключают брачный союз.
Наше народническое государство примет свои меры и в этой области.
Мы будем видеть свою задачу не в том, чтобы увековечить влияние одного общественного класса.
Мы поставим себе целью отобрать все лучшие головы во всех слоях населения, и именно этим наиболее способным людям дадим возможность оказывать наибольшее влияние на наше общество»...
Эти народоправные идеи были менее определенными, чем констатации пролетарского гимна, однако тоже оказывались прямо противоположными человеконенавистничеству Морхэда.
А высказывал их... лидер национал-социалистической партии Германии Адольф Гитлер.
Говорил Гитлер и так:
«Наше государство должно будет добиться принципиального изменения самого отношения к физическому труду и покончить с нынешним недостойным к нему отношением. Наше государство будет судить о человеке не по тому, какую именно работу он делает, а по тому, каково качество его труда».
С какой стороны тут ни заходи, одного нельзя отрицать никак: подобным образом не мыслили ни французский империалист Клемансо, ни французский радикал Эррио, ни аристократ Черчилль, ни «демократы» Теодор с Франклином Рузвельты, ни уж тем более Ротшильды, Рокфеллеры, Барухи и Бэзилы Захаровы.
Одно это выделяло гитлеровскую Германию второй половины тридцатых годов из общего ряда капиталистических государств и делало ее государством уже не совсем капиталистическим. Недаром же сразу после прихода к власти Гитлер сделал 1 мая официальным государственным праздником «Днем национального труда».
Это не лишало промышленных магнатов их поместий, а американцев – их паев в немецких предприятиях, но создавало в обществе новую атмосферу, где на рабочего уже нельзя было официально смотреть как на человека второго сорта.
Труду войны не нужны, они нужны Капиталу. И раз в Германии труд был поднят хотя и не на ту моральную высоту, что в СССР, но признаваем серьезной общественной ценностью, его общественная реабилитация при Гитлере позволяла предполагать, что несмотря на все военные приготовления, не война была нужна новой Германии в первую очередь, а военная сила.
Итак, на стороне Труда после Первой мировой войны твердо и определенно стояла одна страна – Советская. И подлинно народным вождем был ее руководитель Иосиф Сталин.
Германия Гитлера и он сам занимали положение промежуточное между рабоче-крестьянским Советским Союзом и аристократически-капиталистическим Западом.
И уж точно по другую сторону от Труда стоял и противостоял ему сам этот Запад, все более подпадающий под власть Золотого Капитала. И коллективный облик этого Капитала, напившегося крови в Первую мировую войну и готового испить ее вновь вволю в новой войне, выглядел уж точно все более тоталитарным.
В своей книге «Россия и Германия: стравить!», я писал: «Еще Михайло Ломоносов заметил, что если где-то чего-то убудет, то где-то чего-то и прибавится...
Говоря о войнах, всегда почему-то подсчитывают расходы. Хотя расход для одних – доход для других! Не так ли? Однако ДОХОДЫ остаются, как правило, «за кадром»...
А ведь за Первую мировую войну было не только израсходовано пятьдесят миллиардов фунтов, но и ПОЛУЧЕНО кем-то примерно столько же...
Государства, кроме США, оказались после войны не столько в шелку, сколько в долгу.
Так в долгу кому! Ответ тут один: международным финансовым группам и монополиям, где Капитал США играл уже первую, но далеко не единственную скрипку.
Об этих доходах, полученных единицами как проценты с крови и слез миллионов, Джавахарлал Неру – в 1930-е годы узник английской колониальной тюрьмы – написал так: «Мы не можем как следует оценить значение таких цифр – они слишком далеко выходят за пределы нашего повседневного опыта. Они напоминают астрономические цифры, как расстояние от Солнца до звезд»...
Сказано сильно, но неточно. Не для жителей Солнца или звезд, а для вполне реальных НЕКОТОРЫХ землян эти цифры находились всего лишь на расстоянии руки, протянутой к личному тайному сейфу.
И порывшись в этих сейфах, слабые человеческие руки (хотя можно ли их называть «слабыми» и «человеческими», не знаю!) вынимали оттуда ЛИЧНУЮ мощь, равняющую их хозяев с богами и самим Мирозданием.
Да, Большие Миллиарды все более претендовали на абсолютное мировое господство и верховенство, как об этом и говорил Морхэд.
И для таких претензий имелись мощные реальные предпосылки.
Вот вопрос для любителей триллер-игры «А если бы...»
Итак: «Что, если бы молодого Буонапарте сразила пуля уже в начале его карьеры? Скажем, под Тулоном...».
Как тогда быть с целым историческим пластом событий? Генерал «Вандемьер»; переход Суворова через Альпы; Цизальпинская и Транспаданская республики; Розеттский камень с египетскими иероглифами, ждущими расшифровки Шампольона; знаменитое: «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с вершин этих пирамид!»; Вена и Аустерлиц; Тильзитский плот посреди Немана с Александром I и Наполеоном на нем; континентальная блокада; осада Сарагосы; Бернадотт на шведском престоле, стыдливо прячущий от врачей наколку на груди «Смерть королям!»; Бородино; крыловско-кутузовское «ты сер, а я, приятель, – сед»?
Ведь всего этого не было бы!
Не было бы Кодекса Наполеона, алых розеток Почетного легиона, славного нашего партизана Дениса Давыдова, Жозефины, красавца Мюрата и расстрелянного Нея, Второй империи Наполеона Третьего... Не было бы тех же Ватерлоо и острова Святой Елены...
А общее течение европейских событий было бы примерно тем же! Вот в чем ведь соль вопроса, уважаемый мой читатель, вот в чем!
И темные финансовые воротилы все равно добились бы возможности превращать в груды золота пот и кровь гренадеров, гарь пожарищ, осколки гранат и пороховой дым.
Разве что длилось бы это не так долго, как при неугомонном и удачливом Наполеоне...
Пожалуй, не нажился бы в пять минут и Ротшильд. Весть о поражении Наполеона при Ватерлоо принес ему почтовый голубь, а уж на бирже ловкий делец сыграл «как надо» сам в привычном стиле стервятника.
Суть была не лично в Наполеоне... Французский историк, член Французской академии Альбер Вандаль еще в конце прошлого века вот что написал о тех временах на рубеже XVIII и XIX веков, когда во Франции готовились прижать «спекуляторов капиталами» и заставить их возвратить неправедно нажитое богатство...
Итак: «Крупные поставщики, бесстыдные спекуляторы были не такого сорта люди, чтобы позволить ощипать себя без сопротивления. В итоге поддержка капиталистов была обеспечена первому, кто возьмется низвергнуть режим».
Банкиры, по словам Вандаля, торговались, давали и придерживали, но на роль избавителя выбрали все же Наполеона.
То, что у этого «избавителя» были в придачу к решительности еще и особый вкус и талант к завоеваниям, лишь облегчало выбор.
Спекуляторы, специалисты делать деньги из воздуха в карманах бедняков, были очень не прочь временно переквалифицироваться в делателей тех же денег из порохового дыма. Занятие это становилось для Капитала все более выгодным и необходимым, и побочная «профессия» постепенно превращалась в основную.
То же можно сказать и о выстреле террориста Гаврилы Принципа, застрелившего в Сараево накануне Первой мировой войны австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда.
Был бы этот выстрел, не был, а мировая война была бы все равно... С кровавой окопной жизнью бедняков, которая мгновенно переходила в смерть на дне окопа... С бешеными прибылями имущих «спекуляторов»...
И эту войну так же свели бы с тем же итогом в примерно пятьдесят тогдашних, очень весомых миллиардов фунтов.
Ну что-то надо было сбросить в недостачу, но все равно на долю вечных «спекуляторов» оставалось достаточно для того, чтобы прибирать мир к рукам все крепче и крепче...
Для чего?
Ну хотя бы для того, чтобы переплюнуть самонадеянного королишку Людовика XIV, утверждавшего, что государство – это он...
Подумаешь, какая-то Франция! Западный фас Европы на все про все...
Некоронованные короли нового века могли уже стремиться и к большему, чтобы иметь право сказать: «Планета – это мы»...
Да сказать не всяким там придворным льстецам и лизоблюдам, а друг другу, сидя в креслах. И не криком, а легкой, понимающей усмешкой и золотым огоньком в уголках прищуренных глаз...
Джон Дэвисон Рокфеллер сделал первый миллион на военных поставках в Гражданскую войну Севера и Юга Соединенных Штатов в 1861 – 1865 годах. Это он, между прочим, изобрел новую форму монополистического объединения – трест. А в начале 30-х годов XX века Рокфеллеры контролировали капитал в 40 миллиардов долларов.
Юниус Спенсер Морган нашел свою первую удачу там же, где и первый Рокфеллер – в грязи и дыму войны «южан» с «северянами». Его сыну Джону Пирпонту-старшему, умершему в 1913 году, тогда еще не было тридцати, но он работал самостоятельно, ловко торгуя негодными ружьями. Внук Джон Пир-понт-младший в Первую мировую торговал уже исправными ружьями. Счет шел на миллионы штук, так что хватало и «честной» прибыли...
Результат не замедлил сказаться: Морганы контролировали капиталы в 80 миллиардов тогдашних долларов, из них 5 миллиардов за рубежом. И уже тогда Морганы были тесно связаны с японской «Мицуи», хотя было ясно, что империалистическое столкновение США и Японии – дело недалекого будущего.
Дюпоны начали с пороха и на облаках порохового же дыма вознеслись в рай финансового всемогущества. Ко времени войны Севера и Юга они уже были крупнейшими производителями пороха в США и продали его тогда федеральному правительству за 4 миллиона фунтов.
Основатель семьи, Самуил Дюпон, вначале подвизался во Франции, водил дружбу с Талейраном, обслуживал интересы Наполеона, а в 1799 году переселился в Род-Айленд и в 1802 году открыл пороховое производство в Делавэре.
Вскоре «друг свободы» Джефферсон выдал ему первый правительственный заказ, и только за один год с 1804-го по 1805-й объем продаж возрос с 15 до 97 тысяч долларов. А в те давние времена уже сотня долларов была небольшим состоянием.
Ротшильды финансировали все европейские войны уже в XVIII веке. Жемчужиной в их истории блистала, конечно, наполеоновская эпоха. Под Наполеона Ротшильды специально создавали «Банк де Франс».
В Австрии, Англии и Франции они получили титул баронов.
Они финансировали Японию, делали золото на добыче золота в Южной Африке и на разработках медной руды в Испании и Северной Родезии.
Скрывать капитал эти «бароны» учились веками, и поэтому в 30-е годы XX века за ними числилось «всего» 18 миллиардов...
Нельзя не удивиться, как часто даже опытные историки-аналитики за фигурами на сцене не склонны видеть подлинных творцов спектакля – авторов и режиссеров.
Известный писатель Николай Николаевич Яковлев написал о XX веке много интересного. Однако и он говорит о президенте США Вильсоне так: «Почти всю первую половину 1919 года Вильсон провел в Париже, руководя, как ему казалось, мирной конференцией. Но в целом мирное урегулирование пошло вопреки империалистическим замыслам США»...
Как же оно могло пойти «вопреки», если именно США эту войну выиграли тогда, когда Антанта ее уже почти проиграла? Да и можно ли вообще говорить о проигрыше тех, кто никак не мог остаться внакладе при любом исходе?
Это ИХ воля кривила губы Вудро Вильсона, приехавшего в Париж со «своими» 14 пунктами послевоенного устройства мира.
И это ИХ воля заставляла дрожать не на глазах секретарей, а в беседах с глазу на глаз, во время «невинных» прогулок, брови Ллойд Джорджа и усы Клемансо...
Из этой «Большой тройки» в подлинную – то есть финансовую – элиту не входил никто, хотя Вильсона относили к низшему слою высшего класса.
Его ближайшие предшественники Теодор Рузвельт и Говард Тафт в имущественной табели о рангах стояли выше. Все верно: в острой ситуации начала века контроль над политической ситуацией нельзя было отдавать людям не своего круга. Как-никак, предстояло раскрутить такую немалую карусель, как ПЕРВАЯ мировая война.
Уже в ходе ее Вильсон (это бывший-то университетский профессор!) признавался, что за последние 14 лет не прочел до конца ни одной серьезной книги. Еще бы!
Сменившие Вильсона Гардинг и Гувер из высшего ряда элиты, пожалуй, тоже выпадали. Зато и времена им выпали весьма спокойные. Большому Капиталу было не до политического мельтешения – настал час осмысления и освоения тех «звездных» сумм, которые даже небедному Неру казались астрономическими.
Но когда чрезмерно налившейся кровью Америке пришлось устроить «Пятничное кровопускание» (более известное простакам как биржевая «Черная пятница» 1929 года), когда ошалевший от золотых послевоенных потоков средний капитал невольно нарушил баланс, и Штаты закачались между хаосом и коммунизмом – вот тут-то пришлось срочно подыскивать не приказчика, а опять своего.
И Рузвельта – уже Франклина Делано, делегировали на «штурм» Белого дома именно как члена Высшего Клана Капитала.
А то, что он катил в президенты на инвалидной коляске, помехой не было. Наоборот! Было больше уверенности, что он не будет отвлекаться сверх меры на «удовольствия» – разве что личную секретаршу Мэри Лихенд лишний раз ущипнет.
Своей главной резиденцией Золотые Короли выбрали Америку. Но вообще-то местом жительства «своих» был весь мир, потому что весь мир (исключая одну советскую шестую часть) им принадлежал.
Национальная география тут значила мало, и «победители» нередко не превосходили «побежденных» влиянием, а то и уступали им. Впрочем, ТУТ такие категории вообще были не в обычае...
За полгода до краха кайзер-рейха, 16 мая 1918 года, в сером «Штальхофе» (Стальном дворце) Дюссельдорфа собрались столпы того «рейха», который рухнуть не мог никак. По крайней мере – не мог до тех пор, пока существуют в мире банковские сейфы и золото в них.