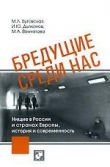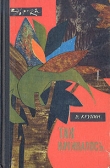Текст книги ""Притащенная" наука"
Автор книги: Сергей Романовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
Иными словами, Академию сразу взяли в жесткий прессинг: от нее потребовали развития наук социально-экономического цикла, что означало навязывание русским ученым проработку проблем марксистской экономики и всего того, что большевики разумели под «народным хозяйством страны».
Совершенно очевидно, что они сразу же возжелали подключить Академию наук к проработке своих «народно-хозяйственных планов», понимая, что в этом случае они получат по крайней мере нечто похожее на реальность.
Такая перспектива Академию наук не обрадовала. Она была не готова принять подобные предложения и потому, что ученые их не разделяли принципиально, и потому еще, что они искренне не понимали, что за ними стоит конкретного, какая научная проблематика, ибо чисто политическая «рабоче-крестьянская» риторика их не интересовала.
А.П. Карпинский ответ Луначарскому подготовил 11 марта. Сознавая, кому он адресует свое послание, президент старается быть предельно осторожным:
«То глубоко ложное понимание труда квалифицированного, как труда привилегированного, антидемократического, легло тяжелой гранью между массами и работниками мысли и науки. Настоятельным и неотложным является поэтому для всех, кто уже сознал пагубность этого отношения к научным работникам, бороться с ним и создать для русской науки более нормальные условия существования».
Президент четко расставляет все точки над i. Он дает понять наркому, что Академия наук работала, работает и будет работать, ибо наука никакую власть не обслуживает, но он хотел бы знать вполне определенно – чего так настойчиво добиваются от русских ученых большевики? Чего они хотят? Да, Академия согласна взять на себя решение отдельных проблем, но только научных и тех из них, на какие у нее хватит своих сил [178] [178]Там же. С. 1393 – 1395.
[Закрыть].
«Переговоры» эти, надо полагать, Ленина не удовлетворили. В апреле 1918 г. он в явном раздражении пишет свой «Набросок плана научно-технических работ», в нем он возлагает на Академию наук составление «плана реорганизации промышленности и экономического подъема России».
Чем занималась и чем должна заниматься Российская Академия наук, «вождь мирового пролетариата» представлял смутно [179] [179] Ленин В.И. Полное собр. соч. Т. 36. С. 228.
[Закрыть]. Этот документ А.П. Карпинский, к счастью, прочел только в марте 1924 г., когда он был впервые опубликован.
Любопытен и такой разворот вопроса. Мы знаем, что инициаторами описанных «переговоров» были большевики. Когда же они закончились, и Луначарский 12 апреля 1918 г. докладывал их результаты на заседании СНК, то в постановлении записали: «Совет народных комиссаров в заседании от 12 апреля с.г., заслушав доклад народного комиссара по просвещению о предложении (? – С.Р.) Академией наук ученых услуг советской власти по исследованию естественных богатств страны, постановил: пойти навстречу этому предложению, принципиально признать необходимость финансирования соответственных работ Академии и указать ей как особенно важную и неотложную задачу разрешение проблем правильного распределения в стране промышленности и наиболее рациональное использование ее хозяйственных сил» [180] [180] Ленин и Академия наук. Л., 1969. С. 40.
[Закрыть].
Как видим, с самых первых шагов советская власть требовала от ученых четкой практической нацеленности их исследований. Другие работы она бы просто не финансировала.
Итак, чуть ли не с первых дней своей власти большевики стали воевать и одновременно флиртовать с русской наукой. Конечно, поскольку свой путь в «светлое будущее» большевики трассировали «от ума», то без науки им было не обойтись. Однако для подавляющего большинства рядовых коммунистов наука олицетворяла привилегированный буржуазный труд, им ненавистный. Поэтому вражды, конечно, было много больше, чем флирта.
Ученый и инженерный мир уже за первую большевистскую пятилетку понес громадные потери. Значительная часть интеллектуальной элиты страны (точные цифры так никогда и не станут известны) была либо выдавлена в эмиграцию, либо насильно выслана из страны в 1922 г., либо уничтожена в ходе Гражданской войны и непрекращавшихся карательных операций ЧК.
Оставшиеся в России люди науки были деморализованы, запуганы и обречены на «странное, зыбкое существование с клеймом потенциального вредителя. Дореволюционная традиция российской науки была сломана и прервана. Освобождалось пространство для науки новой, отвечающей по своим параметрам нуждам и целям формировавшегося тоталитарного государства коммунистического типа – для советской науки» [181] [181]Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Структура и динамика научно-технического потенциала России. М., 1996. С. 50.
[Закрыть]. Большевики стремились притащить и притащили-таки на социалистический Олимп свою науку. С ней нам еще предстоит познакомиться.
* * * * *
… То, что ученые – мозг нации, elita страны, как любил писать В.И. Вернадский, они смогли в полной мере прочувствовать чуть ли не с первых дней после прихода большевиков к власти. Деятели науки стали одной из самых гонимых социально-профессиональных групп населения[182] [182] Ревякина И.А., Селезнева И.Н. Трудные дни российской науки // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 10. С. 931 – 937.
[Закрыть]. Им сразу дали понять, что жизнь человека в новой России – кто бы он ни был – практически ничего не стоит.
Академиков, правда, «к стенке» еще не ставили, зато арестовывали частенько. В застенках ЧК побывали В.И. Вернадский и С.Ф. Ольденбург. Профессоров же, не говоря о рядовых научных сотрудниках, арестовывали, брали в заложники и расстреливали без счета [183] [183] Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. 336 с.
[Закрыть].
«Бессудные расстрелы», а затем и расстрелы по скоропалительным приговорам ЧК стали буднями гражданской войны. «Ради всего святого – прекратите бессудные расстрелы», – буквально возопил в одном из писем к Х.Г. Раковскому В.Г. Короленко [184] [184] Письма В.Г. Короленко Х.Г. Раковскому // Вопросы истории. 1990. № 10. С.17.
[Закрыть]. Напрасно. Террор стал политической линией победившей революции и не Раковскому было ее менять.
Против бессмысленного террора, обрушившегося и на людей науки, писали возмущенные письма на имя Ленина и его высокопоставленных соратников А.П. Карпинский, С.Ф. Ольденбург, В.И. Вернадский; за ученых иногда заступались и «либеральные» наркомы А.В. Луначарский и Н.А. Семашко. Но помогало это редко. Чаще Ленин предпочитал не вмешиваться в дела ВЧК.
Писал Ленину и Горький. Вот строки из его письма от 16 – 19 октября 1919 г.: «… я знаю, что Вы привыкли “оперировать массами” и личность для Вас – явление ничтожное, – для меня Мечников, Павлов, Федоров – гениальнейшие ученые мира – мозг его…
В России мозга мало, у нас мало талантливых людей и слишком – слишком! – много жуликов, мерзавцев, авантюристов. Эта революция наша – на десятки лет; где силы, которые поведут ее достаточно разумно и энергично?… Ученый человек ныне для нас должен быть дороже, чем когда-либо, именно он, и только он, способен обогатить страну новой интеллектуальной энергией…» [185] [185] Цит. по: Ревякина И.А., Селезнева И.Н. Указ. соч. С. 932.
[Закрыть]. Но и это письмо – не более, чем глас вопиющего…
Эскалация террора привела к явной «психопатологии» новой власти, террор полностью девальвировал идейную подкладку революции, в нее перестали верить, ее стали просто бояться[186] [186] Булдаков В.П., Кабанов В.В. «Военный коммунизм»: идеология и общественное развитие // Вопросы истории. 1990. № 3. С. 40 – 58.
[Закрыть]. Страх вновь стал движущей силой крутой ломки российской жизни и он же лег в основу веры людей в «светлое будущее». Страх к тому же оказался простым и надежным инструментом «приручения» интеллигенции, обеспечившим быструю мутацию русской интеллигенции в интеллигенцию советскую – послушную, со всем согласную, не сомневающуюся и не комплексующую. Когда же в середине 20-х годов основная волна террора схлынула, то нетронутая интеллигенция уже вполне искренне поверила в коммунистические идеалы, находя их в чем-то даже сродни христианским.
Но террор – лишь одна проекция гражданской войны, другая, не менее страшная – голод. «Ужас стал бытом, – записывает 31 января 1918 г. Г.А. Князев, – грядет и еще один страшный гость – мор… Все злы, как черти» [187] [187] Князев Г.А. Указ. соч. 1993. Кн. 4. С. 35.
[Закрыть]. В декабре 1918 г. нормы выдачи хлеба в Петрограде достигли минимума, а под новый 1919 год жители города вместо хлеба получили овес.
1919 год М.И. Цветаева назвала «самым чумным, самым черным, самым смертным из всех тех годов» [188] [188] Цветаева М. Герой труда. Записки о Валерии Брюсове // Наше наследие. 1988. № V. С. 59.
[Закрыть]. Ввели так называемый «классовый паек», по которому рабочие, имевшие паек первой категории, получали не более полуфунта хлеба в день (200 г). С наступлением зимы во многих домах лопнули водопроводные трубы, вышла из строя канализация. В конце 1919 г. на Петроград обрушилась эпидемия тифа. «Тихо, тихо так в Петрограде. Поистине – мертвый город» [189] [189] Князев Г.А. Указ. соч. 1994. Кн. 5. С. 151 (По данным публикатора дневника Г.А. Князева в 1918 г. в Петрограде умерло 64150 человек, т.е. 43,7 человека на 1000 жителей; в 1919 г. – 65347 (72,6), в 1920 – 34479 (50,6). Всего в 1919 г. в Петрограде жило около 900 тыс. человек).
[Закрыть].
Во время этой жути 12 января 1919 г. К.И. Чуковский побывал у М. Горького в его квартире на Кронверкском проспекте. Застал писателя за завтраком: «Он ел яичницу – не хотите ли? Стакан молока? Хлеба с маслом?» [190] [190] Чуковский К. Дневник (1918 – 1923) // Новый мир. 1990. № 7. С. 148.
[Закрыть]. Прошел год. В январе 1920 г. Горький красочно описал свою встречу с Луначарским: «Смешно Луначарский рассказывал, как в Москве мальчики товарища съели. Зарезали и съели» [191] [191] Чуковский К. Из дневника о Максиме Горьком // Наше наследие. 1988. № II. С. 95.
[Закрыть].
А что же ученые, оставшиеся в Петрограде «переживать» большевиков и одновременно давшие согласие на сотрудничество с ними? 25 сентября 1918 г. президент Академии наук А.П. Карпинский и ее непременный секретарь С.Ф. Ольденбург направляют в Наркомпрос обстоятельное письмо. В нем они указывают, что «в настоящее время люди умственного труда находятся в особо тяжелом положении… что в их среде наблюдаются, по заключению врачей, особо сильное физическое истощение и ряды их тают с чрезвычайной быстротой, вследствие болезней, многочисленных смертей и отъездов за границу» [192] [192] ПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1-1917. Д. 42. Л. 319.
[Закрыть]. Руководство Академии просило: освободить ученых от принудительных работ, не «уплотнять» их квартиры, перевести работников умственного труда в высшие категории по снабжению продуктами питания.
4 октября 1919 г. на общем собрании Академии с большой речью выступил И.П. Павлов. Он прямо заявил, что если «новой власти» наплевать на науку, то он уедет туда, где ценят его работу. Перефразируя Достоевского, можно сказать, что для Павлова наука была выше России. 11 июня 1920 г. Павлов обратился в Совнарком с просьбой «о свободе оставления России» [193] [193] Григорьян Н.А. Общественно-политические взгляды И.П. Павлова // Вестник АН СССР. 1991. № 10. С. 74 – 89.
[Закрыть]. Вожди занервничали. Уже 25 июня Ленин пишет Г.Е. Зиновьеву «откровенное» письмо, давая понять своему петроградскому наместнику, что отпустить Павлова «вряд ли целесообразно», но и удержать его силой будет непросто, ибо «ученый этот представляет такую большую культурную ценность», что без международного скандала при запрете на его отъезд никак не обойтись. И Ленин дает Зиновьеву поразительное указание: предоставить Павлову, «в виду исключения… сверхнормативный паек и вообще позаботиться о более или менее комфортабельной для него обстановке не в пример прочим» (курсив мой. – С.Р.) [194] [194] Ленин В.И. Полное собр. соч. Т. 51. С. 22.
[Закрыть]. 24 января 1921 г. вышло известное постановление СНК «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика И.П. Павлова и его сотрудников». В чем, собственно говоря, необычность этой акции?
В том, что Ленину был глубоко безразличен и сам Павлов и его физиология. Но он решил использовать его учение в своих, сугубо пропагандистских целях. Дело в том, что учение Павлова о высшей нервной деятельности было сугубо материалистическим и его можно было легко связать с марксизмом, показав всем «неверующим», что марксизм верно акцентировал внимание на социальной детерминации поведения человека, а потому вывод Маркса о возможности воспитания «нового» человека надежно подкрепляется теорией самого уважаемого в мире физиолога. А раз мир признал его учение, признает и общественно-политическую систему, опирающуюся, как видим, на то же учение [195] [195] Григорьян Н.А. Указ. соч.
[Закрыть]. В том и состояла истинная подоплека отеческой заботы Ленина об академике И.П. Павлове.
Конечно, если трезво проанализировать коллизию нашего физиолога с властью, которую он терпеть не мог и не скрывал этого, то она скорее напоминала поиск своеобразного консенсуса или, проще говоря, заурядный торг, чем ультиматум [196] [196]Тодес Д. Павлов и большевики // ВИЕ и Т. 1998. № 3. С. 26 – 59.
[Закрыть]. На самом деле, Павлов был умен и расчетлив. И прекрасно понимал, что начинать в 70 лет неизвестно где новую жизнь было поздновато. К тому же и перспективы работы за границей были абсолютно неясны. В итоге Павлов получил от большевиков главное – вполне сносные условия для творческой работы да и возможность открыто выражать свои взгляды.
Есть и еще один разворот этой темы. Науку при большевиках накрепко пристегнули к государству. Это, само собой, имело и свои отрицательные стороны, ибо приходилось необходимые для работы средства постоянно «выбивать». А чтобы акция эта была успешной, нелишне было иметь своих высокопоставленных покровителей среди большевистских вождей. Вновь, как видим, возродилась старо– давняя русская традиция покровительства даже не науки, а отдельных ученых.
Так, для Н.К. Кольцова такими покровителями стали наркомы Н.А. Семашко и А.В. Луначарский, для Н.И. Вавилова – Предсовнаркома А.И. Рыков и секретарь Совнаркома Н.П. Горбунов, для В.И. Вернадского – Предсовнаркома с 1930 г. В.М. Молотов, для И.П. Павлова – Н.И. Бухарин. Одним словом, поставленные в жесткие идеологические рамки ученые были вынуждены искать тонкие методы манипулирования влиянием своих большевистских «спонсо-ров», чтобы вести ту научную работу, в которой были заинтересованы [197] [197]Колчинский Э.И. В поисках Советского «союза» философии и биологии (дискуссии и репрессии в 20-х – начале 30-х годов). СПб., 1999. С. 26.
[Закрыть]. Они понимали, что когда наука только государственная, да еще в диктаторской стране, то иных способов добывания средств на нужную им работу было не придумать. Это уже потом, когда советская наука прочно встала на ноги, ее лидеры изобрели еще один способ обоснования интересующей их проблематики – заурядное надувательство власти.
Вернемся, однако, в годы Гражданской войны. Ученые продолжали бомбить Наркомпрос и СНК прошениями о помощи, те выделяли кое-что, но такой помощи было достаточно лишь для того, чтобы с трудом поддерживать тающие силы. Чаще же и это не удавалось. 9 мая 1918 г. В.И. Вернадский отметил в своем дневнике, что академик Н.И. Андрусов (геолог) «не может работать, только и думает о том, как бы раздобыть кусочек черного хлеба» [198] [198] Вернадский В.И. Дневники. Указ. соч. С. 83.
[Закрыть].
Пора было налаживать централизованное снабжение ученых хотя бы минимумом пропитания. Большую помощь руководству Академии наук в «пробивании» этой идеи оказал М. Горький: «Го-ворил я сегодня (14 ноября 1919 г. – С.Р.) с Лениным по телефону по поводу декрета об ученых. Хохочет. Этот человек всегда хохочет» [199] [199] Чуковский К. Дневник (1918 – 1923). Указ. соч. С. 162.
[Закрыть].
Так, хохоча, Ленин 23 декабря 1919 г. подписал декрет о создании Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ), а 13 января 1920 г. в «Петроградской правде» было опубликовано постановление об учреждении ее Петроградского отделения во главе с Горьким. С 17 мая для научных работников Петрограда выделили 2000 пайков.
13 марта 1920 г. Г.А. Князев записывает в дневнике: «Уче-ным дали паек. Ссор не оберешься. Кость кинута, кругом грызня. Не далеко ушли от песьих привычек» [200] [200] Князев Г.А. Указ. соч. 1994. Кн. 5. С. 180.
[Закрыть]. Однако и пайки мало что изменили, тем более получались они учеными крайне нерегулярно. Выдавали их в Аничковом дворце, и старцы, с трудом передвигая ноги, с тележками и санками, должны были тащиться туда через весь город.
22 ноября 1920 г. очередная записка «О катастрофическом положении научной работы в России» за подписью А.П. Карпинского и других академиков уходит в Совнарком: «… те громадные жертвы, которые уже принесены за эти годы и крупнейшими мирового значения учеными силами и рядовыми работниками, жертвы, не имеющие себе равных в истории науки, громко говорят миру о том, как русские ученые поняли свою обязанность перед народом и страною, но жертвы имеют смысл и оправдание лишь тогда, когда они приносят пользу и помогают делу… Ясно, что если одни из русских ученых погибнут в России жертвой ненормальных условий, то другие последуют примеру сотен своих товарищей, работающих и теперь плодотворно на мировую науку за пределами России» [201] [201] Ленин и Академия наук. М., 1969. С. 85.
[Закрыть].
Прошел год. Ничего не изменилось к лучшему. 4 ноября 1921 г. Л.Д. Троцкий сообщает Ленину, что «ученым нашим действительно грозит вымирание под флагом “нового курса”… Если перемрут, придется долго восстанавливать “преемственность”» [202] [202] Ревякина И.А. Четыре миллиарда рублей ученым Петрограда // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 12. С. 1103.
[Закрыть].
Какую «преемственность» имел в виду Троцкий? Думаю, что не только численный состав Академии наук.
… К 1917 г. в штате Академии наук было около 220 сотрудников и 37 действительных членов (академиков). Изменение персонального состава Академии за годы гражданской войны мы покажем – для краткости – в виде таблицы (см. с. 93. В нее не включены данные о членах-корреспондентах и почетных академиках).
Помимо уже отмеченного, гражданская война привела к безработице, невероятному росту чиновничества и резкому увеличению численности научных учреждений Академии наук. «Все люди какие-то озверевшие, – пишет Г.А. Князев 7 июля 1918 г. – Словно зачумленные… Взяточничество всюду… Все измучились» [203] [203] Князев Г.А. Указ. соч. 1993. Кн. 4. С. 57.
[Закрыть]. Когда экономическую систему вынудили функционировать в противоестественных условиях, то единственное, что оставалось делать, – это непрерывно реорганизовывать управление экономикой, что неизменно приводило к одному результату: не контролируемому росту чиновничества. Уже к 1920 г. около 40% трудоспособного населения страны не работало, а «служило», тогда как в 1910 г. чиновничество составляло всего 10% [204] [204] Гимпельсон Е.Г. Влияние гражданской войны на формирование советской политической системы // История СССР. 1989. № 5. С.18.
[Закрыть]. Началась эпоха «главкизма» [205] [205]Булдаков В.П., Кабанов В.В. «Военный коммунизм»… Указ. соч. С. 51.
[Закрыть]: к лету 1920 г. экономикой дирижировали уже около 50 главков.
Таковы были первые шаги русской науки на пути строительства социализма. Понятно, что социализм могла строить только советская наука – принципиально иное новообразование, со своими «особостями», и большевики задачу трансформации русской науки в науку советскую решили довольно быстро. Избранный ими метод был традиционно российским: физический террор вкупе с идеологическим оскоплением интеллекта посеял в научной интеллигенции вполне осознаваемый ими страх и привел в итоге к единомыслию и послушанию.

* * * * *
Наука уже с 1918 г. стала своеобразным «приводным ремнем» между политикой и экономикой. Политика – это и привилегия рабоче-крестьянской молодежи при поступлении в вузы (декрет от 2 августа 1918 г.) [206] [206] Согласно этому декрету все граждане старше 16 лет имели право без экзаменов «вступить в число слушателей высшего учебного заведения, без представления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы» и не внося плату за обучение. (См.: Пайпс Р. Россия при большевиках. М., 1997. 672 с.). Поток безграмотных недорослей хлынул в вузы. (Кстати, если, как мы знаем, до 1917 г. в России было 11 университетов, то уже к 1925 г. их стало 34. Штаты преподавателей выросли втрое, тогда как студентов только на 30 %). Профессора, само собой, в свои семинары таких не брали, и поток желающих учиться быстро схлынул.
Тогда и додумались до рабфаков. 15 сентября 1919 г. все вузы открыли эти своеобразные подготовительные факультеты, готовя люмпена к профессорскому званию. Большая часть рабфаковцев была членами РКП(б). Уже к середине 1921 г. работало 64 рабфака, в них училось не менее 25 тыс. человек. Из них, в частности, и вышли шариковы – духовные отцы советской научной интеллигенции.
В 1924 и 1925 гг. провели первые классовые чистки в вузах. Исключили около 18 тыс. студентов. (См.: Пайпс Р. Указ. соч.).
[Закрыть], и организация в университетах факультетов общественных наук (с 28 декабря 1918 г.), и создание Социалистической академии (1918 г.). Экономика – это социалистическое строительство, плановое хозяйство, научное обеспечение потребностей промышленности. Наука в России всегда (на словах, по крайней мере) была ориентирована на практические нужды. Большевики же по сути официально поделили ее на фундаментальную и прикладную. Науку стали заказывать, ей стали диктовать.
Большевики при этом преследовали свои стратегические цели. Они прекрасно понимали, что старая русская интеллигенция была и остается противницей их социальной доктрины. А потому, проводя чехарду непрерывных реорганизацией на фоне не прекращающихся репрессий против интеллигенции, они стремились раздавить ее дух, чтобы интеллигенция стала податливым и послушным материалом, чтобы она готова была поддержать и научно обосновать любые их надуманные начинания.
Технология «обезвреживания» интеллектуального слоя нации была избрана самая простая, а потому наиболее надежная. Просто распространили классовый подход на образование и культуру. Уже с 1921 г. в вузы принимали только «своих», оставив на потомственных интеллигентов ничтожный процент. Почти как в старой России: тогда существовали нормы на доступ в вузы поляков и евреев, теперь – интеллигентов.
Екатерине II приписывают слова: «Народом темным и неграмотным управлять легче». Для России XVIII века так оно и было. Тонкая пленка культуры, расслаивавшая общество на небольшой слой образованного дворянства и темную богобоязненную народную массу, делала российский монархический тоталитаризм вполне устойчивой системой. Однако в ХХ столетии, когда страна взбаламутилась революционными потрясениями, уничтожившими к тому же почти поголовно лучшую, наиболее образованную культурную часть общества, требовался иной подход к построению управляемой модели тоталитарной системы. Большевики уразумели быстро, что на одном энтузиазме, не подкрепленном знаниями и культурой профессионалов своего дела, далеко не уедешь. И они настежь распахнули двери российских университетов и вузов для рабочей и крестьянской молодежи. Подобный напор на образование могли выдержать только большие таланты. И такие нашлись. Однако подавляющее большинство студентов, заполонивших университетские аудитории в начале 20-х годов, были сильны только классовой ненавистью, но отнюдь не знаниями.
Высшую школу надо было как можно быстрее «завоевать»: в университетах организовали факультеты общественных наук с тремя отделениями – экономическим, юридически-политическим и историческим. Уже с 1921 г. старую профессуру стали активно вытеснять специалисты новой выучки [207] [207] Неретина С.С. Смена исторических парадигм в СССР. 20-е – 30-е годы // Наука и власть. М., 1990. С. 22 – 49.
[Закрыть].
В 1921 г. законодательно был закреплен «классовый принцип» приема в вузы представителей разных социальных групп населения. Пропуском в науку стала анкета, собственное желание да поддержка партийцев.
Даже в аспирантуру можно было попасть по рекомендации партийных комиссий. Профессора брали тех, кого им «рекомендова-ли». Это были так называемые «выдвиженцы». Среди них полагалось иметь не менее 60% членов партии. Доехали, разумеется, и до полного маразма: создали «рабочую аспирантуру», куда рабочие могли поступить, не имея высшего образования. А чтобы преподаватели не очень роптали и не вредили, оценивая знания «выдвижен-цев», дали послабление: разрешили принимать в вузы детей преподавателей. Подобный штурм науки продолжался до начала 30-х годов. Лишь в 1932 г. ввели вступительные экзамены в вузы.
Реакцию русских ученых на подобные чудовищные эксперименты нетрудно предугадать. Вот отклик академика И.П. Павлова на организацию рабфаков: если возьмут туда людей «совсем неподготовленных, кое-как их в течение двух лет настропалят и затем откроют перед ними двери высшей школы, то что из этого может выйти?… Тут одно из двух: или будет комедия, церемониальный марш этих мало подготовленных людей, которые окажутся дрянными специалистами, или они будут отброшены как непригодные» [208] [208] Самойлов В., Виноградов Ю. Иван Павлов и Николай Бухарин. От конфликта к дружбе // Звезда. 1989. № 10. С. 99.
[Закрыть]. Это он говорил студентам Медико-хирургической академии в 1923 г. А вот что писал в том же году И.И. Петрункевичу В.И. Вернадский: «Идет окончательный разгром высших школ, подбор неподготовленных студентов-рабфаков, которые сверх того главное время проводят в коммунистических клубах. У них нет общего образования и клубная пропаганда кажется им истиной. Уровень требований понижен до чрезвычайности – Университет превращается в прикладную школу, политехнические институты превращаются фактически в техникумы… Уровень нового студенчества неслыханный: сыск и доносы» [209] [209] Письма В.И. Вернадского И.И. Петрункевичу // Новый мир. 1989. № 12. С. 208
[Закрыть].
Свое мнение Вернадский высказал в приватной переписке. Павлов – в открытой лекции. Ее стенограмму тут же услужливо доставили в Кремль. Возмущенное послание ученый получил от Л.Д. Троцкого, язвительную статью «Интеллигенция и революция» в журнале «Красный учитель» (1924, № 2) напечатал Г.Е. Зиновьев, а журнал «Красная Новь» (1924, № 1) поместил резкую статью Н.И. Бухарина. Они не скрывали, что «классовый подход» к образованию – политика сознательная, ибо в противном случае коммунистам была бы уготована роль «навоза» для взращивания нового капиталистического строя; они сразу поняли, что успех их дела прямо зависит от малограмотности населения, ибо чем более интеллектуально развитым будет новое общество, тем оно быстрее перестанет воспринимать их идеи, тем менее оно будет устойчивым. Подобный откровенный цинизм привел И.П. Павлова в ярость [210] [210]Самойлов В., Виноградов Ю. Указ. соч.
[Закрыть].
Но не только высшим образованием ограничивалась в начале 20-х годов сознательная линия на интеллектуальное оскудение нации. 6 июня 1922 г. был создан Главлит, т.е. восстановлен в полном объеме институт тотальной предварительной цензуры, «од-ной из самых жесточайших, которые когда-либо знал мир» [211] [211] Блюм А. За кулисами «Министерства правды». Тайная история советской цензуры. 1917 – 1929 гг. СПб., 1994. С. 82.
[Закрыть]. Она коснулась не только современного печатного слова, но даже классиков прошлого. Советские люди теперь читали лишь то, что дозволялось, а такие писатели и мыслители, как Платон, И. Конт, А. Шопенгауэр, Вл.С. Соловьев, И. Тэн, Дж. Рескин, Фр. Ницше, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков и еще десятки других гениев стали недоступны. Им на смену пришли советские писатели [212] [212] Джинбинов С. Эпитафия спецхрану? // Новый мир. 1990. № 5. С. 248 -249.
[Закрыть].
Одним словом, коммунистическая машина, как писал В.И. Вернадский сыну 13 июля 1929 г., «действует прекрасно… но мысль остановилась и содержание ее мертвое» [213] [213] К.К. Пять «вольных» писем В.И. Вернадского сыну (русская наука в 1929 году) // Минувшее. 1989. Вып. 7. С. 429.
[Закрыть].
Но и это далеко не все. Большевики прекрасно понимали, что поверить их посулам русской интеллигенции поможет страх и предельная простота толкования текущего момента. А чтобы интеллигенция уж вовсе потеряла ориентиры от страха, «врагов народа» стали выискивать прежде всего в их среде да так, что никто не мог понять логику, а потому жил в состоянии априорного страха. Процессы, сменяя друг друга, сваливали свои жертвы в ГУЛАГ как готовые детали с ритмично работающего конвейера. И, что поразительно, народ привык к «образцовым процессам», даже ждал их, ибо стал верить, что наконец-то разоблачены злейшие враги и более никто не встанет на пути заботящейся о его благе большевистской партии.
Жизнь ухудшалась (проезд в петроградском трамвае в 1921 г. стоил 5 млн рублей), пропаганда усиливалась, надежды крепли. Люди стали искренне верить тому, что им внушали с утра до ночи. Их звали в светлое будущее, где не будет ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых, до него уже было рукой подать, а тут вновь очередная «банда заговорщиков» решила повернуть страну вспять, в царство помещиков и капиталистов.
Контры из «Тактического центра» (август 1920), «Та-ганцевское дело» (1921), вредители из Главтопа (май 1921), реакционные церковники Москвы (апрель-май 1922) и Петрограда (июнь– июль 1922г.), эсеровские предатели революции (июнь-август 1922) – ими, разумеется, не исчерпывалась длинная вереница «врагов народа», как бы выстроившихся живой очередью в ВЧК.
В каждом из этих сфабрикованных по инициативе Ленина [214] [214] Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. 336 с.
[Закрыть] «дел» активную роль играли русские ученые. Так, только по «Таган-цевскому делу» был расстрелян 61 человек (см. «Петроградскую правду» от 1 сентября 1921 г.). Среди них 15 женщин, жен «заговорщиков». По «делу» проходили 31-летний профессор географии В.Н. Таганцев, профессор-юрист Н.И. Лазаревский, профессор– химик М.М. Тихвинский и многие другие. Перед Лениным ходатайствовал президент Академии наук А.П. Карпинский, академик Н.С. Курнаков, профессора Л.А. Чугаев и И.И. Черняев. Не помогло. Ленин искренне считал, что наука и контрреволюция «не исключают друг друга» [215] [215] Ленин В.И. Полное собр. соч. Т. 53. С. 169.
[Закрыть].
Список расстрелянных был расклеен по всему Петрограду. В.И. Вернадский вспоминал, что он «произвел потрясающее впечатление не страха, а ненависти и презрения» [216] [216] Селезнева И.Н. Яшин Я.Г. Мишень – российская наука // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 9. С. 823.
[Закрыть]. «Нас глушат процессом эсеров и церковным судом», – отметил в своем дневнике 23 июня 1922 г. Г.А. Князев [217] [217] Князев Г.А. Указ. соч. // Русское прошлое. 1994. Кн. 5. С. 221.
[Закрыть]. Он был уверен, что это сознательная линия власти для отвлечения людей от повседневных трудностей. Пусть, мол, знают, кто им мешает жить достойно.
Несколько особняком стоит еще одна акция большевиков, нацеленная на сознательное уничтожение интеллекта нации. Речь идет о принудительной высылке за рубеж более 200 видных деятелей русской науки и культуры в 1922 г. Многими исследователями это деяние воспринималось как странное, непонятное, выпадающее из привычного набора большевистского устрашения [218] [218] См., например: Геллер М.С. «Первое предостережение» – удар хлыстом (к истории высылки из Советского Союза деятелей культуры в 1922 г.) // Вопросы философии. 1990. № 9. С.37 – 66; Коган Л.А. «Выслать за границу безжалостно» (новое об изгнании духовной элиты) // Вопросы философии. 1993. № 9. С. 61 – 71; Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. Указ. соч.
[Закрыть]. Действительно, почему не расстрел, не ГУЛАГ, не ссылка в Сибирь, наконец, а высылка во вполне комфортную Европу? Между тем вопрос прояснится, если иметь в виду характер инициатора выселения, масштаб личностей высылантов, да и внутриполитическую ситуацию, складывавшуюся в стране в начале 20-х годов.
Дело в том, что после завершения гражданской войны новый режим столкнулся со сложным клубком политических и экономических проблем, усугубившихся страшным голодом 1921 г. Кронштадтское восстание в марте 1921 г. явилось наглядной иллюстрацией обманутых надежд у тех, кто помогал большевикам взять власть в 1917 г. Ленин понял: надо что-то делать, причем делать немедля и решительно. И он придумал: НЭП в экономике, изъятие у церкви материальных ценностей, окончательный разгром оппозиции и массовую депортацию тех, кто, не сочувствуя новой власти, мог своим авторитетом смутить колеблющихся. Ленин все делал, как задумал, не считаясь ни с чем. К тому же спешил решать больные вопросы, причем решать сразу, одним махом. Поэтому он потребовал составить заранее списки высылаемых. За любым из попавших в этот список никакой конкретной вины не было, к тому же это были видные, уважаемые люди, многие из них – с мировой известностью. Поэтому поставить их всех «к стенке» даже Ленин не рискнул. Весь мир бы понял – в стране власть взяли просто бандиты. Решили по этой причине все сделать «законно»: 10 августа 1922 г. приняли декрет «Об административной высылке», начали шумную газетную кампанию по «изобличению контрреволюционной сущности» высылаемых (писателей и профессоров пресса представляла как наймитов и военных шпионов).
Только за то, что много знали, были умными и не очень пока боялись большевиков – и ни за что другое, – были навсегда лишены родины десятки математиков, экономистов, историков, философов, социологов, инженеров, агрономов, кооператоров. Среди высылантов оказались историки А.А. Кизеветтер, А. Флоровский, И.И. Лапшин, В.А. Мякотин, А. Боголепов, С.П. Мельгунов, социолог П.А. Сорокин. Наконец, философы Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков, Л. Шестов, Ф.А. Степун, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, Л.П. Карсавин, А.С. Изгоев, В.В. Зенковский и еще многие, многие другие.
Разрекламированный в печати – по личному указанию Ленина – акт высылки мгновенно трансформировался в долговременную кампанию травли интеллигенции, превращения ее в захребетников, изгоев общества, в выработке у русского человека устойчивого рефлекса презрения к людям умственного труда. Мысль была окончательно загнана в подполье. Туда же, разумеется, свалилась и наука.
* * * * *
До конца 20-х годов, как ни суетились большевики вокруг Академии наук, ничего они с ней поделать не могли: она как работала до их пришествия, так и продолжала работать. «Русская Академия наук, – писал в 1923 г. Вернадский, – единственное учреждение, в котором ничего не тронуто. Она осталась в старом виде, с полной свободой внутри. Конечно, эта свобода относительна в полицейском государстве, и все время приходится защищаться…» [219] [219] Письма В.И. Вернадского И.И. Петрункевичу. Указ. соч. С. 205.
[Закрыть]. Да и центр научной работы все же был в России, а не в эмиграции. Однако «высылка ученых большевиками “исправит” многое…» [220] [220]Там же.
[Закрыть], – с грустной иронией замечает Вернадский.
Еще один варварский метод принудительного оглупления науки изобрели в конце 20-х годов. В высших эшелонах управленческого аппарата ЦИК, ВСНХ и Госплана сразу оценили дальнобойность и пробивную силу идеи 70-летнего биохимика А.Н. Баха. Бывший народоволец, проведший 32 года в эмиграции (1885 – 1917) и не принимавший поначалу большевизм, он, как только режим окреп и сковал железным обручем единоверия научную мысль, вспомнил «народолюбие» своей юности и, как химик, соединил воедино искренний, хотя и надуманный, позыв народников XIX столетия (знание и просвещение – народу) с одной из основных тактических задач большевиков – искоренить свободомыслие русской интеллигенции. В итоге получилась ядовитая смесь из полуобразованных, но зато идейно выдержанных и крайне амбициозных советских интеллигентов, рассевшихся по многочисленным ведомственным учреждениям и институтам и жаждавшим не столько работы, сколько активной деятельности. Их надо было объединить единой целью, дать им максимум полномочий и двинуть эту стаю швондеров в бой с заплесневелой Академией наук. К тому же они лучше, чем кто-либо, смогут обнажить подлинную антисоветскую сущность старой русской интеллигенции и тем самым идеально подготовят общество к восприятию задуманных взбесившимся ленинизмом [221] [221] Весь исторический период господства в нашей стране идеологии ленинизма как бы естественным образом распадается на этапы: оголтелый ленинизм (1917 – 1927), взбесившийся ленинизм (1928 – 1953), взбалмошный ленинизм (1954 – 1964) и, наконец, бездарный ленинизм (1965 – 1991). Некоторая экстравагантность наименований этапов отражает тем не менее самую суть той генеральной линии, которую проводили последовательно сменявшие друг друга вожди: Ленин – Сталин – Хрущев – (Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев).
[Закрыть] политических процессов.