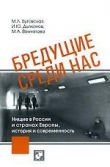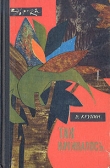Текст книги ""Притащенная" наука"
Автор книги: Сергей Романовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
Процесс ассимиляции европейской культуры оказался достаточно инерционным. При Екатерине немцы как бы вживались в российскую действительность, при ее внуке Александре I многие из них уже прочно укоренились в России, но наибольший вес и влияние на русскую жизнь они приобрели при Николае I. Немцы входили даже в состав российского правительства: министром иностранных дел был К.В. Нессельроде, а министром финансов Е.Ф. Канкрин. Все это, разумеется, не случайно.
Немцы были в стороне от общественных настроений русского общества, их абсолютно не касалась ни жесткая цензура, ни интеллектуальный гнет, сковывавший русские умы. Не случайно, что наибольший научный ценз в те годы имел Дерптский университет, практически целиком немецкий. Для изучения громадных пространств России продолжали снаряжаться экспедиции, но теперь это делалось помимо Академии наук и возглавляли их только иноземные специалисты: А. Гумбольдт, Г. Розе, Х.Г. Эренберг, Р. Мурчисон.
Как видим, почти полтора столетия, вплоть до начала царствования Александра II, продолжалась насильственная европеизация культурного слоя нации. Процесс этот, конечно, претерпел и некоторую внутреннюю эволюцию. При Петре I русское общество смотрело на прибывавших иностранных специалистов и ученых с явным интересом и нескрываемым любопытством – все в них было внове, все не так. Одним словом, отношение было поначалу чисто «кунст-камерным». Затем любопытство сменилось недоумением, когда русские люди стали убеждаться, что среди понаехавших чужеземцев в изобилии встречаются проходимцы и жулики. Недоумение быстро переросло в раздражение, а через него – в отторжение. Причем если в Академии наук эти чувства преломлялись через личные амбиции русских ученых, ибо здесь лицом к лицу сталкивались вполне конкретные дарования, то в целом по стране, когда процесс подобной европеизации набрал внушительные обороты, ему стал активно противиться традиционно русский менталитет. Оказалось, что он с большим трудом совмещается с европейским. Поэтому то, что в XVIII и в первой половине XIX века русские ученые активно противостояли засилью иноземцев можно понять и даже объяснить. Но затем эта борьба стала приобретать чисто националистический окрас, ибо уже во второй половине XIX века острие противостояния было направлено на детей, внуков и даже правнуков иностранцев петровского и екатерининского призывов. Они, само собой, родились в России и были российскими подданными.
Вернемся, однако, к начальной фазе этой коллизии. Если Петр приглашал в Россию европейских ученых, у многих из которых уже было свое имя в науке, то первые русские ученые становились таковыми, так сказать, по месту службы. Сначала они обучались в академической гимназии, затем в академическом университете и сразу попадали в Академию наук на амплуа адъюнкта, т.е. помощника академика. Иными словами, сначала они становились сотрудниками Академии, а потом уже начинали заниматься наукой. Надо ли говорить, что далеко не всегда из прилежных и даже способных учеников вырастали действительно талантливые ученые. К тому же в те годы Академия наук была заполнена только иностранными профессорами, а потому русский, начинавший свою карьеру в Академии, сразу становился чужим среди своих. В.И. Вернадский отмечает, что в первые годы существования Академии русские исполняли в ней «подсобную, ученическую роль», это были геодезисты, моряки, студенты, метеорологи-наблюдатели, коллекторы, офицеры, рисовальщики, типографские рабочие [72] [72] Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 176.
[Закрыть].
Такое зависимое положение уже вскоре стало тяготить их. Даже люди, непосредственно наукой не занимавшиеся, начинают страдать от ущемления их национального достоинства. Так, в 1742 г. А.К. Нартов, ведавший инструментальными мастерскими Академии наук, подает в Сенат жалобу на академического библиотекаря И.Д. Шумахера. В ней он указывает, что Петр, мол, основал Академию наук «не для одних чужестранных, но паче для своих подданных». А ныне она «в такое несостояние приведена, что никакого плода России не приносит» [73] [73] История Академии наук СССР. Т. I. М., 1958. С. 151.
[Закрыть].
Что же получалось? Сами пригласили и сами стали выставлять за дверь? Добро бы за национальные интересы выступали «природные россияне», хотя и в этом случае подобный патриотизм был бы явно не ко времени, ибо свои «мудрые разумом Ньютоны» на горизонте еще не обозначились, а в Академии наук уже трудились такие гиганты, как Л. Эйлер и Д. Бернулли. Нет. Немцев и швейцарцев из Академии выталкивали не русские ученые, а российские традиции. Одна из них состояла в том, что главной фигурой в Академии наук, как и в любом другом казенном учреждении, был не ученый, а чиновник. Для него же интересы науки были на одном из последних мест. Такой личностью, ставшей нарицательной для Петербургской Академии наук XVIII века, был немец Шумахер. Это благодаря его чиновному усердию Академию наук лихорадило, это он умудрился восстановить против себя не только русских ученых, но и многих работавших в Академии европейцев. Тот же Ломоносов в «Краткой истории о поведении Академической канцелярии» (1764 г.) писал, что невозможно «без досады и сожаления представить самых первых профессоров Германа, Бернулли и других во всей Европе славных», которые приехали «в Россию для просвещения ее народа, но Шумахером вытеснены, отъехали, утирая сле– зы» [74] [74]Там же. С. 90.
[Закрыть].
Остановимся на своеобразном историческом хронометраже «обрусения» нашей национальной науки. Начнем с XVIII столетия. Призванные Петром I европейские ученые должны были сообщить русской науке начальный импульс для ее дальнейшего самостоятельного развития. Однако укоренилась русская наука лишь тогда, когда стало развиваться высшее образование и в науку стали приходить только способные к творческому труду. Процесс этот растянулся более чем на столетие…
За первые 15 лет существования академической гимназии примерно треть учеников составляли дети иностранцев, состоявших на государственной службе в России [75] [75]Там же.
[Закрыть]. В академическом университете с 1726 по 1733 г. обучалось всего 38 человек, из них лишь пятеро русских. Затем до 1747 г. занятия в нем шли с частыми перебоями, в основном из-за недостатка студентов. Тенденция пополнения Академии наук в те годы была такова: адъюнктов набирали в основном из русских, а академиков – из иностранцев. При рассмотрении численного состава Академии XVIII века адъюнктов можно в расчет не принимать, ибо к науке эти молодые люди отношения еще не имели. Они продолжали обучение у одного из академиков и коли добивались успеха и проявляли склонность к самостоятельному творчеству, то становились полноправными членами Академии наук. То, что Академия почти до конца XVIII века представляла собой своеобразный анклав европейской науки на территории России, доказывают и официальные языки, на которых велись протоколы заседаний: с 1725 по 1734 г. таким языком был латинский, с 1735 по 1741г. – немецкий, с 1742 по 1766 г. – вновь латинский, с 1767 по 1772 г. – опять немецкий, с 1773 г. – французский. Правда, с 1751 г. протоколы стали переводить на русский язык.
Итак, динамику «обрусения» науки в XVIII веке для наглядности представим в виде таблицы (без учета адъюнктов и почетных членов Академии наук) (с. 46).
В 1803 г. был принят новый Устав Академии наук. Ввели три градации действительных членов Академии: адъюнкт, экстраординарный и ординарный академик. Помимо этого уже в начале XIX
столетия в России были открыты новые университеты: Казанский (1804), Харьковский (1805), Петербургский (1819), Киевский (Университет Св. Владимира, 1834). Академию наук и университеты развели окончательно. Академия теперь сама не готовила молодых ученых. Наукой они начинали заниматься при университетах, а добившись некоторых успехов, могли баллотироваться и в Академию наук.

Так что постепенно звание адъюнкта Академии стало приобретать ощутимый научный ценз. С учетом этого при анализе интересующего нас процесса в XIX веке будем фиксировать все существовавшие градации действительных членов Академии. Итак, продолжим нашу таблицу:

* В 1841 г. к Петербургской Академии наук присоединили Российскую, состоявшую преимущественно из отечественных ученых и литераторов.
К этой таблице надо бы сделать еще одно примечание. Национальность члена Академии в расчет нами не принималась. К «иностранцам» отнесены ученые по месту рождения и, если можно так сказать, по их собственному желанию, т.е. по тому, как они сами писали свои фамилии в официальных документах Академии. Например, G. Gelmersen, R. Lenz, M. Jacobi, H. Hess, E. von Bayer и т.д. Таких же ученых, как П.Б. Струве, В.Ф. Миллера, П.И. Вальдена, Ф.Е. Корша, В.К. Ернштедта, Ф.Д. Плеске, Н.Х. Бунге, Ф.Ф. Бейльштейна, К.Г. Залемана, О.А. Баклунда, В.Р. Розена и других, мы считаем вполне русскими. Подобную двойственность можно объяснить так. Во-первых, многие «немцы» были таковыми лишь по происхождению. Сами они уже родились в России и были ее подданными. Во-вторых, все воспитанники Дерптского университета были российскими подданными, но немцами по образованию и воспитанию. Именно они чаще всего и решали сами – кто они: русские или немцы. Их в составе Академии наук XIX века было очень много, ибо это был самый сильный российский университет.
Как видим, процесс «обрусения» нашей науки стал необратим лишь со второй трети XIX века (С 1841 г. официальным языком Академии наук стал русский, на нем печатались протоколы заседаний, а научные статьи могли публиковаться на русском, немецком или французском языках – по желанию автора). Хотя и продолжали приглашать иностранных ученых, ибо была еще очень сильна инерция традиций, да и влияние «немецкой» партии в самой Академии наук. Так, из-за границы прибыли Е.И. Паррот (1826), Г.И. Гесс (1828), Я.И. Шмидт (1829), Ф.Ф. Брандт (1830), В.Я. Струве (1832).
Большой вклад в ускорение занимающего нас процесса внес С.С. Уваров. Он был президентом Академии наук с 1818 г., а с 1833 по 1849 г. еще и министром народного просвещения в правительстве Николая I. Будучи человеком высокообразованным и умным, он прекрасно понимал, что его знаменитая триада: «православие – самодержавие – народность» или, говоря иначе, «церковь – власть – народ» будет работать на укрепление российской государственности, в частности, и в том случае, если интеллектуальная элита страны станет своей, национальной и сможет служить своеобразным генератором полезных для страны идей. Поэтому он и предпринимал все от него зависящее, чтобы внутренняя политика государства опиралась на национальные кадры, и начал он с реформы российских университетов. Понятно, что ни о какой циркуляции свободной научной мысли речь не шла, его политика была направлена лишь на то, чтобы, как выразился Д.И. Менделеев, «высшие учебные учреж– дения в России стали переходить из немецких рук в руки рус– ских» [76] [76] Менделеев Д.И. Какая же Академия нужна в России? // Новый мир. 1966. № 12. С. 178.
[Закрыть]. Это же отмечают и современные исследователи: российские университеты в XIX веке были более русскими, чем Академия на– ук [77] [77] Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох (от России крепостной к России капиталистической). М., 1985. 350 с.
[Закрыть].
Может создаться впечатление, что мы, говоря об «обрусе-нии» нашей науки, подставляем в этот процесс лишь Академию наук, игнорируя прочие научные учреждения. Но, во-первых, помимо Академии до второй половины XIX века существовали лишь добровольные научные общества и учебные заведения в лице пяти университетов да нескольких специализированных высших учебных заведений – Горного, Технологического, Лесного институтов. Наука в них, за редкими исключениями, лишь тлела. А, во-вторых, история отечественной науки в значительной мере «означает именно историю Академии наук» [78] [78] История Академии наук СССР. Т.I. Указ. соч. С. 5.
[Закрыть].
Более интересен другой аспект рассматриваемой проблемы. Это сегодня мы можем ее беспристрастно изучать, подсчитывать число «немцев» и «русских» в Академии наук разных лет, с удовлетворением отмечая, что уже во второй половине XIX века процесс «обрусения» перестал быть национальной «особостью», ибо подходил к своему естественному финишу (Последним иностранцем по месту рождения был крупнейший ориенталист В.В. Радлов, избранный в Академию наук в 1884 г.). Казалось бы, что русская научная общественность должна была быть довольной и спокойно наблюдать за тем, как Академия наук, пусть и медленно, но неуклонно превращается в действительный храм национальной науки. Но именно в эти годы, а точнее со времени великих реформ Александ-ра II, русское общество почувствовало несоответствие между своим национальным достоинством и «вненациональным» составом Академии наук [79] [79] Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. Указ. соч.
[Закрыть] и крайне нервно реагировало на это. К.А. Тимирязев, к примеру, писал об Академии наук тех лет как о «немецкой», что, как мы убедились, было явно несправедливо; она, мол, блистала «в 60-е годы именами Бэра, Ленца, Струве, Гесса и других» [80] [80] Тимирязев К.А. Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов // Соч. Т. VIII. М., 1939. С. 147.
[Закрыть]. Кстати, чтобы более верилось в эти «патриотические ахи», Тимирязеву следовало бы подобрать другие фамилии – их было предостаточно, – а не склонять имена великих ученых. Да, именно к 60-м годам XIX века русская наука развилась настолько, что могла по праву соперничать с «немецкой» по любой академической кафедре. Но и последняя еще была в силе и своих позиций сдавать не желала. Отныне за каждую академическую вакансию разворачивалась настоящая битва. Академия раскалывалась на две почти равновеликие половины и каждая из них стеной стояла за своего кандидата. Вот лишь несколько выборочных примеров.
… В 1860 г. К.М. Бэру исполнилось 68 лет. Он почувствовал, что более не может в полную силу работать в Академии наук, а иначе он не мог, и предложил себе в преемники немца В. Кюне. Вся «русская» часть Академии этому, понятно, воспротивилась [81] [81] Карл Бэр и Петербургская Академия наук. Л., 1975. 247 с.
[Закрыть]. Она предлагала в противовес своего кандидата И.М. Сеченова. «Зная себе настоящую цену, – вспоминал И.М. Сеченов, – я понял, что меня выдвигают по поговорке: на безрыбье и рак рыба». Это, понятно, оскорбило его, и он, искренне полагая, что и в будущем не будет удостоен «такой высокой чести», как членство в Академии наук, предпочел «наотрез отказаться» [82] [82] Сеченов И.М. Автобиографические записки. М., 1952. С. 176.
[Закрыть]. На этот раз «русская» партия взяла верх и выбрали Ф.В. Овсянникова.
Активным борцом за «национальную чистоту» русской науки был великий химик А.М. Бутлеров. В.Е. Тищенко, его ученик, вспоминал: «Подобно М.В. Ломоносову, ему пришлось вступить в борьбу с господствовавшим тогда (1874 г. – С.Р.) в Академии большинством. Он не мог не заметить, что при замещении вакансии членов Академии и при присуждении премий за научные работы была тенденция отдавать предпочтение иностранцам при наличии иногда даже более достойных русских ученых» [83] [83]Александр Михайлович Бутлеров (по материалам современников). М., 1978. С. 73 – 74.
[Закрыть]. Сам Бутлеров в своей ныне почти забытой статье «Русская или только Императорская Академия наук в Санкт-Петербурге?», впервые напечатанной в газете «Русь» в 1882 г., приводит массу конкретных примеров подобного противостояния: присуждение премии К.М. Бэра дерптскому ботанику Э. Руссову, а не И.И. Мечникову, «провал» на выборах 1879 г. санскритолога А. Шредера и возмущение в этой связи непременного секретаря К.С. Веселовского; об избрании в адъюнкты молодого шведского астронома О.А. Баклунда (1883 г.), «не говорящего по-русски», тогда как имена М.А. Ковальского и Ф.А. Бредихина «даже не назывались»; об избрании в 1868 г. ординарным академиком Г.И. Вильда (он был назначен директором Главной физической обсерватории), даже в 80-х годах не говорившего по-русски, что Бутлеров расценил как «презрение к званию, которое он носит, и к нации, которой он служит» [84] [84]Бутлеров А.М. Русская или только Императорская Академия наук в Санкт-Петербурге? // Сочинения. Т. III. М., 1958. С. 118 – 138.
[Закрыть].
У И.М. Сеченова отношения с Академией наук так и не сложились. 14 мая 1868 г. его забаллотировало физико-математическое отделение, подсластив пилюлю избранием ученого в конце 1869 г. членом-корреспондентом, что означало в те годы не работу в Академии наук, а лишь сотрудничество с нею. 18 января 1874 г. Сеченова вновь провалили на выборах, правда, уже на Общем собрании (Президент Академии Д.А. Толстой наложил свое veto). В 1904 г. уже пожилого ученого избрали в почетные члены Академии. Да, в эпоху «великих реформ», как остроумно заметил К.А. Тимирязев, «самые видные деятели нации блистали в ней (Академии наук. – С.Р.) своим отсутствием» [85] [85]Тимирязев К.А. Развитие естествознания в России… Указ. соч. С. 147.
[Закрыть].
И все же наибольший общественный резонанс имело сознательное игнорирование Академией научных заслуг Д.И. Менделеева. Его «штаб российской науки» так и не сделал своим действительным членом. Что бы ни говорили о том, что в составе Академии наук XIX века было много действительно выдающихся русских ученых, но то, что ее членами так и не стали Н.И. Лобачевский, И.И. Мечников, И.М. Сеченов, Д.И. Менделеев, полностью девальвирует все такого рода высказывания. Об этой, воистину исторической, эпопее существует обширная специальная литература [86] [86] См., например: 1) Князев Г.А. Д.И.Менделеев и Императорская Академия // Вестник АН СССР. 1931. № 3. Стлб. 27 – 34; 2) Д.И. Менделеев и царская Академия наук (1858 – 1907) // Архив истории науки и техники. 1935. Вып. 6. С. 299 – 331; Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. Л., 1983. 263 с.; История Академии наук СССР. Т. II. М., 1964.
[Закрыть]. Поэтому мы на ней останавливаться не будем.
Заметим, однако, что в период царствования Александра III страну захлестнул настоящий шовинистический угар. Крайним его выражением явились ограничения на прием в высшие учебные заведения поляков и евреев. Эти унизительные процентные нормы были введены в 1886 г.
В 1889 г. президентом Академии наук стал Великий князь К.К. Романов. В те годы острота противостояния «немецкой» и «русской» партий в Академии прошла, иностранцев (по месту рождения) более не приглашали в Петербургскую Академию. И тем не менее инерция прошлых конфликтов была столь велика, что новый президент счел своей главной задачей сделать Академию наук российской, а не немецкой. В своем дневнике за 9 февраля 1890 г. он оставил такую запись: «Читал статьи Бутлерова в “Руси” за 82 год… Встав из гроба, Бутлеров и теперь мог бы написать почти то же самое. Только теперь та разница, что мне, как президенту, самому приходится вести борьбу с немцами, а потому надежды на успех побольше прежнего» [87] [87]Загадка К.Р. (Из дневников Великого князя К.К. Романова) // Москва. 1994. № 1. С. 179.
[Закрыть]. На эту борьбу президент не жалел ни сил, ни времени. Он интриговал против О. Баклунда, не желая этого «иност-ранца со всеми его качествами» допускать до Пулковской обсерватории; в 1890 г. вел борьбу за А.О. Ковалевского против «немца» Ф.Д. Плеске, известного русского орнитолога, директора Орнитологического музея Академии наук. Плеске, кстати, избрали в 1890 г. адъюнктом, как и А.О. Ковалевского, а в 1893 г. – экстраординарным академиком. Однако, не вынеся интриг, шедших, как видим, от самого президента, в 1897 г. Плеске оставил работу в Академии.
Итак, на излете проблема «обрусения» нашей национальной науки приняла уродливый, почти карикатурный характер, ибо к концу XIX века русская наука уже прочно стояла на ногах и ни в какой защите от «немецкого» засилья не нуждалась. Для К.К. Романова же принадлежность к «немцам» определяла только фамилия ученого. «Немцами» для него были Плеске, Струве, Ольденбург, Шмальгаузен и другие чисто русские ученые, родившиеся и получившие воспитание в России.
Такое отношение к «чистоте» науки более напоминало позицию уже вскоре возвысившего голос с трибуны Государственной Думы В.М. Пуришкевича, одного из лидеров «Союза русского народа», столь же рьяно боровшегося за чистоту русской нации.
* * * * *
Еще одну болезнь, которой «повредилась» на российской почве европейская наука, можно диагностировать как «острую финансовую недостаточность». Если государственное финансирование науки является единственным источником ее существования, то наука в прямом смысле становится зависимой от политики, иными словами, попадает в государственную кабалу.
Мысль В.И. Вернадского о том, что планомерная научная работа в России, начатая усилиями Петра I, не прерывалась до тех пор, пока не иссякла «государственная поддержка научного творчества» [88] [88] Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М., 1988. С. 65.
[Закрыть], верна абсолютно. С самого основания Академии наук действовал и негласный стереотип сугубо выборочного поощрения науки: прикладную науку ценили выше фундаментальной, а естественным наукам отдавали предпочтение перед гуманитарными. Иными словами, уже тогда наука поощрялась «за достигнутые успехи»: на содержание Академии наук давали ровно столько средств, чтобы она не протянула ноги, зато отдачи от нее требовали мгновенной.
Ситуация не изменилась и к началу XX столетия.
В 1907 г. В.И. Вернадский писал, что Академия наук «страдает и деятельность ее чрезвычайно тормозится только недостатком средств, нищенскими – по существу дела – ассигновками, какие уделяются ей русским государственным бюджетом» [89] [89] Вернадский В.И. Публицистические статьи. М., 1995. С. 122.
[Закрыть]. Ничего не изменилось и во время «столыпинской реформы». В 1911 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Ломоносова. Вернадский пишет статью «Общественное значение ломоносовского дня». Есть в ней и такие горькие строки: «И теперь, как сто пятьдесят лет назад, при Ломоносове эта истина (мощь государства и сила общества неразрывны с научным творчеством нации. – С.Р.) не воплощается в жизнь русской истории… Создание гения Петра Великого, Коллегия, которой Ломоносов отдал свою жизнь и о которой думал на смертном одре, Императорская Академия наук находится в положении, недостойном великой страны и великого народа; у нас нет средств и нет места для развития научной работы!» [90] [90] Там же. С. 184.
[Закрыть].
Понятно, что при таких тратах на науку трудно было рассчитывать на успех в тех областях знания (экспериментальная физика, техническая химия, полевая геология), которые требуют дорогостоящих экспериментов и экспедиционных работ. Поэтому, как и во все прошлые времена, в начале ХХ века в Академии наук успешно развивались науки, не требующие заметных ассигнований: математика, микробиология и др.
Буквально каждодневной борьбой за лишнюю копейку, нужную для опытов, доказывал важность физиологических исследований первый русский нобелевский лауреат (1904) И.П. Павлов. Он организовал в Институте экспериментальной медицины физиологический отдел, но у государства средств на его содержание не нашлось. Деньги дал принц А.П. Ольденбургский. В 1899 г. И.П. Павлов говорил, что у нас в России к биологическим экспериментам «относятся… с резкой враждебностью… наша экспериментальная работа и наше преподавание экспериментальных наук свои лучшие упования возлагают на будущее» [91] [91]Павлов И.П. Полное собр. соч. Т. II. Кн. 2. М.;Л., 1951. С. 284.
[Закрыть]. Все познается в сравнении. Со поставим и мы. Бюджет лаборатории Павлова, благодаря деньгам принца, в 3,5 раза превышал смету аналогичной лаборатории Военно-медицинской академии. Но и эти расходы позволяли ей только-только приблизиться к ассигнованиям подобной структуры в рядовом немецком университете [92] [92] Григорьян Н.А. Общественно-политические взгляды И.П. Павлова // Вестник АН СССР. 1991. № 10. С. 76.
[Закрыть].
Наступил февраль 1917 г. Теперь ученые все свои надежды стали связывать с новым демократическим правительством. Они были уверены – наступают новые времена, в отношении к науке «все изменится радикально» [93] [93] Неопубликованные и малоизвестные материалы И.П.Павлова. Л., 1975. С. 76.
[Закрыть]. Однако первый прорыв в демократию русской истории закончился крахом. Правда, отношение к науке в итоге действительно изменилось более чем круто. Но только произошло это уже при Советской власти и имело совсем не ту подоплеку, о которой мечтали И.П. Павлов, В.И. Вернадский, А.П. Карпинский и многие другие русские ученые.
Итак, мизерные ассигнования на научные исследования и, как следствие, убогое оснащение большинства лабораторий ставило науку и ученых не просто в зависимое, но в унизительно зависимое положение от властей предержащих. Ученые никак не могли понять – почему Россия отворачивается от науки, почему она не нужна ей, ведь без науки ей не поднять благосостояние общества, не освоить природные ресурсы, даже не создать новые виды вооружений. Одним словом, наука – это основной генератор прогресса. Такова была позиция людей науки.
А что же те, от кого зависело положение науки в стране? В XVIII веке многие из них искренне считали, что Академия наук – блажь Петра, его царева прихоть, никакого проку от труда заезжих иностранцев видно не было. Траты на науку – даже ничтожные – считались «ненужной роскошью» [94] [94] Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. Указ. соч. С. 206.
[Закрыть]. Отсюда и откровенное пренебрежение к ученым: их воспринимали как ученых шутов при царском Дворе. В 1735 г. Анна Иоанновна пригласила к себе академиков Ж.Н. Делиля и Г.В. Крафта. Они развлекали царицу и ее челядь «некоторыми опытами». Очень приглянулись Анне принесенные профессорами астрономические приборы и она приказала оставить их при Дворе [95] [95] Анисимов Е. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 381.
[Закрыть]. Дворовым поэтом Анны Иоанновны был В.К. Тредиаковский. В 1740 г. А.П. Волынский избил его «как непослушного холопа» и посадил в «холодную»…
Хорошо. Это высший свет. Да еще XVIII века. Наука для них – типичное баловство. К тому же бесполезное и даже вредное. А вот мнение о науке и об ученых человека, «приставленного» к Академии наук руководить ею, президента К.Г. Разумовского. Он, как оказалось, быстро убедился в «нерадении некоторых академиков к науке», им, мол, не наука нужна, они и занимаются ею только ради «своекорыстных интересов» [96] [96] История Академии наук СССР. Т. I. Указ. соч. С. 157.
[Закрыть].
Ничего по сути не изменилось и в XIX веке. Павел I самолично дирижировал выборами в Академию наук. Шеф жандармов Л.В. Дубельт докладывал Николаю I, что члены Академии «всегда под присмотром правительства» [97] [97] Соболева Е.В. Борьба за реорганизацию Петербургской Академии наук в середине XIX века. Л., 1971.
[Закрыть]. Какая уж тут наука. Д.И. Менделеев в 1856 г. с горечью заметил, что в России тех лет заниматься научной деятельностью было просто невозможно [98] [98] Там же. С. 26.
[Закрыть]. Русские университеты были бедны материально, бедны учеными, еще беднее «интеллектуальной свободой». При либеральном Александре II в этом плане все осталось по-прежнему. В 1879 г. шеф жандармов А.Р. Дрентельн писал царю, что он предупредил профессоров Д.И. Менделеева и Н.А. Меншуткина – коли они и далее будут без должного почтения относиться к полицейской инспекции занятий в Петербургском университете, то их немедленно вышлют из Петербурга. Александр II пометил на полях: «И хорошо сделал» [99] [99] Мейлах Б. Послесловие к статье Д.И. Менделеева «Какая же Академия нужна в России?» // Новый мир. 1966. № 12. С. 195.
[Закрыть].
* * * * *
Из-за нищенских ассигнований на науку, из-за унизительного и полностью подневольного положения ученых, когда даже сам факт существования Академии наук мог зависеть от самодурства Высочайшей особы, произросла еще одна хроническая болезнь российской науки: привечание сильных мира сего, избрание в Академию людей влиятельных, могущих и пособить и охранить, если надо. А то, что они никакого отношения к науке не имели, на это сознательно закрывали глаза. Помог достать деньги на строительство лаборатории, замолвил слово перед самодержцем – уже хорошо. Еще Ломоносов, прекрасно понимая хрупкость и беззащитность Академии, полагал, что куда полезнее для дела, если президентом Академии будет «человек именитый и знатный, имеющий свободный доступ до монаршеской особы» [100] [100] Ломоносов М.В. Полное собр. соч. Т. 10. М.;Л., 1957. С. 121.
[Закрыть].
Так что патронаж стал неотъемлемой формой бытия российской науки практически с самого основания Академии наук. Еще Петр, подчинив Академию лично себе, стал ее первым Высочайшим покровителем. Однако его преемники не унаследовали петровский пиетет к наукам. Поэтому Академия сама решила привлекать «полезных» людей на свою сторону. Так, видя полное равнодушие Елизаветы Петровны к судьбе отечественной науки, усилиями Ломоносова Академия заручилась поддержкой И.И. Шувалова, чуть ли не единственного интеллектуала ее Двора [101] [101] Каменский А. «Под сенью Екатерины…» СПб. 1992. 448 с.
[Закрыть]. «И не будет преувеличением утверждать, – пишет Е.В. Анисимов, – что не видать бы нам первого университета в 1755 году или Академии художеств в 1760-м, если бы с императрицей Елизаветой спал кто-то другой, а не добрейший Иван Иванович Шувалов – гуманист, бессребреник и просвещенный друг Ломоносова» [102] [102] Анисимов Е. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 251.
[Закрыть].
В годы правления Екатерины II почетными академиками были избраны граф А.А. Безбородко, светлейший князь Г.А. Потемкин, граф Н.И. Панин, граф Г.Г. Орлов, граф И.Г. Чернышев, граф А.И. Васильев и др. Всего же с 1765 по 1803 г. Академия избрала своими почетными членами 51 сановного чиновника, в их лице она приобрела сразу 51 покровителя [103] [103] См.: История Академии наук СССР. Т. I. М., 1958.
[Закрыть].
В 1766 г. Екатерина назначила директором Академии наук графа В.Г. Орлова. Президентом оставался гетман Украины К.Г. Разумовский. В Указе, сопровождавшем это назначение, говорилось о «великом нестроении» и почти полном упадке Академии. Екатерина решила возродить петровское начинание и «взять» Академию «в собственное свое ведомство для учинения в ней реформы к лутшему и полезнейшему ее поправлению» [104] [104]Там же. С. 317.
[Закрыть]. Эта царская инициатива была закреплена в Уставе Академии 1803 г. и затем перекочевала в Устав 1836 г., параграф 13 которого гласил: «Академия наук и все члены ее состоят под особенным Высочайшим покровительством» [105] [105]Там же. С. 689.
[Закрыть]. Однако общаться со своим покровителем ни академики, ни даже президент Академии права не имели. Все дела Академии наук до Императорского Величества «восходили» через министра народного просвещения. А это уже отнюдь не покровитель, это всего лишь российский чиновник.
Когда в 1826 г. отмечали 100-летие Академии наук, то избрали сразу 13 почетных членов: двух ученых (В.Я. Струве и И.Ф. Эверса) и 11 сановников во главе с Николаем I [106] [106] Павлова Г.Е. Организация науки в России в первой половине XIX века. М., 1990. 239 с.
[Закрыть]. Членами высшей ученой корпорации России стали шеф жандармов А.Х. Бенкендорф, министр финансов Е.Ф. Канкрин, министр юстиции Д.В. Дашков, обер-прокурор Святейшего Синода Н.А. Протасов и другие представители верховной российской элиты.
Был, однако, патронаж и другого рода, когда люди высшего света, «просвещенные дилетанты», «страстные любители наук», «практикующие вельможи», не только сами увлекались научными поисками, но своим влиянием, а главное деньгами помогали и профессиональным ученым. В истории русской науки XIX века примеров подобного патронажа множество: А.Н. Оленин и А.С. Шишков, Ф.А. Толстой и А.И. Мусин-Пушкин, Н.П. Румянцев и многие другие представители именитых русских родов. В частности, наследие и память о графе Н.П. Румянцеве – это не только его книжное собрание, ставшее основой Российской государственной библиотеки в Москве, но и неоценимая финансовая помощь в организации первой русской кругосветной экспедиции.
Известна активная финансовая поддержка уральского промышленника П.Н. Демидова в организации геологического изучения Донецкого бассейна в первой половине XIX века [107] [107] Новик Е.О., Пермяков В.В., Коваленко Е.Е. История геологических исследований Донецкого каменноугольного бассейна (1700 – 1917). Киев, 1960. 531 с.
[Закрыть]. Эта же фамилия долгие годы спонсировала Московский университет. Со дня своего основания в 1817 г. и в продолжение всего XIX века под патронажем герцогов Лейхтенбергских просуществовало Минералогическое общество. С момента организации в 1845 г. Русского географического общества его президентом стал Великий князь Константин Николаевич (сын Николая I) и отец будущего президента Академии наук. Великий князь Николай Михайлович, вполне профессиональный историк, был президентом Русского исторического и Русского географического обществ [108] [108] Александров Д.А. Историческая антропология науки в России // ВИЕ и Т. 1994. № 4. С. 3 – 22.
[Закрыть]. И так далее.
Не изменила своим традициям поиска сановных покровителей Академия наук и после 1917 г. Но если раньше, как мы убедились, подобного патронажа ученые искали в надежде облегчить финансовую немощь науки и это иногда удавалось, то затем сама идея патронажа оказалась перелицованной: приближая к себе представителей властной большевистской элиты, Академия тем самым как бы облегчала нажим на себя всей политической системы. Но только «как бы». Ибо система, в частности, в 30 – 50-х годах XX века, не воспринимала заигрывания, она с готовностью поставляла в академики своих лидеров, а потом с той же готовностью расправлялась с ними.