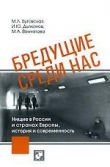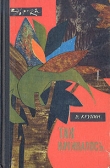Текст книги ""Притащенная" наука"
Автор книги: Сергей Романовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
* * * * *
Уже перечисленным букетом заболевания российской науки не ограничиваются. Одной из самых поразительных и стыдных для общества ее болезней стала полная ненужность науки государству, которое ее силой инъецировало в русскую жизнь и худо-бедно содержало.
Это означает, что научное сообщество в России всегда существовало само по себе, занималось своим, только ему нужным делом, а государство полностью от него дистанцировалось и не нуждалось в научной продукции, за которую платило. Подобная отчетливо абсурдная ситуация была характерной для всего периода существования русской науки как государственного института.
Причины назвать несложно. Россия, что мы уже отметили, не «выносила» свою науку в процессе длительной культурной эво– люции нации, наука ей была навязана как готовый продукт западноевропейского образца. Оказавшись поэтому чужеродным элементом в стране, воспитанной совсем на иных традициях, науку так и не удалось встроить в государственный организм, а потому она существовала изолированно от него.
К тому же для России всегда был характерен политический диктат экономике. Экономика страны никогда не развивалась как открытая система, ей постоянно «указывали» и ее реформировали сверху. Даже когда в стране стали складываться рыночные отношения (вторая половина XIX века), народившийся капитализм стал не рыночным, а чиновно-бюрократическим. Бюрократия же в России была всевластной и практически бесконтрольной. «”Свобод” она отпускала ровно столько, за сколько удавалось заплатить» [109] [109] Царахова Е.М. Трагическая повторяемость проблем России // Вестник РАН. 1992. № 2. С. 38.
[Закрыть]. Так рыночные реформы в России породили особый, чисто российский тип капитализма – бюрократический, он не столько поднял уровень жизни, сколько явился основным катализатором неразрешимых социальных проблем.
Понятно, что в подобных условиях экономика не нуждалась в инновациях, а правительство, прекрасно сознавая, что повышение уровня общественной рефлексии является неизбежным следствием либеральных преобразований, в частности в области образования и науки, делало все от него зависящее, чтобы эти преобразования были чисто «бумажными» и не расшатывали государственный монолит.
По этим причинам не только Академия наук, но и вся российская наука на протяжении XVIII и XIX веков были в стране «чужеродным телом», связь ее с обществом практически нацело отсутствовала [110] [110] Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М., 1988. 468 с.
[Закрыть]. Ученые, которые в первые годы после организации Академии наук справедливо чувствовали себя гостями России, никак – даже во втором и третьем поколении – не могли избавиться от этого чувства, ибо не ощущали свою нужность стране, которой верно служили.
Когда в 1862 г. понятие «ученый» обрело в российском законодательстве права гражданства, то долго не могли решить, какое же место указать ученым в привычной иерархии; наиболее подходящей нашли параллель с «комнатными надзирателями гимназий» и «сенатскими курьерами» [111] [111] Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. Л., 1983. С. 42.
[Закрыть].
Удивляться тут нечему. Представители власти, от которых напрямую зависело положение науки, науку совсем не ценили, не понимая, что может дать России ее развитие. Они отпускали жалкие крохи Академии наук только потому, что без них ученые (в большинстве иностранцы) просто протянут ноги и что тогда скажут в Европе? А живая повседневная работа ученых власть не заботила. Даже в просвещенный екатерининский век высшие государственные сановники относились к науке с нескрываемым пренебрежением, как к некоей безделице. Канцлер граф М.И. Воронцов с негодованием писал о своей образованной и любознательной племяннице княжне Е.Р. Дашковой, что она «имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в науках и пустоте время свое проводит» [112] [112] Ключевский В.О. Исторические портреты. М., 1990. С. 317.
[Закрыть].
Когда в 1883 г. открывалась Российская Академия наук, директором которой была назначена Е.Р. Дашкова, по крайней мере ей было ясно, что наука в России пока считается делом праздным, для страны ненужным; в своем приветственном слове она выразила уверенность, что наука будет процветать и «принадлежать всей России», а не останется монополией узкого круга лиц [113] [113] Толстой М.П. Е.Р. Дашкова – организатор российской науки // Вестник РАН. 1993. Т. 63. № 3. С. 245 – 248.
[Закрыть]. Сказала и… забыла, ибо казенными словами «нужность» науки обосновывать бесполезно.
Сами ученые, даже в конце XIX века, продолжали чувствовать себя в стране элементами чужеродными, зависимыми и подневольными. В 60-х годах физиолог И.М. Сеченов писал Д.И. Менделееву: «Россия производит на меня очень скверное впечатление. Если мое теперешнее настроение духа будет долго продолжаться, то я непременно удеру совсем за границу» [114] [114] Березовский В.А. Иван Михайлович Сеченов. Киев. 1981. С. 88.
[Закрыть]. О том же многократно писал А.О. Ковалевский И.И. Мечникову [115] [115] Письма А.О. Ковалевского к И.И. Мечникову. М.;Л., 1955. 228 с.
[Закрыть], сходные мотивы содержатся в письмах И.И. Мечникова, Н.А. Головкинского, В.О. Ковалевского, С.В. Ковалевской и еще многих выдающихся русских ученых. Когда собирались съезды русских естествоиспытателей и врачей или торжественно отмечался юбилей какого-либо учреждения, то произносились те же парадные слова á la Дашкова, в такие дни наука встречалась торжественно; но никак было не отделаться от мысли, писал в 1889 г. В.И. Вернадский, что «она должна заискивать перед силою, что власть не в ее руках и что она все-таки только терпима» [116] [116]Вернадский В.И. Письма Н.Е. Вернадской (1889 – 1892). М., 1991. С. 34.
[Закрыть].
Ученый не ошибся в своих чувствах. Наука в России всегда была и остается нелюбимой падчерицей. Ее кормили, но чаще все же держали на голодном пайке и относились к ней с полным безразличием. Ее могли «наказать», а могли вообще выгнать из дома [117] [117] Мирская Е.З. Проблема справедливости в советской науке // Вестник РАН. 1993. Т. 63. № 3. С. 197.
[Закрыть].
Несовместимость подобного отношения к науке с политическими претензиями России в развивающейся Европе стала заметной уже в начале XIX века. Техническая вооруженность промышленности западноевропейских стран переживала радикальное обновление: появились механические станки, паровые двигатели, стали строить железные дороги, на реках задымили пароходы. Понятно, что все эти технические новшества – результат научных проработок, они и стимулировали дальнейшее развитие науки в странах Западной Европы, чему способствовала и открытая рыночная экономика, требовавшая постоянного технологического обновления промышленности.
Что же Россия? У нее, как мы знаем, «собственная стать». Русскую науку именно в те годы практически прекратили финансировать и еще более перекрыли клапаны свободного поиска.
… В 1811 г. Александр I заявил, что отныне и навсегда только Закон Божий является «главною и существенною целью образования» [118] [118] Павлова Г.Е. Организация науки в России в первой половине XIX века. М., 1990. С. 58.
[Закрыть]. После победы над Наполеоном в 1812 г. знания стали трактоваться как «источник заблуждения», а деятели науки, как, впрочем, любые мыслящие люди, теперь «подтачивали» основы государственного строя. Как это не дико звучит, но в этих словах – большáя доля истины, ибо абсолютизм и свободомыслие – вещи несовместимые. Поэтому, чтобы продлить существование абсолютной монархии, власти и стремились вставить цензурный кляп литературе, стерилизовать высшее образование, перекрыть кислород науке. Это упреждающие меры самосохранения. Конкретно же соединили веру и знание, сделав знания – функцией веры. Науку, как в средние века католической Европы, стали преподносить как «служанку Богословия», а фундаментом просвещения, уже как в российские средние века, стало «христианское благочестие».
* * * * *
Особенно пагубно на развитие российской науки сказалось еще одно заболевание: полная зависимость науки от государства, точнее – от каприза монарха и откровенного пренебрежения к ней чиновничества; невозможность осуществлять свободный научный поиск, а необходимость подстраивать свою работу под «практичес-кую пользу»; наконец, откровенный страх даже малейшего намека на инакомыслие, за что в России всегда расплачивались свободой, а то и жизнью. Когда в 1741 г. Л. Эйлер был вынужден временно уехать из России, то, будучи в Берлине, на вопрос королевы о его необычной молчаливости, Эйлер ответил: «Мадам, я только что прибыл из страны, где людей вешают, если они разговаривают» [119] [119] Кузнецова Н.И. Социальный эксперимент Петра I и формирование науки в России // Вопросы философии. 1989. № 3.С. 59.
[Закрыть].
Реформы Петра, понятно, встретили яростное сопротивление почти всех сословий. Потому сразу одним из основных инструментов реформ стал политический сыск. Мера для России привычная. В России понимали, что реформы и свободомыслие несовместимы. Реформы всегда инъецировались властью. Перечить ей было нельзя. А так как толкователи того, что такое «плохо», были наиболее рьяными слугами власти, то проще было заставить замолчать всех. Что и делали. Поэтому и при Петре никакого свободного циркулирования идей, кроме тех, что были на потребу цареву делу, не было и быть не могло. Хотя именно он, как никто другой, понимал, что реформы без науки зачахнут. Как выразился Я.А. Гордин, «Демиург строил свой мир, в котором не было места автономии духа» [120] [120]Гордин Я. Дело царевича Алексея, или Тяжба о цене реформ // Звезда. 1991. № 11. С. 123.
[Закрыть].
В то же время было бы неверно считать, что Петр I, напрямую связывая развитие науки с раскрепощением мысли, боялся свободомыслия, а потому пересаженное им в русскую почву древо знаний долго не желало приживаться. Во-первых, уже в начале XVIII века Петр столь сильно укрепил свое самовластво, что вообще ничего и никого не боялся. К тому же напор его реформаций был столь силен, а царский гнев против сомневающихся был настолько неукротим, что это не только отшибало всякое желание «рассуждать», но даже высшую знать по сути сделало царскими холопами. Во-вторых, в те годы прямой связи между развитием знания и раскрепощением сознания человека вообще не просматривалось, ибо за науку почиталось только вполне конкретное, да к тому же практически полезное дело. Наконец, в-третьих, Петр не культивировал, а насаждал науку, исходя при этом из традиционного для России узко прикладного воззрения на «книжное обучение», лишь перенеся акцент от вопросов душевного спасения к проблемам технического прогресса.
Недаром основные задачи, которые он поставил перед Академией наук, сводились к разностороннему изучению Сибири и восточных окраин империи. Конкретно это должно было вылиться в решение трех основных задач: составление географической карты всего Российского государства, определение границ Азии и Америки, наконец, подробное исследование физико-географических условий всей Сибири. (Нельзя не отметить весьма характерный штрих. Берингов пролив открыл еще в 1648 г. якутский казак Семен Дежнев. Но это выдающееся событие Петру было неизвестно. Географические открытия вплоть до середины XIX века считались в России «секретными», а потому сразу погребались в бесчисленных канцеляриях [121] [121]Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. Указ. соч. С. 86.
[Закрыть]. Так, в 1720 г. по приказу Петра I в Сибирь отправилась экспедиция Д. Мессершмидта. Когда в 1727 г. она вернулась в Петербург, то все материалы у Мессершмидта мгновенно отобрали, а сам он клятвенно заверил чиновников, что ни одного слова об этой экспедиции не напечатает. По повелению Е.Р. Дашковой так же поступили в 1783 г. с материалами экспедиции В. Зуева)
Импортировав науку в Россию и не сделав ее органически необходимой для развития общества, Петр I тем самым протрассировал через будущую историю все ее беды и коллизии. Главная из них – полная, по сути крепостническая, зависимость ученого сословия страны от правительственных чиновников, а им нужды ученых были всегда абсолютно безразличны. Поэтому наука в России и в XVIII и в XIX столетиях развивалась только благодаря самоотверженному, бескорыстному служению Истине подлинных подвижников. Как писал В.И. Вернадский, даже в начале XX века ничего не изменилось в сравнении с временами М.В. Ломоносова – как тогда, так и теперь «русским ученым приходится совершать свою национальную работу в самой неблагоприятной обстановке: в борьбе за возможность научной работы» [122] [122] Там же. С. 61.
[Закрыть].
И все же, как бы там ни было, Н.А. Бердяев правильно заметил, что мысль и слово пробудились от вековечной русской спячки именно в петровской России. Науку в стране прописали!
Русский историк А.А. Кизеветтер был уверен в том, что резкий рывок мысли от чисто религиозного миросозерцания к естественнонаучному во время петровских реформ был возможен только потому, что раскол русского православия выбил из верующих все фанатично-дремучее, заставил их и на собственную веру смотреть широко открытыми на мир глазами.
В этом утверждении – лишь малая доля истины. Бесспорно лишь то, что реформы Петра Великого готовили все его предшественники последних столетий. Еще при Борисе Годунове вынуждали русское боярство носить европейские кафтаны и пытались заставить их брить бороды; то же делали дед и отец Петра. Еще Борис Годунов отправил на учебу за границу партию смышленых русских отроков, но все они стали первыми невозвращенцами. Михаил Романов старался реформировать русскую армию, желая сделать ее профессиональной. А Алексей Михайлович метался в поисках подходящих экономических новаций, поскольку казна дала катастрофическую течь.
Все это действительно было. Но делалось эпизодически и вяло, а потому так ничего до конца и не было доведено. Самым «последовательным» реформатором был лишь один Иван Грозный. Своей патологической, не поддающейся никакому рациональному осмыслению, жестокостью он посеял такой глубинный неистребимый страх в людях, что страх этот, передаваясь от поколения к поколению, благополучно дожил до времени петровских реформ. Именно «государев страх», а ничто другое явился лучшим «помощ-ником» всех начинаний Петра Великого.
В отношении науки в реформах Петра просматривается вполне определенный парадокс: реформы дали мощный начальный импульс для ее развития, но одновременно дух и стиль всей реформаторской программы были такими, что неизбежно должны были в дальнейшем заглушить начавшие проклевываться ростки свободной научной мысли. Объясняется это просто: Петр реформировал систему российской государственности, нисколько не заботясь об обратных связях. А потому все реформы, исключая те, что цементировали систему управления, после смерти преобразователя мгновенно остановились или даже дали обратный ход.
Так, уже при Елизавете Петровне президент Академии наук граф К.Г. Разумовский докладывал Сенату: что касается заявления некоторых академиков, будто «науки не терпят принуждения, но любят свободу», то, по его мнению, за этими словами скрывается ни что другое, как «желание получать побольше денег, но поменьше работать» [123] [123] История Академии наук СССР. Т. I. С. 157.
[Закрыть]. Подобное отношение российского чиновничества к науке, сохраняясь все последующие годы, благополучно дожило до наших дней. Но начальный импульс такого небрежения был задан Петром I, ибо – не грех и повторить – Академия наук была в то время нужна лично ему, но не России.
Про реформы Петра обычно говорят, что он стремился подогнать Россию под общеевропейский стандарт, силился навязать России Европу, наплевав на историю страны, национальные традиции, особую историческую миссию России и т.д. Если бы так, то никакой беды бы не было. Россия, даже полностью переняв европейский стиль жизни, все равно осталась бы именно Россией и никогда не превратилась бы в подобие Германии или Франции. Беда в том, что Петр с его исполинским замахом копал на самом деле очень мелко. Его реформы, в том числе и научная, истинно русской жизни, российской глубинки не затронули. У Европы он перенял лишь вершки (одежда столичной знати, немецкая речь, ассамблеи, коллегии по-шведски и т.п.), а корешки остались в российской почве. Их он не только не вырвал, но своими реформами вынудил расти еще более интенсивно.
Реформаторский дух, которым в начале XVIII века уже жила Европа, Петр сознательно не заметил. Он поставил перед собой практически неразрешимую задачу: поднять экономику страны, не дав свободы товаропроизводителю, повести за собой православных, одновременно открыто издеваясь над церковью, привить любовь к научному поиску при открытом пренебрежении государства к труду ученых.
На самом деле в Европе экономика постепенно освобождалась от административных пут. В России же еще при Петре экономика полностью закостенела – стала не саморегулируемой, а чиновнично-бюрократической. Даже частные предприятия, по словам В.О. Ключевского, «имели характер государственных учреждений». На Западе уже в то время развивался рынок свободной рабочей силы. Петр же зареформировал российскую экономику до того, что в стране появился невиданный ранее слой общества – крепостные рабочие. Отсюда, кстати, и неизбежные беды российской науки, ведь хорошо известно, что именно оптимальное развитие экономики страны предопределяет органичную потребность в труде ученых, ибо только в этом случае научные открытия востребуются обществом и оно же дает дополнительные стимулы для дальнейшего развития науки. Коли этого нет, то наука остается уделом ученых-подвижников, научный поиск является их личной судьбой, а общество вполне может обойтись и без науки и без ученых.
* * * * *
То, что наука – система жесткая и авторитарная, хорошо известно. Жесткость задана изначально конечной целью науки – поиском Истины, а авторитарность предопределяется тем, что истина покоряется только людям талантливым и одержимым. Именно они всегда являются лидерами зримого или незримого научного коллектива. Однако кроме понятия «лидер» есть еще одно, не менее значимое – чиновник от науки. Именно он является реальным руководителем, управленцем и от его управленческого таланта зависит главное – возможность реализовать свои способности рядовыми научными работниками. У каждого чиновника есть свой начальник – чиновник большего калибра, и вся эта чиновничья армада складывается в непроницаемую паутину, под которой барахтается ученый.
В России чиновничья паутина во все времена обладала двумя особенностями: во-первых, чем более высокий пост занимал чиновник, тем ниже был уровень его профессиональной компетенции, и, во-вторых, непосредственным делом занимались чиновники нижних ступеней, а чиновная элита служила лишь политическим рупором власти. Все же вместе были заняты деформацией политики в практические дела. А так как российский чиновник всегда уверен, что его распоряжения следует выполнять, как армейский приказ, то в чести у него те, кто смотрит не мигая и исполняет не рассуждая. Когда у министра народного просвещения И.Д. Делянова спросили: «Отчего философ В.С. Соловьев не профессор? – У него мысли», – сказал министр [124] [124] Розанов В. Избранное. Мюнхен. 1970. С. 243.
[Закрыть].
Отмеченные особенности – не результат сегодняшнего кабинетного анализа. Они лежат, что называется, на поверхности, а потому замечались всегда. С первого «номенклатурного» назначения президентом Академии наук 18-летнего юноши К.Г. Разумовского в 1746 г. стало ясно, что наука, а чуть позднее и высшее образование, отдаются «на откуп» людям верным, в первую очередь, власти, а уж затем делу, коим они поставлены управлять. По этой причине российское чиновничество никогда не пользовалось уважением тех, кем оно руководило. И чем выше пост, тем это уважение меньше.
«Главный враг в России – чиновник во всех видах и формах, – записывает 8 апреля 1900 г. в своем дневнике В.И. Вернадский. – В его руках государственная власть, на его пользу идет выжимание соков из народной среды… Эта гангрена еще долго и много может развиваться» [125] [125] Вернадский В.И. Размышления по аграрному вопросу // Вестник АН СССР. 1989. № 7. С. 102.
[Закрыть].
Мы отмечали уже, что одной из сущностных «особостей» России является не ее плавное эволюционное развитие, а эпизодические реформы, призванные это развитие подхлестнуть. И начинались они не тогда, когда предельная разбалансированность политической, экономической и социальной систем как бы подсказывала сама, что пришло время что-то делать, а когда во главе государства оказывался монарх, реформаторские притязания которого соответствовали его внутренним нравственным обязанностям. Вообще говоря, «реформаторами» были все российские государи, ибо во все времена ощущалась необходимость в каких-либо переменах. Каждый из них вводил некие новшества в русскую жизнь, пытался что-то изменить, что-то скорректировать. Однако лавры «реформатора» достались всего двум царям: Петру I и Александру II, ибо именно они, каждый по-своему, изменили русскую жизнь до неузнаваемости.
В частности, Александр II, что стало ясно уже в его время, взвалил на себя непосильную ношу, ибо у него не хватило твердости обуздать русское общество, пошедшее вразнос благодаря неуправляемой лавине реформ. К тому же он не обладал решающим качеством любого преобразователя – умением подбирать кадры чиновников для практической реализации своих начинаний. Все современники дружно писали о «бездарных», «трусливых», «тупых» министрах правительства Александра II, а для чиновников рангом ниже вообще не находили подходящих благозвучных эпитетов в русском языке.
Любопытно следующее. Каждое новое царствование, как правило, начиналось корректировкой политического курса и формированием нового правительства [126] [126] Это легко проследить даже на примере университетских уставов XIX века. Их содержание в точности соответствовало намерениям очередного монарха. Так по Уставу 1804 г. (во время правления Александра I) у университетов была хоть какая-то автономия, Устав 1835 г. (при Нико– лае I) ее полностью уничтожил, в 1863 г. при Александре II ее вновь «даровали» университетам, а в 1884 г. при Александре III благополучно отобрали.
[Закрыть]. Однако основная масса чиновников оставалась на своих местах. Ранее они слепо выполняли одни команды, теперь были готовы с той же безоглядностью исполнять другие.
Так, историк М.Н. Погодин, один из идеологов николаевс-кого царствования, мыслями которого во многом пропитаны конкретные шаги «охранительного» режима, сразу после смерти Николая I вдруг «прозрел» и стал советовать Александру II реформы невиданного размаха. «Надо вдруг приниматься за всё», – писал он императору еще в 1856 г. [127] [127] Захарова Л. 1861: реформа и реформаторы // Неделя. 1989. № 5 (1505).
[Закрыть].
Александр II и принялся: вдруг и за всё. Указы, циркуляры и постановления сыпались как из рога изобилия, но, попадая к тем, кому надлежало их исполнять, вдруг сразу менялись до неузнаваемости. Все это видели и возмущались. А потому Высочайшие благодеяния на поверку оказывались просто издевательством над здравым смыслом, касалось ли это университетского образования или свободы печати.
Про науку же Александр вообще забыл. Ему было не до науки. Взявшись за глобальную реформацию страны, он, вероятно, думал, что все остальное – и наука в том числе – само выправится под воздействием главных реформ. Но этого не случилось и случиться не могло. Более того, именно при Александре II еще более снизилось финансирование науки, а Академией наук стали управлять и вовсе никчемные министры народного просвещения. В чем же дело?
Причина простая. Александровские реформы были задуманы как либеральные, они пытались взрастить либеральные идеи на чуждой им почве абсолютизма. Ничего из этой затеи не вышло и выйти не могло. Непробиваемому слою чиновной бюрократии, взлелеянному еще Николаем I, либеральный дух был невыносим, он не был их средой обитания. А потому либеральные реформы сразу искорежились и выродились в либерализм по-чиновничьи. А чего он стоит на деле, легко убедиться, вспомнив сюжет с организацией государственной геологической службы страны, описанный нами в других работах [128] [128]Романовский С.И. 1)Александр Петрович Карпинский (1847 – 1936). Л., 1981. 484 с.; 2) История организации в России государственной геологической службы //Вопросы истории естествознания и техники. 1981. № 3. С.115 – 121; 3) История создания Геологического комитета //Труды ВСЕГЕИ. 1982. Т.314. С.13 – 26; 4) Роль Минералогического общества в организации государственной геологической службы страны //Записки ВМО. 1982. Ч.CXI. Вып. 1. С.3 – 12.
[Закрыть]. Протекала же эта почти 20-летняя драматическая эпопея как раз в пору расцвета либерализма александровского времени.
Либеральные идеи, пытающиеся просочиться сквозь паутину чиновной иерархии, в которой, по образному выражению Ф.И. Тютчева, «каждый чиновник чувствует себя самодержцем», выходят из этой схватки с жестким бюрократическим намордником. Узнать за «исходящими» циркулярами начальную идею было невозможно. И эта же причина стала, в частности, мощным раздражителем демократической российской интеллигенции. Она молилась на одно, а ей предлагали совсем другое. Разочарованию не было предела. Именно годы «оттепели» Александра II отмечаются невиданными ранее в России масштабами протестов, забастовок, демонстраций и терроризма. Царь-освободитель легализовал «бесов» и они распоясались.
Между тем в условиях абсолютизма любые реформаторские новации сказывались не только на общественном климате в целом, но прямо влияли на научную среду, вплоть до постановки конкретных исследовательских проектов и даже отражались на интерпретационном настрое ученых. Так, при существовании Министерства духовных дел и просвещения (то же своеобразная реформа системы образования) было небезопасно говорить вслух об эволюционных идеях, хотя биологам они уже были известны [129] [129] Микулинский С.Р. Карл Францевич Рулье (1814 – 1858). М., 1979. 335 с.
[Закрыть]; в те же годы геология погрязла в бесплодных дискуссиях между нептунистами (все горные породы – из воды) и плутонистами, отдававшими приоритет творения огню [130] [130] Романовский С.И. Великие геологические открытия. СПб., 1995. 216 с.
[Закрыть]. Философия была вообще предана анафеме, в 1854 г. ее даже запретили преподавать [131] [131] Павлова Г.Е. Организация науки в России в первой половине XIX века. М., 1990. 239 с.
[Закрыть]. И все это, по большому счету, не просто следствие государственной политики, это результат чиновного гнета от избытка послушания, эту политику олицетворявших.
Так что ученые более других нуждались в ослаблении чиновных пут. Они душили их с самого основания Академии наук, ибо уже тогда русское правительство не видело никакой разницы между учеными и чиновниками. А если и видело, то предпочтение отдавало последним, поскольку чтó печатать, а что нет решал Сенат или Синод [132] [132] История Академии наук СССР. Т. I. М., 1958.
[Закрыть]. Ровно через 100 лет после открытия Академии наук ее прямой начальник, т.е. министр народного просвещения адмирал А.С. Шишков, сразу ставший с занятием этой должности по стародавней российской традиции главным специалистом по высшему образованию и науке, писал следующее: «Науки полезны только тогда, когда, как соль, употребляются и преподаются в меру» [133] [133] Павлова Г.Е. Указ. соч. С. 77.
[Закрыть]. Идеально же, по адмиралу, заниматься наукой «без умствования».
* * * * *
Наступила последняя фаза монархического правления, но от чиновничьего гнета наука не только не избавилась, напротив, он резко усилился. Даже в конце XIX века, по словам физиолога В.Я Данилевского, в университетах царил «департаментский дух» [134] [134]Григорьян Н.А. Великие русские ученые о реформе образования и науки // Вестник РАН. 1993. Т. 63. № 2. С. 106.
[Закрыть]. С ним был согласен и В.И. Вернадский: «Профессора высших учебных заведений – университетов и технических институтов – нигде в цивилизованном мире не поставлены в настоящее время в столь унизительное положение, как у нас в России». И далее: профессор университета в России – «не только ученый, но и звено бюрократической машины» [135] [135]Вернадский В.И. Публицистические статьи. М., 1995. С. 26.
[Закрыть]. Это из статьи В.И. Вернадского 1904 г.
Удивляться тут нечему. Вернадский, впрочем, и не удивлялся. Он лишь констатировал данность. Состояла же она в том, что любое государственное учреждение в России (в том числе университеты и Академия наук) есть проводник государственной политики. «Проводниками» и служит армада чиновников: чем менее грамотных, тем более преданных власти.
Выход из этого очевидного тупика Вернадский видел в том, чтобы высшая школа была не только учебным заведением, в ней должна вестись активная научная работа. Почему так? Потому, что научная работа – сама по себе – раскрепощает мысль, а потому и университетские профессора оказываются более свободными [136] [136] Там же. С. 179.
[Закрыть]. Но понимали это не только столь дальновидные мыслители, как Вернадский, легко прочитывали эту логическую цепочку и часто сменявшие друг друга министры народного просвещения. Именно они делали все от них зависящее, чтобы российские университеты, да и Академия наук, никогда бы не вышли за отведенные им рамки свободомыслия.
* * * * *
В заключение этой главы несколько крайне важных цифр. В России до 1917 г. было порядка 300 научных учреждений. В них, включая вузы, работало около 12 тыс. человек. В стране значилось 105 высших учебных заведений, из них всего 11 университетов. Студенчество составляло 127,5 тыс. человек. Распределение вузов по стране было крайне неравномерным. Они были рассредоточены в 21 городе, однако более половины из них располагались в Петербурге и Москве [137] [137] Научные кадры СССР: динамика и структура. М., 1991. 284 с.
[Закрыть].
А.Е. Иванов, долгие годы изучающий этот вопрос, приводит несколько иные данные [138] [138]Иванов А.Е. Высшая школа российской империи начала XX ве-ка // Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 3. С. 265 – 274.
[Закрыть]. К февралю 1917 г. в составе высшей школы было 124 заведения: 11 университетов, 40 школ университетского типа, 9 педагогических институтов и высших курсов, 9 учебных заведений музыкально-театрального и художественного профиля, 7 духовных академий, 19 инженерных, 15 сельскохозяйственных, 6 коммерческих институтов, 8 военных, военно-морских академий и высших училищ. Во всех этих учебных заведениях работало 4,5 тыс. профессоров и преподавателей. Обучалось в них более 120 тыс. студентов. В своих подсчетах автор объединил государственные и частные высшие школы. Собственно государственная система образования включала всего 65 учебных заведений, в них обучалось 65 тыс. человек.
Исторически сложилось так (иначе, кстати, и быть не могло), что основным назначением высшей школы в России была подготовка кадров «для обслуживания государственного аппарата» [139] [139] Там же. С. 266.
[Закрыть]. Правда, касалось это в основном университетов, ибо в них получали образование только дети дворян, выходцы же из других слоев общества могли обучаться лишь в институтах.
Николай II даже в 1916 г. считал, что уже имеющихся 11 университетов более чем достаточно и ответил отказом на просьбу правительства об открытии новых высших учебных заведений. Однако вскоре одумался и 30 июня 1916 г. утвердил доклад министра народного просвещения графа П.Н. Игнатьева, сняв тем самым свой запрет.
Но было поздно. Шла Первая мировая война, а у «парадного подъезда» Российской империи уже топтались нетерпеливые политически озабоченные интеллигенты, стремившиеся поскорее обрушить шатающийся царский трон.
А что же средоточие нашей отечественной науки – Петербургская Академия наук? Она, как мы знаем, была задумана и благополучно просуществовала до начала XXI века как обычное российское бюрократическое учреждение только научного профиля. До большевистской власти вся научная работа велась только в самой Академии. Никаких институтов в ее структуре не было. И хотя некоторые академики пытались создать «под себя» научные институты, академическое начальство их не поддерживало.
В 1915 г. в разгар Первой мировой войны по инициативе академика В.И. Вернадского была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил страны (КЕПС). Именно в ее структуре и были созданы первые институты научного профиля. Всего за два года (с 1915 по 1917) КЕПС рассмотрела более 20 проектов новых институтов. 18 декабря 1916 г. Вернадский на заседании КЕПС сделал доклад «О государственной сети исследовательских институтов». Его идея: институты должны организовываться по заранее утвержденному плану. Именно «составление такого плана должно явиться ближайшей задачей нашей комиссии», – говорил в своем докладе Вернадский [140] [140]Бастракова М.С. Академия наук и создание исследовательских институтов // Вопросы истории естествознания и техники. 1999. № 1. С. 161.
[Закрыть].
По твердому убеждению В.И. Вернадского и Н.К. Кольцова, создание продуманной сети научных институтов (НИИ) было необходимо не только для научной работы, эта акция решала другую важнейшую задачу – в стране возникло бы научное сообщество, т.е. социально значимый слой общества. До 1917 г. они об этом могли только мечтать. При советской власти такой слой возник. Но никакой социальной значимости он не имел. А вот почему – об этом мы поговорим в следующей главе.