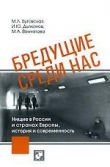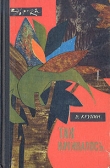Текст книги ""Притащенная" наука"
Автор книги: Сергей Романовский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
И еще один печальный факт. С 1985 г. никаких реформ науки не было. К ним даже не приступали. Это общая беда постсоветской России – экзамен «по демократии» она сдала экстерном. Это значит, что народ (хозяин страны) и избираемые им управленцы задачи демократии понимают по-разному. Народ на самом деле избирает своих лидеров – от президента до «самоуправленца» в масштабе микрорайона. Но это все люди временные. Попав во власть, они не хотят выпадать из нее, а потому реальные дела, которые всегда не простые и требующие больших затрат, подменяют разговорами о них. Отсюда развал и застой: нет ни одной сферы жизни (наука – лишь одна из них), которые бы начали реформировать. Это исторически общая беда всех новорожденных демократий – они всего хотят и всего боятся.
Поэтому, когда институт науки не реформировался, т.е. когда не было заранее оговорено: какая наука, в каком объеме и к каким экономическим структурам привязанная, нужна демократической России, все так называемые реформы науки свелись только к сокращению ее финансирования, вымыванию из науки наиболее дееспособных кадров, резкому увеличению удельного веса научного балласта и, как всегда в России, неуправляемому росту чиновничества.
Все «реформирование науки» нынешняя коррумпированная демократия проводит на грани «социального фола»: начали голодовку учителя – как благодеяние выдали положенные им крохи; устроили голодный марш ученые подмосковных научных центров – и их недовольство заткнули финансовым кляпом.
Одним словом, все бюджетные сферы для нашего государства – как не проходящая мигрень. Оно их не развивает, а терпит: надо ведь и детей учить, и лечиться, да и о будущем думать (на словах, само собой). Поэтому для современной политической элиты наука – безусловное излишество. По крайней мере та, которая дорого стоит, а отдачу сулит лишь в самой отдаленной перспективе.
* * * * *
Но не будем стенать и винить во всем самодержцев демократиии. Ибо нынешняя политическая ситуация в отношении науки имеет ряд отчетливо просматриваемых парадоксов, с которыми нельзя не считаться.
Парадокс первый. Когда становится плохо, все в России вдруг обращаются к «мировому опыту», с охотой кивают на Запад, говорят о реальных проблемах сегодняшнего дня с общих позиций и сознательно закрывают глаза на свои родимые «особости». Подобные же абстрактные упования не в состоянии высечь ни одной конструктивной мысли. Все в них верно и все вхолостую. Вот и президент Академии наук Ю.С. Осипов возглашает, что «без науки, культуры и образования у России нет будущего» [653] [653] Дневник годичного Общего собрания РАН // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 8. С. 685.
[Закрыть]. А профессор А.Ф. Зотов еще более сгущает мрак: «… стоило бы задуматься нашим властям – даже не о нашем “завтрашнем дне”, а о их собственном “сегодняшнем вечере”!» [654] [654] Наука в России: состояние, трудности, перспективы (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 6.
[Закрыть].
Все так. Правда, об этом же почти 200 лет тому назад писал Н.М. Карамзин. Обидно, видимо, признать очевидное: уже три столетия история России и история науки в России идут как бы параллельными курсами: российская экономика никогда не нуждалась в научных инновациях, а советская власть, давая ученым вполне сносное «содержание», вынуждала их работать под таким идеологическим давлением, что привольно могли себя чувствовать только анаэробные организмы. Все прочие задыхались.
Парадокс второй. Суть его в следующем. Когда шла отечественная война, всем в равной мере было тяжко. Оттого роптать было не только бессмысленно, но и аморально. Когда же Россия, оставив социалистический распределитель, свернула на тропу рыночных реформ, то общество мгновенно расслоилось на две группы: предпринимателей и государственных иждивенцев, живущих за счет бюджета. Впервые за всю свою историю в России стали считать деньги. Наполнять же доходную часть бюджета порушенная экономика еще не в состоянии.
Поэтому многие социальные группы населения оказались обиженными реформами – их жизнь перестала соответствовать их статусу. Когда продавец коммерческого ларька стал зарабатывать на порядок больше, чем профессор, у последнего слезы незаслуженной обиды напрочь застлали разум. Профессор уже не в состоянии был что-либо анализировать, он, как капризный ребенок, лишь требовал: дай! Хотя прекрасно понимал, что дать нечего.
«Растолковать… что без науки сейчас и в будущем нельзя создать доходную экономику, некому: вокруг временщики, от которых эти мысли отскакивают, как от стены горох» [655] [655] Соколов Б.С. Российская Академия наук ответственна только перед своим народом // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 7. С. 602.
[Закрыть]. Это слова академика Б.С. Соколова, видимо, забывшего от обиды, что государственная наука, никогда прежде не влиявшая на российскую экономику, не в состоянии сделать это и сегодня.
Парадокс третий. Все прекрасно понимают, что без финансовой поддержки наука развиваться не может, столь же всем понятно, что сейчас и в обозримом будущем у государства необходимых средств не будет, и тем не менее все – от младшего научного сотрудника до президента Академии наук – исторгают стон: дай!
Ученые – народ умный, а потому за последние 13 лет они привели «полную группу» резонов – почему нельзя отворачиваться от науки и бросать ее на произвол судьбы. Указывали на то, что забвение науки приведет к дебилизации общества и как следствие – к неизбежному поражению демократии; или еще более сильный аргумент: без науки у России вообще не будет цивилизованного будущего. И так далее. Как видим, доводы сколь страшные, столь и очевидные. И понимают это не только ученые. Не сомневаюсь, что столь же догадливы и те, в чьем распоряжении кошелек с деньгами. Но он – пуст. За тоталитарное прошлое России сейчас расплачиваются все – не только ученые.
Парадокс четвертый. Ученые сегодня обнищали все. Все в равной степени социально унижены. И тем не менее «за всю науку» страдать не надо. Ибо существует еще один парадокс сегодняшнего дня. Состоит он в том, что еще в конце перестройки, когда стала интенсивно нищать наука (1989), произошла своеобразная интеллектуальная рокировка с доперестроечными временами. Если в советские годы гуманитарные науки находились под мощным идеологическим прессом, который выжимал из них любую свежую мысль, то сейчас он снят, и философия, история, филология, социология стали бурно развиваться; зато произошло крушение естественных наук (физики, химии, биологии, геологии) – они попали под пресс стихийного рынка и он выдавил из науки всех, кто не согласился получать нищенскую зарплату за сам факт присутствия на рабочем месте. Ведь этим наукам нужны средства – и немалые – на собственно исследовательский процесс. Сейчас же правительство в состоянии подкармливать только ученых, но не науку, да и то не из-за избытка гуманизма, а из-за боязни социального взрыва.
Парадокс пятый. По мере нищания науки общее число ученых сокращалось, зато прямо пропорционально росла масса разновеликих «ученых матрешек»: число неостепененных «ученых» быстро сократилось, зато резко (по отношению к ним) возросло число кандидатов наук; стало много больше, чем было всегда, докторов наук по отношению к кандидатам; резко выросло число членов-корреспондентов РАН на одного доктора наук; да и академиков РАН стало много больше. Поразительно: если удельный вес докторов за 1970 – 1988 гг. вырос на 32 %, то за 1990 – 1998 гг. на 306 % [656] [656]Аллахвердян А.Г., Агамова Н.С. Ограничение властью профессиональных прав ученых как фактор «утечки умов» // Науковедение. 2001. № 1. С. 61 – 80.
[Закрыть]. Конечно, это жалкое зрелище, ибо окрепла не квалификация ученых, а лишь усилилась их возрастная немощь.
Та же тенденция отмечается и в академическом секторе науки: объемы работ к 2002 г. сократились в два раза, но зато резко возросло число исследовательских институтов; численность научных кадров РАН снизилась, зато мгновенно выросло число докторов наук [657] [657]Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Структура и динамика научно-технического потенциала России. М., 1996. 320 с.
[Закрыть].
Парадокс шестой. Наука российская скоротечно умирает, но почти с той же скоростью растет число самых невообразимых (на все вкусы) академий, да и число «бессмертных» также. На начало 2002 г. в России насчитывалось порядка 110 академий! [658] [658]Соколов Б.С. О науках фундаментальных и прикладных // Вестник РАН. 2001. Т. 71. № 9. С. 784 – 787.
[Закрыть]. Точный счет, понятно, ведет лишь ведомство, которое их регистрирует.
Парадокс седьмой. Ученые сегодня вынуждены признать отставание нашей фундаментальной, а тем более прикладной науки от мирового уровня. Они это делают весьма охотно, когда речь заходит о науке вообще. Но они никогда не признают этого факта, если говорить конкретно об их науке. Почему? Причина прозаическая. Любой ученый весьма высоко оценивает собственные труды, он считает, что они ничем не хуже, чем работы его западных коллег. Отсюда и вывод: да, вся российская наука, поотстала, но вот моя, отнюдь. Это не голословное утверждение. Ученым 13 академических институтов разного профиля в марте 1994 г. социологи задали несколько вопросов и среди них был вопрос, предполагавший самооценку своих научных трудов. Ответы поразительные: когда наука уже провалилась, когда сам исследовательский процесс практически во всех естественных науках прервался, ученые тем не менее уверенно утверждали (от 77,3 до 86,6 %), что их работы ничуть не ниже мирового уровня [659] [659] Мирская Е.З. Ученые о своем настоящем и будущем // Вестник РАН. 1994. Т. 64. № 9. С. 771 – 778.
[Закрыть].
В самом конце 90-х годов это исследование повторили. Результаты немного изменились. Порядка 80 % ученых считали ситуацию в российской науке критической. Но по мере «продвижения к собственной персоне» оценки повышались [660] [660]Мирская Е.З. Ученые Академии наук в 90-х годах // Вестник РАН. 2000. Т. 70. № 11. С. 966.
[Закрыть]. Однако все же есть предел «разумности» даже самооценок: в 1994 г. 77 % опрошенных работников Академии наук считали свои работы не уступающими среднему международному стандарту; в 1996 г. – уже 73 %, а в 1998 – 62 %. Как видим, общее давление государства на науку резко поубавило амбиций. Но и эти цифры, конечно, лукавые. Доверия им нет.
Простим ученым их самооценку. Ибо скромности они учатся у президента РАН академика Ю.С. Осипова. Выступая 22 декабря 1992 г. на общем собрании, Ю.С. Осипов жаловался на процесс катастрофического сокращения научного потенциала: мрут и бегут. Мрут старые, бегут молодые. Одним словом, куда ни кинь, всюду клин. И что же? Оказывается, несмотря на все эти страсти, мы остаемся «самой большой научной силой в мире». Более того: «…за последние годы… усилилось влияние российских ученых на мировую науку» [661] [661] Дневник Общего собрания Российской Академии наук // Вестник РАН. 1993. Т. 63. № 5. С. 396.
[Закрыть]. Математик Ю.С. Осипов виртуозно доказал новую теорему: чем интенсивнее нищает наука, тем более сильной она становится. Что тут скажешь? Лучше помолчать [662] [662] Романовский С.И. «История болезни» Российской Академии наук // Звезда. 1996. № 9. С. 192.
[Закрыть].
Парадокс восьмой. Начиная с 1992 г., когда демократическая Россия дружно заспешила в рынок, власти и вовсе от науки отвернулись, решив, что страна не в состоянии содержать на казенном коште всю армаду научных работников.
Точно рассчитав, что за десятилетия планового производства научных кадров наука оказалась избыточно засоренной бездарями и балластом, правительство сделало странный, а для науки убийственный, вывод: избавляться от балласта, приводить численность научных кадров к оптимальной величине оно отдало на откуп научной номенклатуре, т.е. по сути наиболее агрессивной и инициативной части того же балласта. Академический монстр, скроенный по-сталински надежно еще в 1929 г. и беспредельно угодопослушный, остался неприкасаемым и более того теперь он должен был руководить «демократизацией» посткоммунистической науки. Наука оказалась поэтому не просто заброшенной, она была сознательно брошена в объятия научного чиновничества. А уж как оно способно «демократизировать» науку, догадаться несложно.
Таковы основные парадоксы первых 14 лет жизни постсоветской науки в условиях народившейся «демократии дикого Запада» и стихийно складывающегося российского рынка, живущего пока не столько по законам, сколько «по понятиям».
Судя по всему, наука к подобным условиям адаптироваться не в состоянии принципиально.
* * * * *
С чем же подошла советская наука к судьбоносному для нее реперу – смене общественно-политического устройства страны, при котором новопровозглашенная система оказалась хотя и избыточно амбициозной, но абсолютно недееспособной в плане содержания на пристойном уровне культуры, образования, медицины и науки.
Что касается науки, то «нахлебников» новая Россия получила с избытком. Ведь советская наука – это гигантская система, проросшая из советского строя, преданно обслуживавшая советскую власть. Развивалась она в условиях глобального идеологического давления при безоговорочном подчинении советской власти и без автономного социального пространства [663] [663] Мирская Е.З. Проблема справедливости в советской науке // Вестник РАН. 1993. Т. 63. № 3. С.195 – 202.
[Закрыть].
Подобная наука подогревалась властью созданием элитных научных городов, поощрением плохо проработанных и явно страдающих гигантоманией научных проектов, всячески поддерживая те начинания, которые были ориентированы на престиж и способствовали демонстрации преимуществ социалистической системы. Явное уродство подобной ситуации, что мы уже отмечали, было в том, что значительная часть «особостей» советской науки явилась продуктом сознательной деятельности самой научной элиты [664] [664] Медведев Ж. Взлет и падение «большой» советской науки // Свободная мысль. 1993. № 5. С. 31.
[Закрыть]. Она уже сроднилась с советскими властными структурами и была неотличима от них.
Поэтому когда на общем собрании Академии наук СССР 20 марта 1990 г. ее президент Г.И. Марчук заявил, что «на данном этапе развития нашего общества наблюдается несколько пренебрежительное отношение к науке» [665] [665] Социальный заказ советским ученым (на заседаниях в Московском государственном университете) // Вестник АН СССР. 1990. № 7. С. 65.
[Закрыть], то он, вероятно плохо себе представляя социальную историю русской науки, не лукавил, ибо хорошо помнил, как «сытно» еще совсем недавно жила наука, а о том, какова была ее ответная плата за подобную щедрость, предпочел умолчать.
Раз наука государственная, извольте платить! Подобная позиция стала для научной номенклатуры традиционно удобной. Ведь советские ученые привыкли, по словам Л.А. Арцимовича, «жить на ладони государства и согреваться его дыханием».
А нужны ли они этому самому государству, этот вопрос не поднимался, ибо сказать да – значит выдать желаемое за действительное, и все это прекрасно понимали; сказать нет – пришлось бы доказывать эти слова, что практически невозможно сделать, ибо любой оппонент с легкостью выведет тебя в заоблачные выси государственной демагогии и, само собой, выставит клеветником. Но, как бы там ни было, два слова придется сказать и на эту тему.
Ранее, при царе, о востребовании достижений науки вообще речь не шла, наука с экономикой не стыковалась. При советской власти стали понимать, что достижения науки не должны повисать в воздухе, их надо использовать. Появилось новонайденное словцо: внедрение. Внедряли в основном для отчетности: в каждой тематической разработке был раздел о «внедрении» результатов в народное хозяйство, Академия стала заключать договора с заводами и колхозами.
Одним словом, шли откровенные игрища в «полезность» любых научных результатов. Партийное начальство это вполне устраивало, а тот факт, что реального влияния на экономику страны экстенсивно развивавшаяся советская наука не оказывала, коммунисты отвергали напрочь. Лишь в годы перестройки об этом стали говорить открыто. Привело же подобное положение к тому, что стала бросаться в глаза отчетливая диспропорция между величиной накопленного страной научного потенциала и явно недостаточным уровнем достигнутой во всех сферах практической организации жизни общества: на производстве, в сельском хозяйстве, медицинском обслуживании, уровне образования и т.д.
Что тут долго говорить: практическая жизнь людей в Советском Союзе так и не стала зависимой от достижений науки.
Тогда же, в конце 80-х годов, стали открыто писать о том, что по многим позициям советская наука оказалась в хвосте мирового прогресса. Однако до причин докапываться не стали, занялись более привычным делом – поиском «врага». И занялось этим научное чиновничество. Аппарату истина была не нужна. Аппарат должен был сохранить свою невинность. И полились обличительные реки. Госплан все беды связывал с оторванностью от реальных нужд страны академической науки, а Академия наук бичевала недальновидный практицизм деятелей промышленности. Причем «чистоту своей формулы», как сказал бы Е.Н. Трубецкой, отстаивали не нобелевские, а ленинские лауреаты, достойные представители научной и государственной бюрократии.
Теперь – факты.
На начало «перестройки» львиную долю ассигнований получала, так называемая, прикладная, или отраслевая наука (~ 90 %) и лишь около 10 % доставалось фундаментальной науке, т.е. институтам Академии наук СССР.
В процентах от национального дохода на науку расходовалось: в 1970 г. – 4 %, 1980 г. – 4,8 %, 1985 г. – 5 %, 1987 г. – 5,5 %. (Это, само собой, без военных затрат) [666] [666]Шульгина И.В. Финансирование и организация науки в СССР: уроки истории и перспективы развития // ВИЕ и Т. 1990. № 4. С. 123 – 132.
[Закрыть].
А вот где эти расходы «осваивались». В 1987 г. в СССР вместе с вузами было 5089 научных учреждений, из них чистых НИИ – 2649. В этих самых НИИ в 1986 г. значилось 4546 тыс. человек.
Если науку распределить по отраслям, то, по данным Г.А. Лахтина, к концу 1986 г. в промышленности СССР работало 1552 научных учреждения, в сельском хозяйстве – 909, в здравоохранении – 471. Заметим, кстати, что у разных авторов общая численность работавших в НИИ на начало «перестройки» колеблется от 4,5 до 8 млн. человек [667] [667]Лахтин Г.А. Организация советской науки: история и современность. М., 1990. 224 с.; Научные кадры СССР: динамика и структура. М., 1991. 284 с.
[Закрыть]. Последняя цифра явно завышена.
В РСФСР была сосредоточена львиная доля научных учреждений СССР – 4646 (~ 60 %), из них НИИ – 1762 (на 1990), затем, согласно отмеченным нами парадоксам, по мере нищания науки число НИИ росло и в 1994 г. их уже было в целом по России 2166 [668] [668]Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Структура и динамика научно-технического потенциала России. М., 1996. 320 с.
[Закрыть].
Итак, расходы на науку в СССР к 1990 г. оценивались в 2,1% от валового внутреннего продукта и были вполне сопоставимы с западными мерками: Япония тратила на науку 2,98%, ФРГ – 2,88%, США – 2,82%, Франция – 2,34% [669] [669] Лахтин Г.А., Кулагин А.С., Корепанов Е.Н. Кризис экономики, кризис науки // Вестник РАН. 1995. Т. 65. № 10. С. 867 – 872.
[Закрыть]. С другой стороны, расходы на науку в США с 1980 по 1985 год росли более чем на 7 %, а с 1985 по 1991 г. всего на 1,2 % в год. Если же проценты обратить в наличные деньги, то выяснится, что США на свою науку расходуют больше, чем Япония, ФРГ, Франция и Англия вместе взятые [670] [670] Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Власть. Наука. Общество (Система государственной поддержки научно-технической деятельности: опыт США). М., 1994. 284 с.
[Закрыть].
Дальнейшая расшифровка этих цифр покажет, к примеру, что на фундаментальную науку даже в 1986 г. США тратили в 20 раз больше средств, чем Советский Союз [671] [671] Мусаев Э.Т. Материально-техническое обеспечение исследовательской деятельности // Вестник АН СССР. 1991. № 3. С. 31 – 58.
[Закрыть]. И еще один немаловажный нюанс: отдавая приоритет фундаментальной науке, в США тем не менее более всего поддерживают так называемые «науки о жизни» (Life science), т.е. биологию, медицину и сельскохозяйственные науки, ориентированные прежде всего на человека. По сумме финансирования в академическом секторе эти науки поглощают 53% средств, тогда как на физику, химию и все прочие естественные науки ассигнования не превышают 15% [672] [672] Иванова Н.И. Финансирование исследовательских разработок США // Вестник АН СССР. 1990. № 3. С. 63 – 73.
[Закрыть].
Так как человек в России никогда не был самодостаточной ценностью, то можно с большой долей уверенности утверждать, что Life science не станут приоритетными для русской науки. Для нас традиционная ценность – это сила, т.е. ВПК, а потому когда экономика России будет в состоянии финансировать нашу национальную науку в достаточном объеме, то, скорее всего, львиная доля расходов будет вновь направлена на накачку мускульной силы государства. Эта «особость» российской науки, судя по всему, неискоренима.
Итак, когда в 1991 г., особенно после путча ГКЧП, руководство страны убедилось, что всё уже они «перестроили», то решили начать демонтаж социалистического наследия, но так, чтобы рядовой гражданин вообще потерял всяческие ориентиры, чтобы он не успел очухаться и на протестующий митинг собраться… А, впрочем, кому какое дело до этого самого рядового гражданина? Ведь за «реформы» взялись молодые люди, которые не страдали «комплек-сом обратной связи». Они все делали по учебникам, делали точно так же, как «там у них на Западе» и назад не оглядывались.
Что же произошло в 1992 г.? Россия в том году, как известно, свернула с наезженной колеи плановой экономики на рыночное бездорожье. Как только были «отпущены цены», они стремительно пошли ввысь, причем за их ростом бюджет явно не поспевал. Быстро выявились монополисты в энергетике, связи, коммунальном хозяйстве и т.д. Это и явилось секирой, которая отсекла от науки главное – исследовательский процесс. Если в 1991 г. на научные исследования тратилось 50% бюджетных средств, то уже в 1992 г. всего 3%, а 97% поглощали коммунальные платежи и нищенская зарплата. Причем бюджетом 1992 г. на науку было предусмотрено лишь 2,6% от валового продукта, что покрывало всего 16% от нужных затрат [673] [673] Найдо Ю.Г., Симановский С.И. Российская академическая наука: время трудных решений // Вестник РАН. 1993. Т. 63. № 4. С. 302 – 307.
[Закрыть]. Это и есть обвальное обнищание.
Наука на это отреагировала мгновенно: только за 1992 г. численность научных кадров сократилась на 380 тыс. чел., а доля занятых наукой в общей массе трудовых ресурсов страны, которая и в былые времена не достигала 4%, резко снизилась. Начался процесс интеллектуальной деградации общества [674] [674] Балацкий Е.В., Богомолов Ю.П. Как сохранить интеллектуальный потенциал России // Вестник РАН. 1993. Т. 63. № 6. С. 491 – 497.
[Закрыть]. В 1993 г. ситуация ухудшилась: ассигнования на науку в сравнении с 1990 г. упали в 10 раз. В 1994 г. бюджетом была предусмотрена уж вовсе никчемная доля расходов на науку – 0,6% от внутреннего валового национального продукта, что сопоставимо с оценкой значимости науки в странах Африки. Из этой мизерной суммы 48% уходило на зарплату, 35% на коммунальные услуги и лишь 17% на саму научную ра– боту [675] [675] Дневник годичного Общего собрания РАН // Вестник РАН. 1995. Т. 65. № 8. С. 675 – 729.
[Закрыть]. Естественно стало уменьшаться число научных сотрудников Академии наук. На 1 января 1995 г. оно составляло 59,6 тыс. Причем «искажения в структуре “человеческого потенциала” науки приняли такие масштабы, что его воспроизводство даже на нынешнем… уровне уже невозможно» [676] [676] Антюшина Н. Сфера НИОКР. Проблемы формирования и адаптации // Свободная мысль. 1995. № 11. С.77.
[Закрыть].
Что это за искажения? Если не затрагивать нравственные аспекты человеческого потенциала, а обратиться к фактам, то выяснится следующее. Ориентация ученых по научным интересам, сложившаяся еще в советское время, сейчас не устраивает запросы общества. Наибольшее число ученых тогда было занято техническими (47,4%) и общественными науками (23,3%) [677] [677] Шокарева Т.А. СССР и США: кадровое обеспечение исследовательской деятельности // Вестник АН СССР. 1991. № 9. С. 40 – 50.
[Закрыть]. В настоящее время именно эти отрасли знаний менее всего актуальны, поскольку технические науки, наиболее тесно связанные с промышленностью, по чисто российской «особости» никогда ею не востребовались, а сейчас и вовсе оказались никому по сути ненужными, а общественные науки в том виде, в каком они культивировались ранее, в настоящее время просто относятся к категории лженаук.
Есть еще один аспект «искажения». Касается он традиционной для советской науки погоне за «валом». Академик П.В. Волобуев отметил в этой связи, что «вал» планового роста научных кадров долгие годы подменял разумные критерии оценки их значимости. Мы искренне гордились тем, что у нас одних «остепененных» ученых более полумиллиона. «И старались не вспоминать, какова их отдача. Иначе пришлось бы признать, что, имея четвертую часть всех научных работников на планете, мы даем, по приблизительным экспертным прикидкам, не более 15 процентов научной продукции. А может быть и меньше» [678] [678] См.: Социалистическая индустрия от 18 октября 1988 г.
[Закрыть].
Переходя на язык эмоций, можно повторить слова профессора Е.В. Семенова и сказать, что в 1992 г. советскую науку столкнули в пропасть, при этом кое-что разбилось, деформировалось. Но что-то и уцелело. Иными словами, все произошедшее – «абсолют-ный приговор отечественной науке» [679] [679] Наука в России: состояние, трудности, перспективы (материалы «круглого стола»). Указ. соч. С. 13.
[Закрыть].
Возникает только вопрос: какой науке? Если притащенной, то туда ей и дорога. Если нет, то следует соотнести необходимую потребность в науке на нынешних рычагах политико-экономических весов рыночной экономики с финансовыми реалиями государства. Ведь мы такие бедные потому, что слишком умные! [680] [680]Юревич А.В. Умные, но бедные: ученые в современной России. М., 1998. 201 с.
[Закрыть] Это еще одна неустранимая «особость» российской действительности, одним их первых подмеченная А.С. Грибоедовым.
От избытка ума даже подсчитать умудрились: сейчас России нужно не более 300 тыс. ученых, их же сейчас около 1,5 млн [681] [681]Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Структура и динамика научно-технического потенциала России. М., 1996. С. 220.
[Закрыть]. И что же прикажете делать с остатком в 1,2 млн человек? Всех – на паперть? Или сразу – на свидание с Господом?
Как будто мать родную похоронили, а потому все так громко рыдают, что даже отдельных причитаний не слышно. Иногда, правда, кое-что удается разобрать: те деформации, которые претерпела наука, «ставят под сомнение само существование науки, сохранение ею статуса социального института» [682] [682]Райкова Д.Д. Ученые в критической ситуации // Вестник РАН. 1995. Т. 65. № 8. С. 749.
[Закрыть]. А почему? Ведь надо свои выводы как-то обосновывать, а дефиниции определять. Вопросов, на самом деле, множество, а вразумительного ответа ни одного.
Да, финансирование сократилось слишком резко (но это если считать от разбухшей советской науки), резко упала численность армии ученых (и это, если считать от 4,5 – 6,0 млн. советских «уче-ных», многие из которых даже предмет своих занятий толком не знали).
Приведем ряд цифр, иллюстрирующих только что сказанное.
С 1990 по 1998 г. численность исследователей сократилась в 2,5 раза [683] [683] Если более конкретно, то с 1990 по 2001 г. число занятых в науке сократилось с 2804 тыс. человек до 1030 тыс. (См. Лахтин Г.А., Миндели Л.Э. Наука в обновленной стране // Вестник РАН. 2001. Т. 71. № 11. С. 980 – 987).
[Закрыть].
Здесь ключевое слово «сократилось». Не «сократили», а «сократилось», т.е. процесс протекал в режиме самотека: молодые уходили из науки, а пожилые, которым поздно было менять профессиональную ориентацию (хотя, возможно, подавляющее большинство из них должны были уйти из науки еще в молодые годы), оставались преданными научной работе.
Отсюда еще две цифры: в 2000 г. средний возраст занятых наукой превышал 49 лет, а средний возраст докторов наук зашкаливал за 61 год [684] [684]Варшавский Л.Е. Численность и структура научных кадров страны: взгляд в будущее // Науковедение. 2000. № 1. С. 36 – 48.
[Закрыть].
С 1991 по 1993 г. (начальная фаза «реформ») ассигнования на науку упали почти в три раза. Особенно пострадали отраслевые НИИ: число сотрудников в них сократилось вдвое; зато доктора наук стали размножаться, как генералы в армии, простым делением – на самом деле, число «докторов» за этот же срок выросло втрое [685] [685]Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Структура и динамика… Указ. соч.
[Закрыть]. Сразу и не поймешь: как же реагировать на все это – то ли смеяться (нервно), то ли ухмыляться (ехидно).
Обвал между тем продолжался: в 1995 г. финансирование науки упало практически до нуля и составило всего 0,41% от вало– вого внутреннего продукта (ВВП), а уж что это за «продукт» был в то время, догадаться не сложно.
В 1999 г. в бюджет заложили 4% расходов на науку, но затем правительство решило, что наука вполне обойдется и меньшими суммами: в 1999 г. они составили 2,02% от ВВП, а в 2000 г. – 1,87% [686] [686]Стрепетова М.П. // Науковедение. 2000. № 2. С. 193 (Рецензия на книгу Ушкалова И.Г., Малаха И.А. Утечка умов: масштабы, причины, последствия. М., 1999. 208 с.).
[Закрыть].
Процесс, как говорится, пошел. Многие думали в начале 90-х, что весь этот финансовый кошмар продлится максимум 5 – 10 лет. Нет. Он только начинается! Ибо к подлинному реформированию науки наше «техническое» правительство еще не приступало. И не приступит! Сомнений на этот счет уже не осталось.
Хотя никто из государственных чиновников в этом не признается…
* * * * *
Послушаем нашу верховную власть и всплакнем от умиления.
27 апреля 1992 г. президент России Б.Н. Ельцин подписал указ «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации». Его итог – создание Российского фонда фундаментальных исследований.
22 июня 1993 г. президент подписал еще Указ, поддержавший программы некоторых отраслевых институтов. Им присвоили статус Государственных научных центров и государство обязалось их обеспечить. На ноябрь 1996 г. таких центров было 61. Выделили их из 14 ведомств. Каждые два года эти ГНЦ должны были доказывать свою нужность [687] [687]Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Структура и динамика. Указ. соч.
[Закрыть].
Читаешь подобное и диву даешься. Когда чиновнику поручается какая-либо творческая задача, он делает все возможное, чтобы свести ее к незначительному числу формальных (бюрократических) процедур. Он делает вид, что проблема решена, президент искренне считает себя благодетелем, а рядовой научный сотрудник, представив начальству очередные «бумаги», обосновывающие его нужность и полезность науке, заглотит от досады и злости стопарь и пошлет их всех по одному ему известному адресу.
16 сентября 1993 г. появляется новый указ «О мерах по материальной поддержке ученых России» (С 1 января 1994 г. учредили 5000 ежемесячных государственных научных стипендий для «выдающихся ученых России» и 1000 стипендий для «талантливых молодых ученых»).
Все это напоминало пайки ЦеКУБУ времен гражданской войны. Конечно, это помощь [688] [688] Я сам ее получал с 1994 по 2003 г. И должен признаться: если в первые 2 – 3 года я был горд за причисление моей скромной особы к разряду «выдающихся ученых», то уже после 2000 г. в кассу я ходил как за подаянием, ибо «президентская поддержка» уже не превышала студенческую стипендию. И вся эта «забота» более походила на издевательство.
[Закрыть]. Многие ученые смогли, наконец, реализовать свои планы: стали выезжать на международные конференции, публиковать монографии, выполнять конкретные и не очень дорогостоящие проекты. Но главную задачу сохранения российской науки, т.е. стимулирование работы молодых ученых, что и означает поддержку ее потенциала, эти меры не достигли. Сейчас нарушено главное условие притока в науку творческой молодежи – мотивация научного творчества, к тому же недопустимо низко упал престиж занятий наукой.
Забота о науке между тем набирала обороты.
20 мая 1995 г. Президиум РАН обсуждал проект «Научной доктрины России», подготовленный Министерством науки и технической политики [689] [689] Вестник РАН. 1996. Т. 66. № 1.
[Закрыть].
Такое впечатление, что взрослые дяди из министерства решили в детский сад поиграть. Думали, академические старцы их поддержат. А неблагодарный академик Н.Г. Басов возьми и скажи: «Наука кончится на нашем поколении, нового мы не подготовим, поскольку ее престиж упал до нуля» [690] [690] Там же. С. 23.
[Закрыть]. Но министра Б.Г. Салтыкова это не тронуло: он задание выполнил, доктрину разработал, а далее – его не касается.
Прошел год. 13 июня 1996 г. президент Б.Н. Ельцин подписывает новый указ «О доктрине развития российской науки». Судя по всему – это лишь финальный аккорд «доктрины Салтыкова». Читаешь указ, как медовуху пьешь: «поддержка развития науки» отныне «приоритетная задача государства». Указал президент правительству тратить на науку не менее 3% расходной части бюджета с ежегодным увеличением «по мере стабилизации экономики» [691] [691] Там же. № 10. С. 867.
[Закрыть]. Одни верили, другие скрежетали челюстями. Вторых было намного больше. Но государство продолжало свою отеческую заботу о науке. 7 мая 1997 г. правительство приняло постановление «О неотложных мерах по усилению государственной поддержки науки в Российской Федерации» [692] [692] Вестник РАН. 1997. Т. 67. № 10. С. 867 – 868.
[Закрыть].
Вот это да! Значит будет еще лучше! Чем же наука ответит на столь впечатляющую заботу «партии и правительства»?
Но и это не все. 23 июля 2003 г. президенты В.В. Путин и Ю.С. Осипов обсудили приоритетные направления развития науки и, само собой, их финансирование. Как видим, на самом высоком уровне все еще продолжается обсуждение приоритетов. Скоро, вероятно, и это прекратится, ибо жизнь возьмет свое, и самым нужным направлением развития отечественной науки окажется просто самое дешевое. Скорее всего, это будет поддержка архивов, библиотек и кое-каких гуманитарных дисциплин.
Коли не ёрничать (а как – иначе?), то сказать можно одно: когда перестали проводиться самые необходимые научные эксперименты в физике, химии, геологии (и ученые это прекрасно знают!), то любые разговоры о поддержании науки государством для самого научного сообщества полностью обессмысливаются, ибо они каждодневно лицезреют подлинное отношение государства к науке [693] [693]Кара-Мурза С.Г. Социальные функции науки в условиях кризиса // Науковедение. 2000. № 2. С. 38 – 49.
[Закрыть].
* * * * *
Вернемся к истокам. Петр Великий, что мы знаем, науку в Россию притащил – он выманил ученых из благополучной Европы тем, что обещал им оплачивать (и сносно!) занятия наукой. То было невиданным новшеством. Началась «утечка умов» из Европы в Россию. Утечка эта, само собой, на тысячи не мерилась, но зато умы-то были какие: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Хр. Гольдбах, Г. Миллер, Ж. Делиль. Несколько позднее: В. Струве, Х. Ленц, О. Баклунд, Г. Вильд и многие другие. По времени «утечка умов в Россию» продолжалась с первой четверти XVIII века до второй половины XIX века. Затем этот процесс прекратился. Почти сто лет российская, затем советская науки развивались сами, как умели.