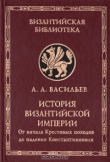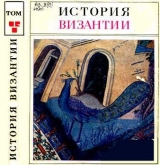
Текст книги "История Византии. Том III"
Автор книги: Сергей Сказкин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
Опасаясь похода Феодора против Эпирского царства, поспешил с мирными предложениями и Михаил II. В сентябре 1256 г. в лагерь Феодора прибыла жена деспота с сыном Никифором для заключения задуманного при Ватаце брака. Феодор воспользовался случаем и задержал жену и сына эпирского деспота в качестве заложников. Он диктовал условия мира, требуяуступить Сервию в Южной Македонии и Диррахий на севере Эпира, две крупнейшие крепости, принадлежащие эпирскому деспоту. Оказавшаяся в положении пленницы жена Михаила II вынуждена была согласиться. Договор был скреплен в Фессалонике заключением брака Никифора с дочерью Феодора. Однако достигнутый таким образом мир не мог быть прочным, что вскоре и обнаружилось.
Феодор был вынужден покинуть свои европейские владения, услышав, что Михаил Палеолог снова бежал к туркам и турки опять разгромлены монголами (см. выше). Полномочным наместником на западе он оставил Георгия Акрополита.
Едва Феодор ушел домой, как на западных границах Никейской империи, в Македонии, началось восстание, инспирированное и поддержанное Михаилом II.
Больной Феодор, обеспокоенный к тому же восточными делами, не уделил положению на Балканах достаточно внимания. Михаил II заключил союз с сербами и начал захватывать город за городом.

Девушка. Фресковая роспись в Сопочанах. Югославия. XIII в.
Албанское население Северного Эпира приняло его сторону. Враждебность к никейцам проявили и жители Южной и Средней Македонии. Может быть, причиной этого был образ действий войск никейского императора. Акрополит не скрывает, что никейские войска жестоко разоряли захваченные ими территории42.
Пошли на измену Феодору и многие из стратигов македонских городов. Вернувшийся от турок Михаил Палеолог был послан с небольшими силами на помощь Акрополиту, осажденному в Прилепе, но не смог исправить положения. Скоро, впрочем, он снова был арестован посланцами императора. Прилеп был предательски сдан. Акрополит оказался в плену. Ко времени смерти Феодора II Ласкариса Михаил II отобрал все западные земли Никейской империи до Вардара.
Отношения с Болгарией в последние годы правления Феодора II оставались мирными. За год до смерти Феодор даже получил без каких-либо усилий Месемврию, находившуюся до этого в руках болгар. В 1256 г. в Болгарии после убийства Михаила начались усобицы и смуты. В 1257 г. трон захватил Константин Тих (1257—1277) который выгнал из Болгарии зятя Михаила по сестре Мицу. Бежавший в Месемврию Мица выменял этот город у Феодора Ласкариса на владения в Малой Азии, на Скамандре.
Константин Тих, тем не менее, искал дружбы с никейским императором. Он хотел упрочить свои права на трон, прося у Феодора в жены его дочь, внучку Асеня. Предложение было принято, и с Болгарией снова установился мир.
На западе между тем сгущались тучи. Приближался решающий этап борьбы за византийское наследство. Михаил II после смерти Феодора II Ласкариса счел себя единственным претендентом на трон Константинополя и на власть над греками. Сознавая, что для осуществления этой программы силы его недостаточны, он заключил союзы с сицилийским королем Манфредом, выдав за него дочь Елену, и с князем Ахайи Гийомом Виллардуэном, отдав за него дочь Анну.
Перед Михаилом Палеологом, едва он принял бразды правления империей, встало несколько трудных проблем. Главной из них была борьба с наметившейся антиникейской коалицией. Грозили также осложнениями отношения с турками и с Константинополем.
К туркам Палеолог направил послов с предложением хранить дружбу. В ответ султан попросил убежища у Палеолога на случай, если враги принудят султана покинуть его страну. Палеолог дал на это свое согласие.
Как-то урегулированы были отношения и с латинянами Константинополя. Воспользовавшись переменами на никейском троне, император Балдуин, по свидетельству Акрополита, предъявил Палеологу требование огромных территориальных уступок. Послы Балдуина будто бы требовали вернуть Фессалонику и все земли между нею и Константинополем. Это известие Акрополита, находившегося в то время в плену у Михаила II, перемежается с анекдотическими подробностями и вызывает сомнение в его достоверности. Вряд либессильный Константинополь мог осмелиться в это время на столь непомерные претензии даже в расчете на уступчивость Палеолога перед лицом образовавшейся против него могущественной коалиции. Палеолог будто бы отверг требования латинян и потребовал в свою очередь в качестве платы за мир половину доходов Константинополя от торговых пошлин и от чеканки монеты. Акрополит говорит, что латинские послы «ни с чем»
вернулись в Константинополь43. Пахимер глухо сообщает о переговорах с константинопольскими послами и о заключении перемирия. Длительный мир Палеолог обещал латинянам только в том случае, если они выполнят «некоторые условия», которые он им поставил44. В то же время, согласно Пахимеру, побывало у Палеолога и тайное посольство от константинопольских греков, которым Палеолог щедро раздавал хрисовулы на владение в Константинополе тем, «чего еще там не имел»45, Дни Латинской империи были сочтены, и попытки никейского правителя заручиться активной поддержкой соплеменников в Константинополе перед решительными событиями не вызывают сомнений.
Обезопасив свои тылы со стороны турок и Константинополя, Палеолог обратился против главной опасности. Прежде всего он попытался разрушить сложившийся против него союз дипломатическим путем. Палеолог возобновил переговоры с папством об унии церквей, добиваясь признания своих прав на императорский престол и невмешательства в дела на Балканах46. Он отправил послов и к Михаилу II, предлагая мир и соглашаясь на уступку нескольких городов и областей наЗападе. Освободил Палеолог и пленных – подданных Михаила II, среди которых были родственники эпирского правителя. Но Михаил II жаждал решительной схватки с Никейской империей за гегемонию на Балканах.
Не добились успеха и послы Палеолога к Манфреду и князю Ахайи. Военное столкновение стало неизбежным. Еще до своей коронации Палеолог направил на Запад своего брата великого доместика Иоанна. Михаил II не решился в одиночку померяться силами с никейским войском. К весне 1259 г. Иоанн Палеолог взял Охрид и посадил там в качестве архиепископа ставленника никейского двора. Взял он также Девол, Преспу, Пелагонию, Соек, Молиск и другие города.
Обнищавшее от постоянных нашествий враждующих армий население не оказывало Иоанну сопротивления. Скоро все владения никейского императора на западе, отнятые Михаилом II, были возвращены. Кроме того, Иоанн захватил часть Фессалии.
Обе стороны готовились к решительному сражению, В войсках Иоанна Палеолога, помимо греческих, были союзные легковооруженные отряды половцев и турок. Венгрия прислала 500 рыцарей47. Во главе войск Эпирского царства стояли сам Михаил II и его сын Никифор. Манфред прислал на помощь тестю отряд из 400 немецких рыцарей48. Гийом Виллардуэн Ахайский сам вел свои войска и войска своих вассалов из Греции и Пелопоннеса. Среди его вассалов были и греческие архонты, верно служившие своим новым господам. Незаконный сын Михаила II Иоанн, правивший Фессалией, привел сильное войско из влахов.
Однако в лагере союзников не было ни единства командования, ни единства интересов и целей. Этнически пестрое воинство раздиралось внутренними противоречиями. Каждый преследовал в ходе предстоящей кампании лишь собственные интересы. Ни Манфред, ни Гийом отнюдь не были заинтересованы в усилении Михаила II и в осуществлении его далеко идущих планов восстановления Византийской империи под своей эгидой. Манфред имел виды па адриатическое побережье, находившееся как во власти его тестя, так и во власти Палеолога. В 1258 г. он уже овладел Корфу, отнял у Никейской империи Диррахий и у Эпирского царства Авлон и Берат. Не упускал Манфред из виду и возможности овладеть самим Константинополем49, наследник трона которого, сын Балдуина II Филипп, уже 11 лет находился в заложниках у венецианцев за денежную помощь Балдуину II50. Гийом мечтал о Фессалонике и хотел укрепить свою власть в Греции и на Пелопоннесе. Его позиция по отношениюк Манфреду также не была дружественной, но особенно враждебен он был к сыну Михаила II Иоанну, владевшему плодородной Фессалией. В греческих войсках самого Михаила II и Иоанна Фессалийского не было никаких симпатий к своим временным латинским союзникам.
Союзные армии двигались к Прилепу, навстречу главным силам Иоанна Палеолога, которого брат почтил к этому времени высоким титулом севастократора. Никейский полководец применил тактику партизанской войны и успешно изматывал силы врага еще до решительной битвы. Его легковооруженные отряды половцев и турок, а также искусные греческие лучники вышли навстречу врагам и не давали им покоя ни днем, ни ночью стремительными и частыми нападениями. Кроме того, Иоанн, по-видимому, углубил и усилил раздоры во вражеском лагере, засылая тайные посольства, лазутчиков и провокаторов в войска врагов. В результате накануне битвы перед ним было не монолитное войско, а разрозненные отряды деморализованных и не доверявших друг другу союзников. Ссора Гийома с Иоанном Фессалийским привела к тому, что к моменту битвы Иоанн вышел из коалиции. Он сообщил Палеологу, что не примет участия в битве. Повлиял Иоанн и на своего отца и брата. Летом или осенью 1259 г.51у Пелагонии произошла решительная битва. Действительно, не только Иоанн Фессалийский, но и сам Михаил II фактически не приняли в ней участия. Заподозрив измену своих латинских союзников, Михаил II и его сын Никифор ещеночью бежали с места сражения, бросив свои войска.
Узнав об этом, воины эпирского правителя также поспешили отступить. Иоанн Фессалийский даже предпринял враждебный Гийому маневр, зайдя в его тыл
52
.
В то время как в лагере противника происходила неразбериха и разброд, войска Иоанна Палеолога обрушились на силы Гийома и отряд Манфреда. Победа была полной. Гийом, бежавший с поля битвы, был опознан недалеко от Кастории и взят в плен. Были схвачены и многие другие знатные рыцари. Почти весь отряд Манфреда погиб или попал в плен. Сын Михаила II Иоанн и другие знатные греки из лагеря Михаила II явились к севастократору и принесли клятву верности никейскому императору. Сербы покинули занятые ими города в Македонии и вернулись к себе.
Иоанн Палеолог прошел Фессалию, укрепив ее крепости, и отправил войска на столицу Михаила II Арту и на Янину. Михаил II в страхе бежал к адриатическому побережью и укрылся с семьей на судах, не решаясь высаживаться на сушу. Арта была взята никейскими войсками, освободившими из тюрьмы Акрополита.
Однако скоро обстановка изменилась. Янина держалась. В ответ на жестокое опустошение занятой никейцами территории поднялось на борьбу против своих восточных соплеменников население Эпирского царства. Никейские войска, пишет Акрополит, плохо обращались с населением захваченных областей, и «славная победа» при Пелагонии через короткое время сменилась неудачами53. Когда севастократор прошел мимо Левадии и разграбил Фивы, Иоанн Феесалийский, сопровождавший севастократора в этом походе, передумал и тайно бежал от него к отцу.
Приход Иоанна к Михаилу II побудил эпирского деспота к борьбе. Он еще раз получил помощь Манфреда, двинулся на Арту и при содействии ее жителей изгнал никейцев из своей столицы. Было отогнано и войско, осаждавшее Янину.
Полководец Михаила VIII Алексей Стратигопул был разгромлен в 1260 г. Никифором и попал в плен. С Эпирским царством было заключено перемирие, и пленные никейцы были освобождены
54
.
Тем не менее значение битвы при Пелагонии было огромно55. На пути никейского императора к Константинополю исчез последний серьезный противник. Латиняне Ахайи понесли тяжелое поражение, и их глава покорно ожидал решения своей участи от никейского государя. На Балканском полуострове не оставалось более ни одной реальной силы, способной остановить никейского императора.
Теперь все усилия Михаила Палеолога были направлены на овладение Константинополем. Весной 1260 г. он предпринял первую попытку. Была взята Силимврия и другие крепости латинян близ Константинополя, кроме одной Амафии. Палеолог решил прежде всего овладеть Галатой и осадил ее с севера. Одновременно Константинополь был блокирован с суши. Однако осада была безрезультатной. Латиняне просили мира, и Палеолог дал его на один год. Заключению этого перемирия и снятию осады способствовали слухи о подходе латинских войск, будто быпосланных с Запада на помощь Константинополю.
Чтобы обезопасить себя с севера, Палеолог зимой 1260/61 г. отправил в Болгарию Георгия Акрополита, стремясь укрепить мир. Дело в том, что при болгарском дворе строились враждебные Палеологу планы, и он спешил предотвратить опасность. Жена Константина Тиха, сестра Иоанна IV Ласкариса, отстраненного от престола Палеологом, побуждала мужа к разрыву с Никеей. Миссия Акрополита в Тырнов была, по-видимому, успешной: Константин Тих принял его весьма дружественно. Однако некоторая настороженность в отношениях не исчезла, как показали

Мария Комнина Торникиса Акрополитиса. Деталь серебряного оклада иконы «Богоматерь с младенцем». Конец XIII – начало XIV в. Государстве иная Третьяковская галерея
Между тем монголы разгромили Багдад и убили халифа (1258). Их новое нашествие заставило турецкого султана с семьей, гаремом, домочадцами и казной прибыть к Михаилу Палеологу и требовать убежища в силу заключенного ранее договора. Палеолог предоставил султану убежище, но держал его фактически на положении пленника, не давая ему земли и не оказывая помощи против монголов. Сознавая всю величину опасности с востока, Палеолог добивался дружбы с монголами и одновременно укреплял восточные границы, пополняя пограничные гарнизоны турками, которые переходили на территорию Никейской империи, спасаясь от монголов.
Монгольская угроза и новые успехи Михаила II на западе не смогли принудить Палеолога оставить планы относительно Константинополя.
Опасаясь морских сил Венеции, Палеолог за четыре с половиной месяца до взятия Константинополя (в марте 1261 г.) заключил в Нимфее договор с генуэзцами, которые должны были помочь ему осадить Константинополь с моря. Генуэзцы, уже владевшие Галатой и кварталами в самом городе, ясно сознавали, что латинская власть в Константинополе обречена, и спешили закрепить свои привилегии в бывшей византийской столице. Генуэзцы получили по Нимфейскому договору право беспошлинной торговли не только в самой Никейской империи, во и в Константинополе, на Крите и Эвбее, которые еще находились вне власти Михаила VIII. Проход в Черное море предоставлялся толькоим и пизанцам. Генуэзцы получали право основывать свои фактории, конторы и церкви во
многих византийских городах56. Договор был скреплен 10 июля, всего за две недели до падения Константинополя. Обусловленная соглашением помощь Генуи из 50 галер не понадобилась, но договор сохранил силу и стал причиной тяжких бедствий для Византии в последние два века ее существования (см. гл. 7).
Деспот Михаил II успешно развивал наступление в Македонии и в направлении к Фессалии. Манфред одновременно захватывал земли на побережье Адриатического моря, принадлежавшие Никее и Эпирскому царству. Не исчезла угроза и со стороны болгар.
Летом 1261 г. Михаил Палеолог отправил на Балканы войска под командованием вернувшегося из плена Алексея Стратигопула, которому приказал по дороге подступить к Константинополю и «попугать» латинян, к которым только что прибыл большой корабль из Венеции, доставивший нового венецианского подеста.
24 июля Алексей Стратигопул подошел к Константинополю. Окружающее город сельское греческое население уже окончательно перешло на сторону никейского императора. Тайно в его пользу действовали и жители Константинополя, которые обрабатывали поля, примыкающие к городу. Современники называли этих жителей «добровольцами» (υεληματαριοι).
«Добровольцы» сообщили Стратигопулу, что новый подеста побудил латинян города с большей частью сил отправиться в поход против принадлежащего Никейской империи острова Дафнусия у южного побережья Черного моря и что Константинополь в сущности беззащитен. В ночь на 25 июля эти «добровольцы» провели через городскую стену небольшой отряд из войска Стратигопула. Отряд уничтожил стражу и открыл ворота Пиги. На рассвете никейское войско вместе с союзными половецкими отрядами вступило в Константинополь. Среди латинян началась паника. Многие жители города приняли участие в уличных схватках на стороне никейцев.
Возвращавшиеся из неудачного похода латиняне узнали о происшедшем лишь вблизи от города. Они попытались ворваться черезстены. Но Стратигопул приказал поджечь населенные латинянами кварталы, примыкающие к стене у побережья. Полуодетые жены и дети латинских рыцарей бросились к берегу, к судам своих защитников. Стратигопул согласился выпустить тех из латинян, которые этого пожелают. Забрав свои семьи и бежавшего из Большого дворца Балдуина, который бросил знаки императорского достоинства, латиняне отплыли на Запад. Константинополь снова стал столицей империи. 15 августа 1261 г. Палеолог торжественно вступил в город через Золотые ворота. Император шел пешком до Студийского монастыря; перед ним везли икону богоматери Одигитрии.
Итак, из трех греческих государств победителем вышла Никейская империя. В первые годы после образования этих государств ни одно из них не обладало достаточно ярко выраженными преимуществами, которые могли бы заранее предопределить исход борьбы. На ее перипетии влияли многие факторы. Однако решающими оказались значительное экономическое превосходство, сравнительно большее этническое единство и социальная однородность, которыми обладала Никейская империя. Немаловажное значение имело то обстоятельство, что народные массы в Малой Азии поддерживали никейских императоров в борьбе с латинской агрессией. Все эти причины, мало сознаваемые самими участниками событий, со временем стали оказывать все более заметное влияние. Относительная безопасность от латинян Эпира и Трапезунда обернулась слабостью этих осколков Византийской империи. Победило то государство, которое находилось ближе всех к главным силам своих наиболее опасных врагов (латинян и Болгарии).
Казалось, в судьбах империи произошелрешительный поворот, обещающий новый расцвет и возрождение былого могущества восстановленной державы ромеев. Этим надеждам, однако, не
ГЛАВА 5. ВОССТАНОВЛЕННАЯ ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПЕРВЫХ ПАЛЕОЛОГОВ
Бурное ликование царило в стане победителей в связи с отвоеванием Константинополя и крушением Латинской империи. Свидетель событий Георгий Акрополит писал: «Весь ромейский народ находился по причине случившегося тогда в великом удовольствии, веселии и несказанной радости»1.
По случаю победы в древней столице были объявлены празднества. Волей императора герою взятия Константинополя Алексею Стратигопулу были оказаны исключительные почести: имя Алексея, возведенного в достоинство кесаря, вместе с именем императора должно было в течение года поминаться в церквах. Новому кесарю был устроен грандиозный триумф.
В Константинополь из Никеи прибыл патриарх Арсений, в храме Софии состоялась вторичная коронация Михаила VIII и его супруги Феодоры, явившаяся своеобразным завершением торжеств по поводу восстановления Византийской империи.
Между тем положение государства было далеко не блестящим. Восстановленная Византийская империя очень мало походила на прежнюю великую державу. Ее территория резко сократилась. В Европе власть императора распространялась на часть Фракии и Македонии и некоторые острова Эгейского моря. Права империи на несколько опорных пунктов на Пелопоннесе (крепости Монемвасия, Мистра, Майна и Иеракион), полученных Михаилом VIII в качестве выкупа за освобождение из плена князя Ахайи Гийома Виллардуэна, были номинальными: обещанные крепости еще предстояло присоединить. Север Фракии и Македонии находился в руках болгар и сербов, Эпирское царство продолжало сохранять независимость. Владения в Центральной Греции ипочти весь Пелопоннес оставались во власти латинян, а Венеция по-прежнему господствовала на большей части островов Архипелага.
На Востоке Византии принадлежали лишь северо-западные области Малой Азии. Империя потеряла значительные прибрежные районы в Атталии и Пафлагонии, ставшие добычей турок.
Неузнаваемой была некогда блистательная столица империи ромеев. Глазам вступивших в Константинополь победителей предстал разоренный, запущенный город. Первой заботой правительства Михаила Палеолога было восстановление города из руин и возрождение нормальной жизни в столице. Средств не жалели; строительные работы велись с большим размахом. Были отремонтированы либо возобновлены городские укрепления и воздвигнута новая городская стена, опоясавшая район Акрополя. С прежним великолепием отделывались константинопольские церкви и монастыри, императорские дворцы и общественные здания.
В столицу быстро стекалось население, значительно поредевшее в годы господства латинян. Были заселены пощаженные огнем прибрежные кварталы города.
С восстановлением государственного и административного аппарата были приняты меры к обеспечению многочисленного чиновничества, которому предоставлялись участки для постройки домов, разведения садов и виноградников. Большие преимущества получили константинопольские монастыри, которым передавались крупные земельные наделы в городе и вне его. Император распорядился подчинить столичным монастырям некоторые восточные обители, славившиеся своим богатством2.
Но главный поток милостей императора пришелся на долю светской знати. Михаил Палеолог вступил в тесный союз с военной землевладельческой знатью, сделав его основой своей внутренней политики.
Император спешил удовлетворить требования феодалов. Положение узурпатора, отстранившего от власти, а затем ослепившего малолетнего Иоанна IV Ласкариса, заставляло его щедрыми подачками непрестанно добиваться расположения знати. Высшим сановникам были предоставлены субсидии для строительства новых и восстановления старых дворцов в столице. Своим приверженцам Михаил VIII, не скупясь, жаловал поместья и чины, раздавал богатые подарки. Широкие привилегии получили родственники императора и его ближайшие друзья, пролагавшие ему путь к трону. Брат Михаила Иоанн, видный военачальник, был возведен в достоинство деспота, второму брату Константину было присвоено звание кесаря. Титулом севастократора был отмечен родственник Михаила Константин Торник. Высокие звания получили другие приближенные императора. Было роздано большое количество земель в виде прений. Пронин получили члены синклита и многочисленная феодальная знать3. Большинство высших сановников государства стали обладателями крупных поместий. Так, брату императора деспоту Иоанну Палеологу принадлежали огромные территории, в том числе острова Митилена и Родос4.
Обширные владения, составившие прению Николая Малиасина, были получены Николаем от императора в 1272 г. Они были переданы ему с жившими там крестьянами, всем движимым и недвижимым имуществом в наследственное владение5.
Государственные деньги тратились без счета. Как утверждает Пахимер, «Палеолог черпал из казны обеими руками и мотовски расточал то, что собиралось скряжнически»6. Финансовые потребности
государства были велики. Помимо восстановления Константинополя, регулярных затрат на содержание многочисленного чиновничества и крупных сумм, уходивших на удовлетворение все возраставших аппетитов знати, большие средства поглощали армия ифлот. Армия в значительной мере комплектовалась за счет наемников, главным образом турок и монголов. Ее численность
единовременно достигала 15—20 тыс. человек
7
. Годичное содержание одного воина-наемника обходилось государству примерно в 24 иперпира (минимальный годовой доход с прений,
предоставлявшихся командной прослойке войска, составлял не менее 36 иперпиров)8. Снаряжавшийся с помощью Генуи флот насчитывал от 50 до 75 кораблей и стоил государству примерно четвертой части сумм, тратившихся на сухопутную армию9. Большие средства уходили на нужды дипломатии, богатые дары папскому престолу и иностранным правителям, на отправление и прием посольств. Соображения престижа заставляли византийское правительство возрождать традиции мировой державы, диктовали необходимость восстановления в прежнем блеске придворной жизни и пышного дворцового церемониала.
Огромные траты быстро истощили казну, доставшуюся Палеологу от его предшественников. Между тем налоговые поступления, основной источник пополнения государственных финансов, имели тенденцию к сокращению. Контроль государства над увеличением численности освобожденных от налогов париков на частновладельческих землях практически совсем перестал осуществляться10. Много сельских жителей, плативших налоги государству, в поисках выхода из тяжелого положения бежало в поместья феодалов, превратившись в зависимых париков, плательщиков феодальной ренты11. Сокращение числа налогоплательщиков шло особенно быстро с ростом феодальных привилегий земельных магнатов и особенно с расширением иммунитетных прав. Податная экскуссия, даруемая феодалам, как правило, распространялась на их париков, которые впредь уплачивали бывшие государственные налоги своим господам. Предоставление феодалам полной и неограниченнойподатной экскуссии, широко жаловавшейся Михаилом VIII12, не только сокращало доходы фиска, но постепенно все более высвобождало поместья феодалов из-под контроля государства, ослабляя тем самым позиции центральной власти.
Другой важный финансовый источник – таможенные пошлины, приносившие Византии при Комнинах несколько тысяч золотых монет ежедневного дохода13, теперь, с переходом международной торговли в руки генуэзцев и венецианцев и отмены для них торговых пошлин, почти полностью иссяк.
Чтобы справиться с постоянным финансовым дефицитом, правительство Михаила Палеолога прибегало к крайним мерам – к дальнейшей порче монеты, конфискациям имущества лиц, впавших в
14
немилость, к штрафам, взимавшимся по разным поводам с населения .
В византийской деревне царили запустение и нищета. Крестьянское хозяйство, десятилетиями страдавшее от разорения, вызванного вражескими вторжениями и внутренними междоусобицами, повсеместно пришло в упадок.
Даже весьма скудные сведения, которые дошли до нас о положении дел в провинциях во время Михаила VIII, позволяют судить о катастрофическом обнищании восточных областей империи. Грабительская налоговая политика, частые кадастровые переписи и внеочередные сборы налогов приводили к полному разорению сельского населения. По словам Пахимера, «отсутствие денег у крестьян вынуждало их отдавать в счет налогов золотые и серебряные монеты, служившие им головным украшением, и оттого становиться еще беднее»15. С завоеванием Константинополя и возвращением императорского двора в столицу постепенно захирели и такие богатые области, как Вифиния, бывшая в свое время источником благосостояния Никейской империи. Безудержный грабеж государства привел к взрыву недовольства обездоленного крестьянства Вифинии: в 1262 г. вспыхнуло восстание вифинских акритов. В Никейской империи они были свободны от уплаты налогов и несения других повинностей. С приходом к власти Михаила VIII была проведена реформа, приведшая фактически к ликвидации пограничной службы акритов. Их земли были обложены податями, а воинам в виде компенсации назначили жалование, которое выдавалось нерегулярно и систематически уменьшалось16. Акриты при поддержке вифинского крестьянства, настроенного в пользу старой династии, подняли восстание. В среде восставших появился слепой юноша, выдававшийся ими за Иоанна IV. Посланное против восставших войско оказалось бессильным против засевших в горах акритов, которые хорошо знали местность и с успехом отражали атаки. Восстание удалось подавить путем обмана и подкупа отдельных его вожаков и участников17. В результате карательных экспедиций Вифиния была разорена.
Грабительская политика правительства в отношении восточных областей дорого обошлась Византийскому государству. Местное население все чаще предпочитало входить в контакты с турками и переселяться в их области. Оборона восточных границ империи была полностью дезорганизована – акриты уклонялись теперь от несения пограничной службы, перебегали к туркам. Турки по большей части безнаказанно переходили границу империи и захватывали византийские области. Им удалось овладеть важным опорным пунктом византийцев – городом и крепостью Траллы, который был разрушен до основания, а его жители перебиты. Процесс проникновения турок облегчался и тем, что все помыслы Михаила Палеолога были устремлены на запад, где его вожделенной целью было окончательное изгнание латинян. Военные экспедиции на восток посылались лишь эпизодически, и вся восточная граница империи в годы пребывания Михаила VIII у власти по сути дела была открыта для турок18.
Международное положение Византии было сложным. Падение Латинской империи явилось тяжелым ударом для многих государей Европы. Были затронуты интересы ряда стран, но в первую очередь был нанесен ущерб престижу папского престола, постоянного защитника латинских императоров Константинополя. Существенно пострадали и позиции Венеции, которая после Нимфейского договора потеряла господствующее положение в торговле в бассейне ВосточногоСредиземноморья и на Черном море.
Новый папа Урбан IV (1261—1264), вступив на престол, сразу же начал предпринимать меры против Византии, потребовав от Генуи разорвать союз с Михаилом Палеологом. Поскольку генуэзцы отказались, последовали отлучение от церкви правительства Генуи и папский интердикт на все население республики. Венеция поступила еще более решительно, послав с благословения папы флот против союзных эскадр Византии и Генуи. Сначала союзникам сопутствовал успех. Они заняли ряд островов Архипелага, захватили несколько венецианских кораблей. В руках Михаила оказался большой для того времени флот, насчитывавший до 60 галер. К этому времени вернувшийся домой из плена Гийом Виллардуэн был освобожден папой от клятвы, данной Михаилу VIII, и отказался выполнить условия договора о передаче Византии крепостей на Пелопоннесе. Император стал готовить туда военную экспедицию. Но ее пришлось отложить. Венецианцы разбили генуэзский флот в морском сражении при Сетте Поцци (1263 г.), применив хитроумную тактику морского боя. Вслед за тем последовало и политическое расхождение между Михаилом VIII и генуэзцами, воспротивившимися намерениям византийского императора идти к Пелопоннесу. Генуя не рискнула выступить против Гипома, пользовавшегося расположением Урбана IV, боясь еще более обострить и без того опасный конфликт с папской курией. Генуя склонялась к примирению с Римом, чему немало способствовали политика Сицилийского королевства и угрожающее соседство Карла Анжуйского. Разрыв Византии с Генуей стал неизбежным после измены главы генуэзской колонии в Константинополе Гильельмо Гверчи, который в союзе с тайными агентами сицилийского короля Манфреда Гогенштауфена строил планы передачи города латинянам19. После раскрытия заговора Михаил VIII изгнал генуэзцев из Константинополя, нанеся тем самым тяжелый удар генуэзской торговле, хотя в Галате они удержались.