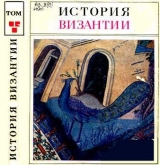
Текст книги "История Византии. Том III"
Автор книги: Сергей Сказкин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
« Железо любит ведь магнит, жених невесту любит,
Властитель – благородную, избранницу – наш; Дука,
Воитель непреклоннейший – сложил свои доспехи
И в брачный золотой
есть свой
,
нежнейшую девицу
Он снял железный свой хитон, в порфиру облачился. . Так и для свадьбы наряд для браниЖелезо любит ведь магнит час, не. только лишь
...»и т. д
Конечно, поэзия реагировала на столь важное событие, как освобождение ромейской столицы; дошла, например, поэма, состоящая иэ 759 пятнадцатисложников без рифмы, датированная 1392 г. и
11
озаглавленная «О падении и обратном завоевании Константинополя» . Сам автор излагает свою цель так:
«
О том
,
как матерь городов пленили италийцы
И как она же в свой черед , ».
Я все пространно изложил
; возвращена, ромеям
прочти коль есть охота
Два виднейших и характернейших представителя той эпохи, которая началась после 1261 г., – современники и соперники, НикифорХумн 12и Феодор Метохит13-14. Эта эпоха была особенно благоприятной для рецепций античного наследия: никейский период сохранения византийской государственности и последовавшая затем победа 1261 г. стимулировали «эллинский» патриотизм, а исихастская реакция еще не успела созреть. Сам Хумн был непосредственно связан с культурными традициями никейской эпохи через Григория Кипрского, чьим учеником он был. Риторический трактат Никифора «О том, как судить о речах, и как они воздействуют»15 – отчетливое выражение аттикистской тенденции, ориентировавшейся на образцы Исократа и Элия Аристида. Декламации и письма16самого Никифора (между прочим, он много переписывался с Метохитом, так что их до последнего времени считали друзьями) показывают, как эта теория прилагалась к практике.
Хумн довольно серьезно занимался и античной философией; любопытно, что его борьба с Метохитом облекалась в мало адекватную форму полемики относительно классических риторов и философов.

Преображение. Миниатюра из рукописи Парижской национальной библиотеки Главный труд великого логофета Феодора Метохита носит название «Гномические памятки и
заметки»17 (условно – Miscellanea) и представляет собой комплекс 120 эссе на различные литературные, философские и моралистические темы. Бросается в глаза обилие очерков об античных авторах (например, о Плутархе, самая структура «Моралий» которого очевидным образом повлияла на непринужденное многословие Феодора), Метохит писал также речи и декламации, трактаты по
философии и астрономии18, стихи в гексаметрической форме и т. д. Напомним, что имя Феодора Метохита определенным образом связано и с историей византийской живописи: он был заказчиком возникших около 1303 г, мозаик Кахриэ-Джами. «На мозаиках лежит печать изысканного вкуса их заказчика..., являвшегося одним из культурнейших и образованнейших византийцев XIV века», —
замечает В. Н. Лазарев
19
. Среди этих мозаик сохранился, между прочим, и портрет Феодора, на коленях подносящего Пандократору модель церкви.
Темы и штампы продромовского круга продолжает в XIV в. поэт из Эфеса Мануил Фил20. Вся топика жалоб на бедность, условного попрошайничества и т. д. снова проходит в его поэзии, хотя и в гораздо менее выразительной и свежей форме, чем это имело место у Феодора Продрома:
«Державный повелитель, обносился я!
Хитон поистрепался, , продырявился, , И ворс на львиной шкуре тонко стриженный
Весь вылез от морозов и попортился.
И вот, нуждаясь страшно21 в одеянии,
К тебе я прибегаю!...» .
Более интересны принадлежащие ему же стихи о различных предметах искусства22, показывающие, как византиец воспринимал икону, произведение ювелирного искусства и т. д., хотя и эта часть творчества Фила всецело стоит под знаком старой традиции риторического «экфрасиса».
Палеологовская эпоха – время расцвета такой специфической литературной формы, как роман в стихах. Еще роман Евматия Макремволита «Повесть об Исминии и Исмине», непосредственно примыкающий к традиции позднеантичной эротической литературы, написан прозой, как и романы II – IV вв. Но уже «Каллимах и Хрисорроя»23 (первоначальную редакцию этого романа относят к XII в., а окончательную – к концу XIII или началу XIV в.)24выполнен в пятнадцатисложниках. Это понятно: роман принадлежал к развлекательной литературе, а бойкий «политический» стих был более доходчивым, чем претенциозная риторическая проза. Правда, «Каллимах и Хрисорроя» по своему стилю и языку представляет собой посредствующее звено между антикизирующим академизмом и настоящей популярной словесностью.
В его топике также наблюдается странное соединение откровенно фольклорных мотивов («Драконов замок», смертоносное яблоко, животворное яблоко и т. п.) и налета книжности (постоянные клятвы Эротом и Афродитой). В других образцах палеологовского стихотворного романа «лубочная» стихия более решительно преодолевает книжную, что дает в итоге большую грубость, но и большую цельность.
Как раз через эту жанровую форму передавалось интенсивное воздействие западного рыцарского эпоса. Колоритный результат этого воздействия – поздний роман в 1874 нерифмованных пятнадцатисложниках «Флорий и Плацафлора»25, т. е. византийская переделка известной провансальской легендыо Флоре и Бланшефлер.
Это сочинение настолько связано со своими западными прототипами, что удерживает все католические религиозные реалии (например, паломничество родителей героя к Сант-Яго де Компостелла в Галисии, ст. 10—20). Но словесная ткань романа органично связана с исконными традициями греческой поэзии; между прочим, мы встречаем в гл. 11 великолепную игру на склеивании слов в «протяженносложенные» composita, как это в свое время делал еще Аристофан, а в византийскую эпоху – Арефа в своей эпиграмме на Льва Хиросфакта. В четырех стихах подряд красота Плацафлоры описывается в эпитетах такой протяженности, что два из них всякий раз занимают весь пятнадцатисложник:
«...И он узрел красавицу... 26.
Пурпурнорозоустую
,
лилейноснеговую
...»
К этой же категории относятся романы «Иверий и Маргарона»27 {т. е. «Пьер и Магелонна» – опять обработка провансальской легенды, дошедшая в трех поздневизантийских изводах различного объема) и «Вельфандр и Хрисанца»28 (сохранившаяся редакция XV в., по-видимому, восходит к оригиналу XIII в.). Вот колоритный кусок из «Вельфандра и Хрисанцы», изображающий героя в роли Париса на куртуазном конкурсе красоты:
«И вот Вельфандр увидел их и так им всем промолвил: «Коль скоро сам Эрот меня поставил вам судьею,
Извольте все передо, мной проследовать: нередкой!»
«
Одна, красавица, идет такие речи молвит!» : Но
Ах господин весьма прошу тебя о снисхожденье
так промолвил ей Вельфандр: «Сужу, тебя по, правдеНикак, нельзя тебе отдать , красавица победу
Затем». . Она, что очи у тебя и красны, и распухли
услышав приговор, скорей ушла в, сторонку
Из хора девичьего вот еще одна выходит , Становится прямехонько: « насупротив Вельфандра, А он ведет такую речь Твои раздулись губы
И от того твое лицо уж; очень безобразно».
Вот так он и ее прогнал она ушла скорее,
И снова стала в стороне в унынии немалом,
И горестно заплакала от эдакой напасти...»29.
Инерция этой романной формы столь велика, что захватывает и достаточно отдаленные литературные сферы. Например, хроника Ефрема30; относящаяся, по-видимому, к началу XIV в. и
излагающая историю ромеев от Юлия Цезаря до 1261 г., написана в стихах и использует бойкие интонации стиховой развлекательной литературы, хотя по своему настроению остается в русле той назидательности, которая характерна для хронистов-прозаиков; вот как он повествует о Константине:
«
Отец благочестивых государей он
,
Первейший из христолюбивых кесарей; , Собор созвал он пастыреначальственный».
Чтоб Ария низвергнуть лжеучение
Для византийской поэзии XIV в. характерно оживление интереса к героям троянской легенды. Причем поразительно, что этот материал, связанный с изначальными основами греческой литературной традиции, воспринимается авторами этой эпохи по большей части через чужую призму – под знаком
западного рыцарского эпоса. Это еще слабо выявляется в «Илиаде» Константина Гермониака31 (первая половина XIV в.), автор которой претендовал на то, чтобы точно переложить Гомера на современном ему языке, но на деле уснастил повествование самыми колоритными анахронизмами в духе средневекового романа (например, Ахилл предводительствует, кроме мирмидонян, еще болгарами и венграми!). Но анонимная «Троянская война»32уже совершенно ясно зависит от старофранцузского «Романа о Трое» Бенуа де Сент-Мора: потомок эллинов называет на римский манер Геракла «Еркулесом», а Ареса – «Маросом»! Дух западного рыцарского эпоса чувствуется и в поэме «Ахиллеида»33, дошедшей в двух вариантах – кратком (761) и расширенном (1820 ст.). Здесь вождь мирмидонян именует свою даму сердца «куртеса» (ит. cortege – обращение к знатной госпоже), участвует в турнирах, собирает вокругсебя (по примеру короля Артура!) 12 витязей и в конце концов отправляется венчаться с сестрой Париса в троянскую церковь и гибнет жертвой предательского нападения.

Константин Комнин и Евфросиния Дукеня Палеологиня. Миниатюра Оксфордской рукописи. Ок. 1400 г.
То, что греки XIV в. воспринимали воспетую Гомером троянскую легенду через западные подражания Диктису и Дарету, в высшей степени неожиданно, но по сути дела вполне понятно: время требовало такого прочтения этой легенды, которое соответствовало бы феодальному стилю жизневосприятия – а в этом «франки» опередили византийцев.
Изо всех упомянутых обработок троянских сказаний самым ярким и поэтически интересным является, без сомнения, пространный вариант «Ахиллеиды». Наивные анахронизмы только усиливают жизненность поэмы. Автор умело владеет стихом: его пятнадцатисложники хорошо держатся на аллитерациях, парономасиях и т. п.
Вот место из этой поэмы (ст. 861—892), изображающее куртуазную переписку Ахилла и Поликсены (эта последняя не имеет в византийском романе ничего общего с дочерью Приама – она лишена какого бы то ни было отношения к Трое и состоит в счастливом браке с Ахиллом шесть лет, а потом умирает).
«... И вот он деве написал любовную записку, , Призвал к себе кормилицу и с ней послал записку
И речи этой грамоты гласили, слово в слово:
«Пишу письмо любовное, пишу а сам тоскую.
Возьми, письмо, прочти, письмо, не отвергай признанья. Услышь о дева милая, услышь, цветок желанный, : Меня и стрелы не берут и меч меня не ранит
Но , очи ранили твои, в полон меня забрали, , Да твой зрачок в конец, смутил несчастный мой рассудок И, сделал он меня рабом, рабом порабощенным.
О сжалься же, , . Ведь сам Эрот – красавица любезная девица предстатель Не
убивай
меня
,
,
заступник, мой, любви моей
краса своей, , Пойми печаль прими любовь , гордыней лютой
– смягчи мои терзанья! На сердце мне росу пролей, оно пылать устало не тронешься любовью, , Но если ты не Я меч схвачу и
сжалишься без жалости зарежу».Клянусь тебе, сам себя
владычица, – и ты виною будешь, Вот он, незамедлительно послал письмо девице
Она же в руки, получив Ахиллово писанье, , Не сжалилась не тронулась, любви не , сострадалаНо села и не мешкая ответ свой написала
И : , « речи этой, грамоты гласили слово в слово
Мой господин письмо твое, мне передали, в руки . Но отчего ты так скорбишь, я, право же
в
полон
поймав
,
не знаю
Коль скоро мучают тебя , любезный, о пощаде. Ты их и должен попроситьЭроты , Эротов, ; А мне и вовсе дела нет, до всяких там
Любви меня не одолеть, Эротам не осилить. Не знаю стрел Эротовых не знаю мук любовных А ты, уж еслиболь твоя взаправду нестерпима, 34 Один изволь убить себя, один прощайся с жизнью!»
В последние века перед падением Византии отчетливо выступает фольклорная линия, которой суждено пережить и ромейскую державу, и вообще средние века. Необычайно колоритны так называемые «Родосские любовные песни» (в рукописи они озаглавлены Στιχοι περι ερωτος χαι αγαπης)35. Нельзя сказать, чтобы господствующее в них настроение было особенно здоровым и привлекательным; здесь перед нами тот стиль эротики, который сочетает примитивное жеманство с наивным цинизмом и служит необходимым коррелятом всякого «домостроевского» уклада жизни. Эта не слишком импонирующая сфера образов и чувств получила в определенные века самое широкое распространение; у нас в России она была представлена с XVII в. «лубочным» романом и затем продолжала жить в полународном, полумещанском мире частушки и «жестокого» романса, поразительно стойко сохраняя присущую ей систему общих мест. В центре «родосского» цикла стоит стихотворение, которое озаглавлено «Стослов». Ситуация такова: мальчишка (νεωτερος) объясняется красотке (λυγερη досл.: «стройная») в любви:
Мальчишка
Я потихоньку ото всех горю
,
а ты не видишь
.
Красотка
Ведь ты еще совсем дитя, совсем ребенок, малый. ! .Молчи! , нечего – сказать! Ну где тебе мальчишкаЛюбовник
Услышит кто нибудь – меня в конец задразнят
Мальчишка
Почем ты знаешь, будто я в любви, совсем не смыслю? Меня сначала, испытай, потом суди как знаешь, . Увидишь ты как мальчуган умеет целоваться Как будет угождать тебе и. , Хоть велика растет сосна всласть тебя потешит , плодов с нее не36 снимешь А виноград и невелик, да плод дает отменный.
Девица предлагает поклоннику своего рода игру в фанты: он должен будет сказать экспромтом сотню стихотворных прибауток, каждая из которых должна начинаться соответствующим по порядку числительным, и тогда она согласна с ним целоваться:
«
Изволь
-
ка мне сказать
,
дружок
,
подряд до сотни
».
вирши
,
И если складно выйдет стих
,
тебе подставлю губы
Начинаются двустишия, поразительно напоминающие по своей структуре русские частушки (это выступает особенно наглядно, если разбить каждый «политический» стих на четырехстопную и трехстопную строки).
1
«
Одна красавица давно
,
меня поймала в сети
,
Опутала меня в конец а выпустить не хочет
.
2
Два глаза есть у бедного
,
,
и оба
–
горько плачут
;
Из камня сердце у тебя а нрав избави боже
!
3
Три года я из
-
за тебя готов
-
сидеть в
-
темнице
.
,
Как три часа они пройдут из за красы девицы
4
Четыре у креста конца
,
а крест висит на шее
;
Другие пусть целуют крест
,
а я тебя целую
.
5
Пять раз на дню я исхожу из-за тебя слезами; 37.
Поутру раз и в полдень раз
,
три раза попозднее
»
Однако автор, то ли утомясь сам, то ли боясь вызвать скуку у читателя, сокращает затянувшуюся игру: уже после десятой прибаутки оказывается, что жеманница на все согласна и в нетерпении предлагает юноше придумывать «частушки» только на цифры 20, 30 и т. д. Когда он доходит до 100 и берет у девицы все, что ему было нужно, он принимается грубо куражиться над ней.
Еще более откровенная грубость отличает рифмованное стихотворение «Слова девицы и юноши», относящиеся, по-видимому, уже к эпохе турецкого завоевания
38
.
Чрезвычайно характерны для византийского фольклора и низовой литературы звериные сюжеты. Средневековый грек любил истории про животных; этой потребности удовлетворяли, между прочим, простонародные варианты «Естествослова» («Фисиолог»)39. В поздневизантийской плебейской культуре оживает исконная басенная стихия, в свое время породившая басни Эзопа. Но теперь она создает вместо басенных миниатюр произведения больших форм. Примером может служить хотя бы «Повествование для детей о четвероногих животных»40, занимающее не больше, не меньше, как 1082 «политических» пятнадцатисложника (без рифмы). Сюжет вкратце таков: Лев, царь зверей, провозглашает вечный мир в своем царстве и созывает подданных на сходку; однако звери принимаются хвастать своими заслугами и бранить друг друга, причем брань начинается с простолюдинов звериного мира (Кошка, Мышь, Пес) и постепенно доходит до могущественных господ, Быка и Буйвола. Именно это сквернословие, для нашего восприятия неимоверно многословное, и составляет основу всего стихотворения. Затем Лев объявляет, что перемирие закончилось и звери могут снова поедать друг друга; все заканчивается всеобщей потасовкой. Несомненно, поэма содержит зашифрованные «эзоповским языком» злободневные намеки на социальные противоречия в византийском обществе41.
Общее настроение «Повествования о четвероногих» – дерзкое вышучивание всего, что попадется под руку; встречаются издевки над другими народами (юдофобское изречение в ст. 424), над католической церковью (утверждается, что основа латинской литургии – свинья, ибо из ее щетины делают кропила, см. ст. 385—389), но нисколько не лучше автор относится и к такой православной святыне, как иконописание (которое зиждется опять-таки на свинячьей щетине, без которой не сделаешь кистей – см. ст. 395—400). В «Повествовании о четвероногих» много чисто фольклорного сквернословия, которое иногда обнаруживает теснейшую связь с античными ритуальными традициями; извечная средиземноморская тема «фаллизма» осла трактована таким образом (ст. 644 —655), как будто со времен Аристофана ничего не изменилось.
Сюжетная структура «Повествования о четвероногих» в точности воспроизведена в «Птицеслове» (Πουλολογος)42, озаглавленном в рукописи так: «Птицеслов обо всех пернатых и об их ссоре, как они бранили друг друга, а себя хвалили, содержащее кое-какое хорошее присловие для потехи и
вразумления человеческого, нередко же и для поучения юношей». И здесь «Орел, великий государь над всем народом птичьим», созывает своих подданных, на этот раз на свадьбу своего сына. Темп здесь более сжатый, чем в предыдущей поэме, и поэтому скандал начинается уже со ст. 5 (всего в «Птицеслове» 550 нерифмованных пятнадцатисложников). Сквернословие играет здесь заметно меньшую роль, а бытовые намеки более прозрачны, чем в «Повествовании о четвероногих»: оказывается, что среди подданных птичьей державы один – неоплатный; должник, другой корчит важного господина, третий – латинянин из Рима, четвертый – татарин и болгарин сразу и т. д.
Звериный эпос мог, нисколько не меняя своих приемов и установок, перейти на растительную топику (как это время от времени происходит и в басне античного или лафонтеновско-крыловского типа). Это дало прозаический «Плодослов» (Διηγησις του πωριχολογου)43. Здесь басенно-сатирическое иносказание бьет в глаза. В центре действия – ложный донос, и притом политического свойства. С этим доносом выступает передпрестолом царя Айвы Винная Лоза; ее поддерживают лжесвидетели – настоятельница монастыря Маслина, домоправительница Чечевица, монашенка Изюм и др. Донос направлен против высоких чиновников – протосеваста Перца и др.; он поступает на рассмотрение «архонтов и игемонов», к которым присоединяется и варяжская придворная стража. Все же истина торжествует, и над Винной Лозой изрекается приговор: «...Ты будешь повешена на кривой хворостине, тебя будут резать ножи и топтать мужчины, и кровь твою будут они пить и хмелеть от этого, и не будут ведать, что они делают. И будут они болтать несвязные речи, несуразицу, словно бы твоя кровь навела на них порчу, Лоза, и будут они шататься, опираясь о стены, от одних яслей до других; и валяться будут они, как осел валяется на траве, и, падая, заголят себе зады. На улицах будут они спать и гваздаться в грязи, свиньи будут их обнюхивать и котки облизывать; и бороды у них вылезут, и куры будут клевать их, они же и не почуют по причине крови твоей, о, лживая Лоза!» И так проклял царь Айва Лозу, ибо ложь изрекла она перед Его Величеством. Архонты же немедля возгласили: «Многая лета, владыко царю Айва, многая лета! Яко тебе приличествует царство, яко ты един благороден воистину, аминь!»44На этой остро-пародийной фразе и кончается «Плодослов»; хотя «общечеловеческая» темапьянства трактована в нем весьма выразительно, все же главная его суть – в высмеивании (скорее карнавальном, чем собственно сатирическом) двора и чиновничества, пышных титулов, доносов. Изображение шутовского судебного процесса имеет в низовой литературе различных народов многочисленные параллели (ср. русскую «Повесть о Ерше Ершовиче»).

Пиршественная сцена. Миниатюра из книги Иова Парижской национальной библиотеки. 1368 г.
Византийская пародийная, «потешная» литература с героями-животными создала один по-настоящему интересный памятник. Это – история об Осле, Волке и Лисе; она дошла в двух вариантах – более кратком (393 «политических» стиха) и более пространном (540 таких же стихов, на этот раз с рифмой). Первый извод пародийно озаглавлен: «Житие (Suvaiapiov) досточтимого Осла»45; если принять во внимание ведущуюся в поэме остро сатирическую игру с набожными формулами и жестами, заглавие оказывается особенно пикантным. Во втором изводе заглавие более нейтрально, причем, вероятно, отражает восхищение переписчика всей вещью: «Превосходное повествование про Осла, Волка и Лису»46.
Персонажи этого звериного эпоса и ситуации, в которых они оказываются, прекрасно известны в самых разных литературах мира (высказывались предположения относительно того, что «Житие Осла» – переработка западноевропейских историй о Лисе). Но в рамках этой поэмы все традиционные, «бродячие» положения и образы получают чисто византийский колорит. Лиса и Волк – не просто аллегории хитрости и насилия «вообще»; это мыслимые только в атмосфере вековых традиций «византинизма» елейные ханжи, вкрадчивые фискалы, тихо опутывающие простого человека невидимой сетью страха. Притом же они, как истинные эллины, не чужды претензий на высокую образованность: Лиса с гордостью именует себя единственной ученицей Льва Мудрого (Лев – благодарное «звериное» имя, которое не выводит читателя из животного мира поэмы и вто же время в сочетании с эпитетом «Мудрый» безошибочно вызывает в памяти известного Льва VI).
Средневековый человек, для которого религия была бытом, почти механически пародировал священные формулы, действования, понятия. Византийцы тоже с упоением предавались игре в кощунственное выворачивание обряда (например, было составлено «Последование службы козлорожденному нечестивому евнуху...»)47, но это был еще низший уровень игры. Можно было найти новый ход, введя в игру зверей (в обстановке «космической» универсализации церковных понятий так естественно было представить себе, что и у зверей они на языке).
Еще в свое время у Феодора Продрома была юмореска, в которой представлена мышь-начетчица48: попав в лапы к кошке, она принимается сыпать цитатами из покаянных псалмов: «Ах, госпожа моя, да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеши мене! Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя! Беззакония моя превзыдоша главу мою...» и т. д. Кошка в ответ на эти выкрикивания предлагает процитировать пророка Осию (6, 7) в новой редакции: «Жратвы хощу, а не жертвы» (в подлиннике игра на том, что слова ελεος – «милость» и ελαιος – «оливковое масло» выговаривались одинаково). У Продрома прием самоцелен; травестируются слова как таковые. Центральный момент «Жития Осла», когда Лиса ведет ханжеские речи с целью безнадежно запутать и погубить Осла, – это и то же, и совсем не то. Старый прием поворачивается по-новому и начинает «работать». Травестия переходит в сатиру: высмеиваются не слова, а жизнь.
Вот сюжет стихотворения в целом. Осел, простодушный и грубый деревенщина, сбежал от жестокого хозяина. К нему приближаются господа – Волк и Лиса, которые предлагают ему вместе с ними отправиться на Восток в поисках фортуны; Ослу с самого начала не по себе в подобном обществе, но он неспособен противостоять такому приглашению. Животные садятся на судно и отправляются в плавание: Волк присваивает себе должность капитана, Лиса – кормчего, а гребет за всех, конечно, Осел. Но вот Лиса сообщает, что ее недобрый сон предвещает кораблекрушение; поэтому всем необходимо всенародно исповедать свои грехи. Волк рассказывает, как он задирал скот, Лиса – как она съела единственного петуха у бедной слепой старухи, а перед этим ластилась к ней, прикидываясь кошкой; затем хищники богомольно каются, дают обеты отправиться на св. Гору (т. е. на Афон), чтобы принять постриг, и затем отпускают друг другу грехи. Очередь исповедоваться доходит до Осла, но здесь обстановка неожиданно меняется: перед Волком появляется Номока нон, чернила, бумага, и он начинает аккуратно записывать показания Осла, который превратился из кающегося в подсудимого. Все отвращение безграмотного простолюдина к мрачной и зловещей таинственности судебной процедуры весьма колоритно выражено в этом разделе. Ослу, собственно, и каяться не в чем, кроме того, что он однажды, невыспавшийся, усталый и голодный, съел листочек хозяйского салата, за что тогда же сполна принял кару. Рассказ об этой каре выразителен и энергичен:
«
На горе мне хозяин мой немедля все приметил
. И тотчас же без жалости, кнутом меня приветил
Огрел по шее он меня по уху угодил мне
,
. Мой зад злосчастный ободрал и все бока отбил: мнеМне это было невтерпеж, и верх взяла природа. – Я гулко звуки испускал из заднего
Ах
,
господа любезные
,
простите это слово
прохода! 49.
Увы
,
судьба моя
,
судьба была ко мне сурова
...»
Приговор изрекается по всей строгости законов (бродячий сюжет, хорошо известный русскому читателю по обработке Крылова в басне «Мор зверей»!):
« Какой преступник ты, Осел, развратом обуянный,
Властей и веры гнусный враг, разбойник окаянный! !
Сожрать без уксуса салат! Какое преступленье? И как доселе наш корабль избегнул И мы решим твою судьбу законным потопленья: . Смотри, вот здесь закон гласит, приговором
что делать должно с вором
Мы по статье седьмой вполне законно. поступаем:
Тебе выкалываем глаз и руку
А по двенадцатой статье ты должен быть
отрубаем повешен, 50. И это все претерпишь ты, затем что очень грешен»
На этом и должна была бы кончиться жизнь Осла (как это происходит в старинном басенном рассказе, использованном у Крылова). Но дух народной сказки требует счастливого конца и победы простодушного героя. Осел принимается уверять своих судей и палачей, что его заднее копыто наделено магическим даром; тот, кто посмотрит в него, укрепившись предварительно молитвой, получит необычайные силы. Следует новая травестия священной ситуации – Волк три часа стоит на коленях и твердит «Отче наш». Затем Осел ударом пресловутого заднего копыта сбивает Волка за борт, а перепуганная Лиса сама спрыгивает туда же. Поэма кончается торжественным похвальным словом «философу» Ослу, благодаря своей мудрости одолевшему врагов. Для большей иронии похвала вложена в уста Лисы.
Византийскому фольклору суждено было надолго пережить крушение византийской цивилизации и впоследствии перейти в новогреческую народную поэзию. Традиция греческой народной литературы
также оказалась достаточно устойчивой и еще на грани XVI в. дала такого поэта, как Сахликис с Крита51, мастер грубого и плоского, но колоритного юмора. Кстати сказать, Крит вообще играет на
протяжении XVI и XVII вв. роль своего рода заповедника греческой словесности, в то же время испытывая сильное влияние Италии; скрещивание двух традиций отчетливо прослеживается в творчестве грекоязычного критского стихотворца XVI в. с итальянской фамилией Корнаро
52
.
Но «высокая литература» была более хрупким растением; последние сочинения византийской прозы большого стиля – это исторические описания катастрофы 1453 г. Здесь следует назвать прежде всего «Истории» (в 10 книгах) Лаоника Халкокондила53, охватывающие период 1298—1463 гг. Этот автор, время жизни которого приходится на трагический для империи период (середина XV в.) (попытки более точно определить даты рождения и смерти спорны)54, – последний крупный представитель палеологовского классицизма, который в дальнейшем имел будущее лишь в ином культурном кругу, на западной почве. Глубоко символично, что Халкокондил – уроженец Афин; это дает ему возможность начать свой труд гордой фразой, написанной «под Фукидида»: «В этой истории записано то, что видел и слышал в своей жизни Лаоник Афинянин...»55. Дикция Лаоника отмечена стилизаторством, которое иногда заходит так далеко, что мы встречаем у него грамматическую форму двойственного числа, вышедшую из живого употребления еще в первые века нашей эры. Он продолжает перекрещивать русских – в сарматов, сербов – в триваллов, болгар – в мидян, татар – в скифов и т. п. И все же в сочинении Лаоника живет пафос,несводимый к академической игре56. То, о чем он пишет, – великое бедствие его народа: «...Я говорю о гибели, постигшей державу эллинов, и о том, как турки забрали силу, больше которой и не бывало...»57. В этих условиях подчеркнутый пиетет к традициям греческого языка, которому Халкокондил посвящает настоящее похвальное слово, утверждая, что «...этот язык повсюду и всегда был наипаче других прославлен и в чести, и еще сегодня это общий язык чуть ли не для всех...»58, – это патриотический акт, выражение надежды на то, что «держава эллинов» еще возродится и будет управляться «эллинским царем»59. Конечно, Лаоник говорит об «эллинах», а не о «ромеях»; в годы катастрофы он, как и его старший современник Плифон, через века византийской истории обращается к исконному греческому прошлому, воспринимая его именно как национальное прошлое, – черта, прослеживающаяся еще у публицистов никейской эпохи. В западноевропейском гуманизме линия «возрождения классической древности» и линия строительства национальных культур дополняли друг друга, но ни в какой мере не совпадали (некоторым исключением была, конечно, Италия, где в XV в. воинственно противопоставляли «своего» Вергилия «испанцу» Марциалу)60. Только для греков слава Гомера и Афин совпадала с пафосом патриотизма; по иронии судьбы именно они не могли реализовать свою национальную идею, и Лаонику оставалось жить прошлым и будущим – настоящего у него и ему подобныхне было.
Книжный классицизм проявляется у другого историка этой эпохи, Критовула с острова Имвроса61, почти в таких же формах, как у Лаоника. И он воспроизводит фукидидовские схемы изложения (временами прямо вставляя в свой текст выдержки из Фукидида). Но живая душа антикизирующего пафоса Халкондила здесь как бы вынута; Критовул – глашатай не патриотизма, но
коллаборационизма, и прославляет он не побежденных, а победителей62. Однако, подобно тому, как некогда Иосиф Флавий сумел сочетать в себе придворного историка Флавиев и поклонника традиций иудейского народа, так и Критовул, повторивший его ситуацию, при каждом удобном случае демонстрирует свою привязанность к эллинизму. Но это приобретает гротескные формы: османы оказываются у Критовула отдаленными потомками Персея и Даная, а стало быть – исконными эллинами; Мехмед II ведет себя как просвещеннейший «филэллин» и в то же время выступает в своей войне с эллинами-«ахейцами» не больше, не меньше как мститель за Трою. В целом Критовул – прототип образованного «фанариота», способного только тешить себя надеждой, что завоеватель окажется не слишком грубым.








