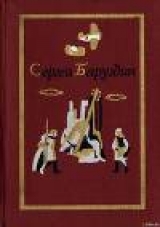
Текст книги "Роман и повести"
Автор книги: Сергей Баруздин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
6
Вскоре после встречи с пленными немцами они остановились в рабочем поселке. Остановились прочно. Шофер явно надул, когда сказал, что ехать им еще часик с гаком. Ехали добрых три часа. В поселке находился штаб полка, где она должна была получить назначение. Но в этот день почему-то вышло так, что всех девушек – ее попутчиц – распределили, а ее нет.
Она робко доказывала:
– Посмотрите мои документы… У меня же две специальности…

Младший лейтенант ходил с ней вместе, с кем-то говорил, с кем-то спорил, на кого-то даже прикрикнул, но толку не было. Кто-то сказал:
– Слушай, чего ты голову морочишь! Нет же никого! Все начальство на передовой!
Еще кто-то:
– Нам бы красноармейцев подбросить, а ты! Кстати, не слышал, там еще сибиряки или уральцы не подтягиваются?
И еще:
– Силы, понимаешь, живой силы у нас, браток, не хватает! И противотанковых средств: ты слышал, что немцы на дороге Москва – Брест контратакуют?
А в следующей комнате опять:
– Командир полка в батальонах. И начштаба. И комиссар. Без них ничего не могу. Вернутся, тогда, пожалуйста…
Она чуть не обиделась.
– Вы знаете, – сказала она младшему лейтенанту, – у меня такое впечатление, что я здесь никому не нужна. Почему же тех девушек распределили, а меня?.. Я здесь не останусь. Я тоже хочу туда…
– Все это чепуха! – сказал младший лейтенант. – Люди на передовой. У тех девушек проще: они – военфельдшеры. Естественно, их сразу в дело бросили. А у тебя… И связь и медицина… Право, тебе надо остаться здесь. Тут все же безопаснее.
– Я не хочу здесь, – упрямо сказала она.
– Ну ладно, ладно, – успокоил ее младший лейтенант, – утро вечера мудреней. А сейчас погуляй. Часа через два устрою тебя на ночлег.
Она ходила тогда по поселку. Хотя здесь и располагался штаб полка, военных в поселке почти не видно. Разбитый, какой-то заброшенный и молчащий, он был пуст. Или так казалось потому, что всюду много снега. Домов сохранилось лишь несколько и те не полностью. Во многих полуразрушенных – лишь бы под крышей! – что-то жило. Загорелись коптилки. Тянуло из забитых досками или просто заткнутых тряпьем окон запахами махорки и еды. Она читала немецкие объявления, которые так врезались ей в память, и видела братскую могилу наших, которую не успели закрыть землей, но которую покрыл снег. Туда еще подносили трупы убитых. Две могилы – поименованных – находились на главной улице. Холмики и пирамидки с неаккуратно вырезанными из консервных банок звездочками. И надписи чернильным карандашом, размазанные и уже почти стершиеся: «Интендант 3 ранга Хорошев В. И. 1902–1942», «Военинжекер 2 ранга Мотовилов С. А. 1914–1942». В поле за разбитым скотным двором находилось немецкое кладбище. Там в ряд стояли березовые кресты и на них каски. Крестов много – сто или больше – и столько же касок. Снег заметал и это кладбище: на касках огромные снежные шапки, кресты видны еле-еле.
Возле колодца с упавшим журавлем мальчишки рубили топорами замерзший труп лошади. Лошадь с вывороченным животом и разбитым крупом. По соседству обеспокоенно ходили злые голодные вороны. Видимо, мальчишки помешали им.
– Вы что тут? – вырвалось у нее.
Они не поняли:
– Тетенька, смотрите вот – нашли! Наедимся теперь вдоволь.
Мальчишки довольные, раскрасневшиеся, взбудораженные и деловитые – как маленькие мужики.
– Я ничего, я просто так, – сказала она.
Вспомнилось: в Москве этот год и то был нелегким. Ели мороженую картошку. Промерзший хлеб с отрубями. Картофелин – по три штуки, не больше. Хлеба с гулькин нос. За желудями ходили в особняк Сулимова – это почти рядом с их домом, в соседнем переулке. Особняком Сулимова звали дом небольшой, одноэтажный, где жил когда-то председатель Совнаркома РСФСР. Что стало с председателем, она не знала, и кто жил сейчас в особняке – не знала. Но там был парк – уютный, огороженный каменной стеной, и в нем – деревья, сухие листья, травка. Очень давно, в детстве, бегали они туда за майскими жуками и гусеницами – весной, за желудями и красивыми листьями – осенью. В ту осень ходили только за желудями. Но не всегда поспевали – были и другие, кроме них. Желуди мололи и примешивали к муке: не для хлеба, для похлебки. Ездили в Измайловский парк и вырубали из-под снега крапиву – для супа. Варили кисель из клейстера. С трудом доставали в аптеках по рецептам рыбий жир и жарили на нем… Но это – в Москве. А тут, где прошла война!..
К вечеру снег прекратился. Прояснилось небо. Оно бледно звездило сквозь белесую дымку, когда не работали наши зенитчики и прожектористы. Немецкие самолеты пролетали за вечер трижды, мелкими партиями, и их отгоняли. Один сбили, и он полетел с воем, дымя и вихляясь, куда-то к дальним лесам. Часам к девяти появился даже месяц, месяц не месяц, луна не луна – светящий в тусклом небе полуобрубок, похожий на инвалида войны. Он был так неярок и неясен, что даже не напоминал звездное светило, а скорей – лампочку, зажженную в небе, бледную лампочку в пятнадцать свечей. Но снег под этим месяцем-луной вдруг заблестел, и заискрился, и заиграл тенями и желто-голубыми оттенками. И не только на улицах поселка, а и на крышах изб и домов, на разрушенных и целых, на покосившихся и развороченных. И соломки взъерошенных крыш, и листы вздернутого к небу железа, там, где крыши были железные, и трубы, и поднятые ввысь стропила и бревна – все заиграло снегом в свете, единственном сейчас свете, этого холодного и неяркого месяца-луны. Даже поваленные наземь столбы, перекрученные морозом и взрывами провода и похожие на диковинных куропаток белые изоляторы светились. Светились в бликах вечного света, словно завидуя, а ведь было время, свет шел от них, и от них шли эти вечерние тени и блики, и больше того – шло главное, для жизни, для людей.
Тощая, с облезлыми кострецами кошка вышла откуда-то из-под развалин. Постояла на лунной дорожке, понюхала воздух и деловито направилась влево. Вид у нее был полудикий, и, если бы не знать, что она кошка, ее можно было бы испугаться. Блеснули зеленые глаза, вздрогнули усы, по-звериному оскалился рот. И походка… Походка решительная, как в минуту отчаянного шага, принятого наперекор всему – и здравому смыслу, и своей собственной судьбе.
Справа за поселком началась перестрелка. Сначала ружейная и автоматная, а затем и артиллерийская. После мелкой дроби, гулко раздававшейся в зимнем морозном воздухе, заухали разрывы снарядов. Взметнулось пламя, и задрожало небо. Взвизгивали снаряды, которые, казалось, вот-вот накроют поселок, но удары приходились где-то далеко, и только земля тяжело вздрагивала от них…
Потом все, казалось, чуть стало стихать, но послышался нарастающий тяжелый гул в небе. Он приближался и приближался с западной окраины поселка, нарастая с каждой минутой и словно угнетая землю. Тут земля взвилась в воздухе. Ударили зенитные батареи, и забегали в небе лучи прожекторов. Наверно, это наши били по немецким самолетам.
И вдруг откуда-то слева раздался дикий собачий лай и рев, воронье карканье и кошачье завывание. Дикое, лютое, уже не звериное. Там шла какая-то схватка, и, видимо, не на жизнь, а на смерть. На минуту Варя даже усомнилась: ей послышался детский крик.
Мимо шел красноармеец или командир – она не разобрала, но шел оттуда, откуда раздавались дикораздирающие звуки, и она спросила:
– Что там? Случилось что?
– Из-за лошади дерутся… Собаки, кошки да вороны! Голод не тетка!..
И он зло выругался.
Значит, это там, где мальчишки рубили замерзший труп убитой лошади. Ну конечно, они не все могли забрать, подумала она. И значит, кошка эта, с зелеными глазами, сейчас там…
Младший лейтенант определил Варю на ночлег где-то уже очень поздно:
– Не сердись, замотался совсем! Верно, промерзла?
– Только ведь я правда не хочу в штабе оставаться, – сказала она младшему лейтенанту. – Я хочу туда, в батальон, где все… Учтите!
– Учту, учту, – пообещал младший лейтенант.
В тесной прокуренной и продымленной комнатушке штаба, забитой командирами и солдатами, они ели из котелков гороховый концентрат, потом пили из этих же котелков мутный, но горячий чай. Чтобы согреться!
В просторной избе, стоявшей наискосок от штаба, край которой был разбит немецким снарядом, ее встретили запахи несвежего сена, овчины и каких-то лекарств.
– Да, – сказал он, – я вот листовку прихватил. Наши в полку отпечатали. Посмотри…
Он протянул ей листок, отпечатанный на оберточной бумаге. Она читала:
«Смерть немецко-фашистским оккупантам! Прочти и передай товарищу! В селе Елисеевке бойцы нашего полка нашли мальчика, у которого фашисты вырезали на лбу и на животе, вокруг пупка, пятиконечные звезды. Как удалось установить, мальчик – житель Елисеевки, 6 лет, сказал немецкому офицеру: «Зачем вы сюда пришли? Без вас было хорошо, а стало плохо». Родители мальчика – партизаны. Их расстреляли немцы. Мальчик назвал себя Владимиром Викторовичем Осетровым. Он отправлен в госпиталь. Товарищи красноармейцы, командиры! Вперед, на врага! Отомстим фашистским извергам за их преступления! Отомстим за Владимира Викторовича Осетрова, 6 лет от роду, жителя деревни Елисеевки!»
– Страшно, – сказала она.
– Конечно, страшно!
Они помолчали.
– Тут тебе будет удобно? – спросил младший лейтенант. – Не боишься?
– Нет, не боюсь, идите! Спасибо! – сказала она, с трудом пробираясь по темной комнате.
– А не холодно? – еще спросил он.
В избе было явно не жарко, но в полушубке и сапогах, если не раздеваться, не замерзнешь.
– Нет, что вы! – уверенно возразила она. Тогда она говорила с ним еще на «вы», хотя он давно уже обращался к ней ка «ты», и это ничуть не обижало ее. Он был старше, и, кажется, намного. По крайней мере, ему лет двадцать пять – двадцать шесть, а ей всего лишь – двадцать. Разница огромная!
Ей действительно не было страшно, ни холодно, когда она легла на пол, подобрав под себя слева и справа, спереди и сзади охапки мятого сена.
За окном, наглухо забитым фанерой, что-то шуршало или шелестело. Она не выдержала, поднялась, вышла на крыльцо.
Ветер нес по снежной улице сухие листья дуба. И дуб стоял рядом и шумел сохранившейся сухой листвой.
– Вот оно что, – произнесла она и, зябко ежась, ушла опять в избу.
Легла. Еще раз поправила сено и, кажется, уснула. Снилось сумбурное. Москва довоенных лет и кошка, раздирающая труп лошади. Младший лейтенант, сидящий в клубе Наркомтяжпрома, и шофер их трехтонки, отплясывающий лезгинку. Отец и мать, мирные, довоенные, пьющие чай, и вдруг врывающийся в комнату седой учитель с папкой в руках: «Тут у меня все собрано! Цитирую, граждане хорошие, цитирую…» А потом почему-то немцы – пленные немцы, бредущие по весенней дороге среди цветущих садов. Не те ли это немцы, что были перед войной в клубе Наркомтяжпрома? Они поют песню, знакомую, суровую песню прошлого года:
Не смять богатырскую силу,
Могуч наш заслон боевой.
Мы выроем немцу могилу
В туманных полях под Москвой.
Мы не дрогнем в бою
За столицу свою!
Нам родная Москва дорога.
Нерушимой стеной,
Обороной стальной
Разгромим,
Уничтожим врага!..
Немцы не успели допеть, как вспыхнули ракеты и радио знакомым голосом произнесло: «От Советского информбюро. В последний час. Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Сегодня война окончилась нашей победой. Сам Гитлер со своими сообщниками лично прибыл в Москву, посетил Кремль и доложил товарищу Сталину о полном поражении своей армии и безоговорочной капитуляции…»
– Что за бред! – Она вскочила, ничего не понимая. За окнами глухо гремела артиллерийская канонада. Голова болела, и почему-то подташнивало. Она чиркнула спичкой и сразу же поняла, почему в избе так пахло лекарством. На сене валялись окровавленные черно-бурые бинты, вата, какая-то обертка и банка. Видимо, здесь лежали раненые.
Она встала. Спать больше не хотелось. Вспомнила о младшем лейтенанте – о единственном своем более или менее знакомом здесь человеке. Вышла на крыльцо. Артиллерия била и слева и справа. Какая – наша или немецкая? Наверно, и та и другая. Вспыхивало небо. Зарницами, ракетами, трассирующими очередями, лучами прожекторов.
– Ты что? Испугалась?
Оказывается, младший лейтенант ходил возле избы.
– А вы? – Она удивилась и обрадовалась одновременно.
– Опять на «вы»! – сказал он. – Не спится…
Теперь, ночью, он показался ей коренастым и не таким суровым, а мягким, чуть задумчивым. Он был в шинели – довольно длинной – и в серых валенках. На ушанке его оттопыривалось одно ухо. Она даже усмехнулась про себя, а он, будто поняв ее, снял ушанку и завязал тесемки.
– Лучше бы опустили, – сказала она. – Холодно!
– Замерзла?
– Я – нет!
Они бродили по улицам поселка, поворачивали назад у разбитого колодца, вновь мимо ее избы, потом чуть дальше, до штаба, где стоял часовой, и обратно – мимо избы и до колодца. Раздавались удары артиллерийских батарей, шумел лес, вспыхивало небо. И все же было тихо, очень тихо сейчас в этом поселке. Снег хрустел под ногами, как вафли. Шуршали дубовые листья, взметаемые порывами ветра. Одиноко и блекло мерцали в сохранившихся домах огоньки коптилок.
– А мне сны такие снились, – призналась она, поскольку он молчал. – Бред!
Он вроде обрадовался, оживился:
– Какие?
– Да сущая чепуха! – Она рассмеялась. – Ночной бред!
Он не стал спрашивать, опять замолчал.
– А вы, – наконец спросила она, – давно здесь?
– Где?
– Ну, на войне, – пояснила она.
– С начала. Добромиль, слышала такое место?
– Нет! Хорошее слово Добромиль! Уютное какое-то, ласковое!
– Там было не так уж уютно, – сказал он. – Это почти на самой границе. Перемышль, Самбор, Дрогобыч – слышала?
– Кажется, да.
– В тех, в общем, краях, – не вдаваясь в подробности, сказал он. – И все же тебе лучше остаться здесь, в штабе, – добавил он. – Тут тише.
– Не хочу, – упрямо повторила она.
И опять они шли по улице поселка. Туда – обратно. Обратно – туда. Мимо штаба, мимо ее избы. Мимо могил наших командиров и скелета лошади – всего, что осталось от трупа, который она видела вчера. Затихло небо, и вновь на нем неясно проглядывались звезды и мутные очертания месяца-луны. Замолкла артиллерийская канонада.
– Не замерзла?
– Нет.
– Может, спать хочешь?
– Нет, походим еще чуть-чуть.
Они ходили. Хрустел снег. Неровные, успокоившиеся, лежали на нем загадочные тени. Неровные, как облака, загадочные, как одинокие деревья и развалины.
– А до войны? – спросила она. – До войны где вы жили?
– В Москве, в Бабушкином переулке. Есть такой. Слышала?
Еще бы не слышала! Так, значит, по Москве они почти соседи?
– Выпить что-то хочется! – сказал он. – А ты? Вот только во фляжке у меня пусто. Пойду поищу! А-а?
– Что вы! Я совсем не пью! – ответила она. И добавила: – Если хотите, пожалуйста…
7
Земляной вал. Разгуляй. Между ними как раз Бабушкин переулок. Рядом какой-то институт, кажется химический. А чуть раньше, ближе к Земляному валу, – сад имени Баумана. Она ходила туда несколько раз на танцы и один раз смотрела кино на открытом воздухе – «Остров сокровищ».
И Земляной вал, и Разгуляй – продолжение улиц ее детства – Маросейки – Покровки. Дальше – площадь Баумана и Елоховский собор, где, говорят, по большим церковным праздникам пели знаменитые певцы из Большого театра, и кинотеатр имени Третьего Интернационала (такой же маленький и уютный, как их «Аврора»), где она тоже бывала раз или два.
Бабушкин переулок. И трамвайная остановка называлась – «Бабушкин переулок» или, как говорили кондукторши: «Бабушкин… Следующий Разгуляй».
Там, недалеко от Бабушкина переулка, она получала в райкоме комсомольский билет.
Сороковой год. Она уже работала. И все спрашивали ее: «А ты до сих пор не в комсомоле?» – и она мялась, не знала, что сказать, хотя сама давным-давно мечтала стать комсомолкой. Но туда, в комсомол, как ей казалось, принимали сверхсознательных и сверхидейных, а она не была такой. Она даже газеты читала от случая к случаю. Радио она тоже почти не слушала. Приемника дома у них не было, и она завидовала тем своим подругам, у которых видела радиоприемники; они считались тогда признаком благосостояния. Трансляцию в их дом провели совсем недавно, но черная радиотарелка, висевшая у них на стене рядом с давними фотографиями отца и матери, почему-то не нравилась ей. Вернее, она ее просто не замечала, хотя тарелка говорила и пела все время, пока они не ложились спать. Да и не так уж часто сидела она дома, чтобы слушать радио. Вернется, бывало, с работы – надо маме помочь по хозяйству, или в магазин сбегать, или пойти погулять с подругами – в кино сходить, на танцы или просто по улицам пройтись. Радиотарелку она оценила уже позже, во время войны…
В райкоме комсомола ее спросили совсем не про то, что она ожидала. Она зубрила Устав, кажется, наизусть его вызубрила, перечитывала в газетах обо всех важных событиях за рубежом, вспоминала деятелей Коминтерна и руководителей зарубежных компартий.
– А вот если б нужно было на войну с белофиннами, ты сейчас пошла бы? Готова? На лыжах умеешь?
– На лыжах умею, – сказала она, хотя и засомневалась: «Что значит умею? Кататься умею, а если там в поход идти или в бой…»
– Так насчет войны с белофиннами как? – переспросили ее. – Ведь ты, кажется, значкист ГТО?
– Да, второй ступени.
– А общественные нагрузки есть?
– Я член месткома, член редколлегии стенной газеты!
– Ну ладно! – сказали ей. – А что ты думаешь о германском фашизме?
– У нас же с ними договоренность есть, не нападать, – бодро сказала она. Уж что-что, а это она знала.
– Нет, не об этом речь, а о существе. Твое отношение к германскому фашизму?
– Мое? Мое отношение? – чуть поколебавшись, сказала она. – Плохое. Очень плохое…
Сейчас ей смешно все это вспоминать. Она пришла сюда, на фронт, сама, никто ее не звал и не просил, наоборот, ее отговаривали, но она пришла. Тогда же…

Бабушкин переулок выходил на Ново-Басманную. Как и сад Баумана, он имел выход сразу на две улицы. На Ново-Басманной они выступали в Центральном доме культуры детей железнодорожников. И там же, на Ново-Басманной, в больнице умерла от тифа ее старшая сестра – Нина…
А в тридцать седьмом году она была с отцом в клубе Кухмистерова – это тоже недалеко от Бабушкина переулка, только с другой стороны. Она на всю жизнь запомнила этот вечер – предвыборное собрание избирателей их района. Готовились первые выборы в Верховный Совет. Сама она, конечно, не выбирала, но разве в этом дело. Все девчонки и мальчишки считали, что выборы – их дело. «Наш избирательный округ», говорили они, «наш кандидат», «наш избирательный участок». Вся школа завидовала ей, что она была в клубе Кухмистерова, слушала выступления их кандидатов – академика Комарова и председателя Моссовета Булганина. Учителя ей завидовали, а не только ребята.
Мне сейчас
Одиннадцать лет,
Я очень жалею,
Что не могу выбирать
В Верховный Совет, —
после выступлений кандидатов какая-то маленькая девчушка читала со сцены эти свои стихи о выборах, а потом был концерт, какого она еще никогда не слышала: Лемешев, Алексеев, Качалов, Барсова и Катульская, Рейзен и Смирнов-Сокольский…
Как давно это было! Очень давно! И все-таки кажется, что Бабушкин переулок – это где-то совсем рядом.
Или потому так кажется, что младший лейтенант сейчас стоит рядом? И он напомнил ей…
– Ты не уйдешь? Не уходи, ладно? – попросил он. Сбегал куда-то и вернулся довольный. – Хорошо! Спирт, правда, дрянь, но хорошо!
Она не ушла, дождалась его.
Наверное, им, мужчинам, это нужно – выпить. Отец ее тоже любил иногда выпить и всегда становился после этого веселым и говорливым, без конца целовался с мамой и с ними, дочерьми, а потом начинал вспоминать гражданскую войну и Сталинградский тракторный, но вдруг как-то неожиданно скисал:
– Пойду спать, устал я что-то сегодня!
– Иди, иди! Стареешь ты, отец! – говорила мать. – Четвертинка, и уже – готов!
Отец краснел, возмущался, хорохорился:
– Я старею? Я? Да если хочешь знать, мы в тридцатые годы по литру спирта выпивали! Девяносто шесть градусов! И хоть бы что! Давай сейчас в Стеклянный сбегаю! Вот увидишь, четвертинку еще возьму, выпью и хоть бы хны мне будет! Ты еще меня не знаешь!
– За четвертинкой твоей я сама, если хочешь, схожу, а ты иди, иди – ложись, – советовала мать, дабы не разжигать спора. – Правда, устал! И – полежи чуток, передохни! И что это за наркоматовская работа такая, что все по ночам да по ночам…
– По ночам только и работать, а когда еще? – оправдывался отец, почти засыпая. – Думаешь, Серго по ночам не сидит! Начальники главков? Все сидят…
Она еще постояла с младшим лейтенантом на крыльце, потом сказала:
– Я пойду.
– Спать хочешь? – спросил он.
– Нет.
– Не надо уходить! – попросил он. – Еще минуточку, ладно?
Стало холодно. Подул ветерок, затем ветер, завывая в трубах и развалинах, зашумел сухими листьями дубов, вдалеке по-шакальи завыли собаки.

То ли он выпил, то ли что, но он неловко обхватил ее полушубок, прижал к себе. Она почему-то не отстранилась, а он шептал ей:
– Не бойся, не бойся, – и прижимался мягкими мальчишескими губами к ее лицу. – Ну, что ты! Что! Брось! И не уходи! Еще минуточку, ладно?
Ей было и неловко и хорошо, но она ничего не понимала в эту минуту и не знала, что делать, что говорить.
А он целовал ее – еще и еще, и вдруг она вспыхнула, оттолкнула его от себя.
– Это же нехорошо, нехорошо! Я не знаю даже, как зовут вас, а вы!..
Он тоже, кажется, смутился и робко, совсем по-детски признался:
– Меня Славой зовут. Вячеславом, значит. Разве я тебе не сказал?
Она уже захлопнула дверь, когда услышала его обиженное:
– Зачем ты так? Я же…
Уснуть она никак не могла. Присела на мятое сено и так просидела почти до утра.
А когда утром вышла на крыльцо, поняла, что, видимо, все же спала. На снегу виднелись свежие воронки. Оказалось, под утро был артналет на поселок. И есть даже жертвы. А она так ничего и не слышала.
– Черт-те кто разберет эту обстановку! – Слава встретил ее первым. – Но ведь сейчас же не сорок первый! А толку никакого. Ох уж эти фрицы!








