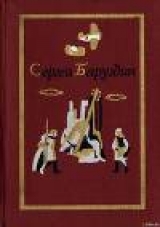
Текст книги "Роман и повести"
Автор книги: Сергей Баруздин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Машина долго тряслась по неровной, разбитой дороге, подскакивая и вихляя на каждом метре, пока не выскочила к какой-то деревушке. Там путь стал поприличнее – видимо, дорогу ровнял грейдер.
Ранняя луна светила над нами. По дороге теперь то и дело сновали машины. В воздухе висели клочки облаков, а между ними мигали звезды. И летел снежок – малый, мелкий, блестевший в притушенных фарах машин, свете луны и звезд. Шофер прибавил скорость, и на поворотах нас стало заносить – колеса скользили по подмерзшим лужам и мокрому снегу. Вокруг стояла тишина. И небо, и луна, и снег, блестевший в ее холодном свете, и поля, еле видимые вокруг, – все это почему-то убаюкивало.
А я думал о предстоящей встрече и о нашем разговоре. Я представлял себе все до мельчайших подробностей: как спрошу о ней в политотделе, где наверняка есть дежурный, а потом разыщу ее и мы пойдем куда-нибудь, где меньше людей. Я поздравлю ее с Новым годом и скажу, что все равно люблю ее, несмотря ни на что. И что буду любить всегда. А еще – что мне тоже очень жаль капитана Смирнова, которого я знал просто как Геннадия Васильевича. Впрочем, это я уже говорил ей, тогда, в Лежайске. И она сказала: «Не надо о нем сейчас… Не надо…» Может быть, зря я тогда спросил о нем: кем он был в армии и давно ли? Ей тяжело было говорить. Она не заплакала, как не плакала даже на похоронах, сказала: «С сорок первого, с декабря. Он был очень смелым разведчиком…» – осеклась.
Нет, конечно, я не буду сегодня говорить о нем. Просто повидаю, поздравлю, а потом зайду в штаб и передам записку комбата капитану Говорову. Или лучше сначала передам, а потом уже разыщу ее? Пожалуй, лучше так.
Солдаты, ехавшие со мной в кузове, молчали. Я уже не раз замечал, что на фронте, да и вообще в армии, старички не очень разговорчивы. И сам я, встречаясь с пожилыми солдатами, не раз ловил себя на мысли: «А не слишком ли много я болтаю?» Мне хотелось быть старше. Это давнее, со школьных лет, желание не проходило и теперь. И сейчас в машине я обрадовался, когда один из солдат спросил меня:
– Как, из госпиталя или на пополнение?
Хорошо, что я заговорил не первым.
– Нет, по делам еду, вот с запиской комбата, – серьезно сказал я.
– А-а! Небось с Новым годом поздравление везешь, – понимающе согласился солдат и опять, как мне показалось, задремал.
Меня тоже начало клонить к дреме – в последние ночи мы спали не больше двух-трех часов. Кажется, я и впрямь чуть-чуть задремал, приткнувшись к мешкам с приятно пахнущим табаком и сухим картофелем.
…Когда я очнулся и приоткрыл глаза, я ничего не понял. Я лежал на полу рядом с одним из солдат-попутчиков, а впереди нас хлопотали люди, покрытые белыми простынями. Или это врачи в халатах? Где мы? Неужели меня все же загнали в госпиталь из-за этой дурацкой царапины на спине? В голове страшно шумело, перед глазами плыли холодные лунные круги. Левая нога, перевязанная выше колена чем-то больно-тугим, была откинута с носилок чуть в сторону. Значит, я лежу на носилках? Опять левая? Сейчас придет Гурий Михайлович и сестра Вера… Вера… Вера… Как же ее зовут? Все звали ее Верочкой… И только я по отчеству… Неужели мы стали взрослыми? Такими, как она, как Гурий Михайлович, как эти солдаты в кузове машины, что сразу поняли, куда и с чем я еду. Еще вчера, и позавчера, и чуть раньше, в Доме пионеров, я считал себя страшно взрослым… Считал… А был мальчишкой… А сейчас… И Саша, и Шукурбек, и Витя Петров, и я – все, все, все стали взрослыми… Жалко, что это так… Жалко, что не вернется детство… И мать не подойдет сейчас ко мне… И отец… А мне почему-то очень тоскливо и страшно сейчас…
Я попытался повернуть голову в сторону соседа и почувствовал, что из ушей у меня течет что-то горячее и густое…
– Ничего, браток. Главное, живы. А садануло здорово – ни шофера, ни попутчика нашего и до санбата не донесли, – услышал я глухой голос с соседних носилок и опять куда-то провалился с мыслью, что все это – глупый сон.
А потом меня хоронили. И не во сне это было, а наяву. Я видел, как Саша, Шукурбек, Макака, Володя копали мне могилу – они выбрасывали из ямы сухой, почти солнечного цвета песок и вытирали потные лбы. И Володя говорил:
«Поднажмем, ребятки!»
Катонин, Буньков и Соколов, сняв зимние шапки, шли за машиной, на которой лежал я, а оркестр исполнял грустную песню, но это был не траурный марш Шопена, а что-то другое. И вдруг я узнал мелодию, узнал по словам, хотя их никто не пел:
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге…
Но сейчас оркестр исполнял мелодию этой песни медленно, и ему аккомпанировал огромный орган, похожий на здание костела.
А Наташа шла рядом, положив руку на мой горячий лоб. Рука ее была холодна, и мне было приятно, что она холодна и что воздух пахнет свежей хвоей, как в Лежайске и как накануне Нового года, когда с трудом купленная елка уже стоит в комнате и ее пора украшать игрушками.
Потом я проваливаюсь куда-то. Или я просто засыпаю, или это бред.
«Жаль, что папа не дожил до этого дня», – говорит мать.
Откуда мать? И почему не дожил? И до какого дня? Мы рядом в холодном сыром окопе, и я пытаюсь крикнуть матери, что отец жив. Жив! Это меня уже нет! Меня хоронят друзья и Наташа. Она теперь всегда будет помнить обо мне и будет мучиться оттого, что не сказала мне при жизни, что любит меня. Нет, пусть она не мучается, не страдает. Теперь она все равно знает, как я любил ее…
Вдруг звуки органа стихают. И оркестр молчит. На площади появляются немцы. Их много. Они рвутся ко мне, Саша преграждает им путь, протирает очки и шепчет:
«По-моему, это… Я все хочу тебя спросить, как ты считаешь, это – немцы? И в них можно стрелять?»
Я понимаю, что это немцы, но лейтенант Соколов выхватывает у меня карабин:
«Не стрелять! Не стрелять! Это пленные! В пленных не стрелять!»
«А по-моему, глупо, ребятки, не стрелять в такую сволочь», – шепчет Володя.
Володя сейчас страшен. Но он улыбается, даже хлопает меня по плечу:
«Учти, браток, что Соколову доверять нельзя. Надо еще присмотреться к нему как следует. Это не только я тебе говорю, учти! Сам комдив так думает. Вот оно что!»
Я не выдерживаю:
«Ты сволочь, Володя! Я бы за Соколова…»
А Наташа все держит свою холодную руку на моей голове.
«Зря, – говорит она, – ваш лейтенант их пожалел. Ведь они убили тебя, мерзавцы. Убили! Понимаешь?»
«Понимаю, – шепчу я, – ты очень хорошая. Я все понимаю!»
Лейтенант Соколов – мрачный – подходит ко мне, но обращается почему-то к Наташе:
«Простите, товарищ младший лейтенант!»
Потом он говорит мне:
«А в санбат ты так и не поехал».
«А вы? Как ваше ухо, товарищ лейтенант?»
Соколов не успевает ответить. Буньков уже тут:
«Брось, Миша. Других учишь, а сам!..»
Я иду по перекатам,
Впереди дороги нет.
Под ногами рыхлой ватой
Устилает землю снег.
Синий лес темнеет глыбой,
Не увидишь огонька.
В темном небе, словно рыбы.
Проплывают облака.
В поле ветер воет строго,
Все красиво, как во сне.
Только холодно немного.
И немного страшно мне…
Почему я бормочу стихи? И откуда сейчас Дом пионеров? Как я попал с фронта в детство?
«Вы неправы, дети, – говорит Вера Ивановна. – Это вовсе не меланхоличные стихи. А потом, у него есть и другие… Правильно, товарищ Соколов?»
«Людям надо доверять, – говорит комвзвода, лохматя голову. – Всем… И не только детям…»
И вновь грянул оркестр, только уже без органа. И звучал сейчас не гимн, а «Интернационал»…
ГОД 1945-й
– Ну как ты? Как? С Новым годом!
Вот мы и встретились.
Я знал, что это будет. Она приедет ко мне. Мы будем разговаривать с ней так, как сейчас, и смотреть друг на друга. Знал? Нет, я не знал. Мне просто хотелось, чтобы было так.
Сейчас я смотрю на нее – какая она взрослая! И приехала сюда, в медсанбат, сама и сидит рядом с моими нарами.
– Ты зря спешишь. Врач говорит: надо полежать.
Значит, она и с врачом успела поговорить. Мне приятно узнать об этом. Но я ничего ей не скажу сейчас. Понимаю и чувствую, что ничего не скажу. Она знает все сама, должна знать.
– А я ведь к тебе ехал тогда, – говорю я.
Я помнил только это. И говорил ей про записку к капитану Говорову, которую дал мне наш комбат, и про то, как голосовал на дороге, чтобы попасть в «хозяйство Семенова», и как мы ехали в кузове трехтонки. Больше я ничего не помнил.
– Значит, ты из-за меня… Видишь, какая я невезучая…
Она нахмурилась, посмотрела на свои маленькие, вымазанные в дорожной грязи сапожки, и только тут я понял, как она устала. Лицо бледное, под глазами синяки, и сами глаза почти не светят. А прежде… Прежде меня всегда поражали ее глаза – большие, блестящие, словно специально созданные для человеческой радости.
Есть всякие лица – красивые и некрасивые, броские и невзрачные, но я никогда бы не смог сказать, какое у нее лицо. У нее глаза, а потом – лицо.
И вот сейчас эти глаза потускнели.
– Ты просто устала, – сказал я.
– Нет, я действительно страшно невезучая.
Откуда это у нее?
Я начинаю что-то говорить, чтобы развеять ее мрачное настроение, доказываю и только потом вспоминаю:
– Это ты о Геннадии Василиче?
Она молчит. Я уже ругаю себя, зачем опять вспомнил о нем. Ведь не хотел, а сорвалось с языка.
– Нет, не только о нем, – наконец произнесла она. – А может, я просто устала. Очень много работы сейчас.
Больше она ни о чем не говорила, а спрашивала, спрашивала, спрашивала меня.
Мы вспоминали Москву, и, кажется, она немного отвлеклась. И в самом деле, как далеко сейчас отсюда Москва.
– А помнишь: птица… и все так красиво вокруг – все светится, и люди радостные, счастливые… и одеты красиво, и все улыбаются… и ты идешь к ним?..
Это я напомнил ей.
– Помню, – оживилась она. – Я и сейчас иногда вижу во сне это, только когда работы поменьше. А так валишься как убитая…
– А купаться мы так и не съездили. Помнишь?
– Скорее в Берлине будем, чем в Москве! – Она опять улыбнулась. И добавила с грустью: – А вообще очень хочется тепла…
– А когда начнется?
И в прошлые ночи, и в эти дни я слышал за стенами нашего медсанбата грохот идущей техники. Такое бывает, видимо, только перед большим наступлением.
– На днях, – сказала она. – Точно не знаю, но готовится… Такого еще не было.
Нет, я, конечно, правильно поступил, что отказался ехать в госпиталь. Нога уже совсем не болела, а осколки… в конце концов они маленькие и попали удачно – в мякоть. На спине все зарубцовывается – сами врачи говорят. Жить можно. И контузия почти прошла за эту неделю: головных болей не было, в ушах не шумело и зрение не нарушилось. Вчера проверяли.
Завтра же буду добиваться выписки.
Завтра! А сегодня, как только Наташа уехала, я взял бумагу, карандаш и стал писать ей. Обо всем, что хотел сказать и не сказал. Обо всем, о чем думал сегодня, и год назад, и два, и три… Пусть она знает! Она должна знать!.. И – разорвал письмо. Оно было глупым, наивным… Я не мог написать и послать такого ей.
Зима не зима, а земля мерзлая. Насквозь мерзлая. Видно, от обилия влаги.
Землю ругали по-всякому – и вкривь и вкось. И еще – лопаты. Более внушительного орудия производства – ломов – у нас не было. Землю долбили все. Звукачи и фотографы, которым мы привязывали посты. И мы тоже, закончив основную работу, долбили – сооружали землянку для комдива. В последние дни немцы вели себя неспокойно. Уже было прямое попадание в штабную машину, – к счастью, без жертв. Миной разбило кузов фотолаборатории. Даже кухне досталось – котел изрешетило осколками во время налета вражеской авиации.
Мы работали на окраине Гуры – небольшой, в пятьдесят пять домов, захолустной деревушке. Работали, чертыхались, опять работали до двух тридцати ночи. Уложили второй накат бревен, и Володя успел даже похвалиться:
– А что, ребятки! В самый раз получилось!
Получилось на деле в самый раз.
На рассвете, когда землянка была окончательно готова, появились «юнкерсы». Три штуки. И хотя по соседству с нами не было ни одной стоящей цели – огневой батареи или танковой колонны, – «юнкерсы» решили разгрузиться.
– Ничего не скажешь, отгрохали себе гробик, – пошутил Володя, когда мы кучно забились в темную, только что отстроенную землянку.
– Брось, остряк! – зло перебил его Соколов.
Один из самолетов уже пикировал. Мы слышали его отвратительный, все приближающийся вой, потом удар и еще один – не рядом, не рядом! – и то, как самолет с ревом выходил из пике, будто удовлетворенный выполненной миссией.
– А ну дай автомат!
Комвзвода в темноте схватил меня за плечо и стал снимать автомат.
Оказавшись на фронте, многие из нас раздобыли себе немецкие автоматы. После непредвиденного боя под деревней Подлесье вооружился автоматом и я. Это была незаконная вольность, как и то, что карабины свои мы держали в машинах и где-то в душе все время ждали: попадет нам. Но ни Соколов, ни Буньков, ни другие офицеры, включая самого комдива майора Катонина, не проронили ни слова в наш адрес, хотя вряд ли они не заметили нашего перевооружения. И вот сейчас Соколов выхватил у меня автомат и вышел из землянки.
– Достукались, – произнес молчаливый Макака, но никто не успел прокомментировать его слова. Вновь отвратительный приближающийся вой и затем удар – и снова удар – заглушили всё, даже мысли. Землянку тряхнуло так, словно это был корабль, попавший на высокую волну.
Макака почему-то оказался в моих ногах, Саша махнул рукой так, что с меня слетела шапка, и я тоже опустился на корточки, пытаясь найти ее. Все копошились в темноте землянки, и только голос Шукурбека вдруг остановил нас:
– А лейтенант-то там! Он же вышел, я видел сам, как он вышел! Как же?
Шукурбек первым выскочил из землянки. За ним Саша, я и еще кто-то – только потом мы увидели всех ребят. А сначала – Соколова, и хвост уходившего «юнкерса», и третий «юнкерс», входящий в пике метрах в пятидесяти от нас. Соколов прицелился как раз в него и выжидал приближения воющего самолета. И вдруг – очередь! Он дал автоматную очередь по «юнкерсу» как раз в ту минуту, когда от самолета оторвалась первая бомба.
– Ложись! – дико закричал Соколов, когда мы уже лежали, прижавшись к земле и ничего не видя.
Бомба ударила где-то совсем рядом. За ней вторая.
Мы еще не оторвали голов от земли, когда услышали крик лейтенанта: «Горит! Смотрите! Горит!» – и одновременно рев удаляющегося самолета…
«Юнкерс» врезался в землю около дороги, где маячил крест с изображением Иисуса Христа. Пока мы бежали туда, ударил взрыв, и уже не было ни креста, ни самолета в его нормальном виде, а только дымящиеся обломки…
В пять утра мы проснулись от дикого грохота и, полусонные, прильнули к окнам. Казалось, началось землетрясение. Повсюду – вспышки выстрелов, огненные стрелы «катюш», гул тяжелых бомбардировщиков.
– Наступление? Артподготовка?
– Пока разведка боем, – сказал лейтенант Соколов, прикрывая бурое пятно на перевязанной голове. – Артподготовка начнется позже.
– Ничего себе разведка! Если это разведка, то какая же будет артподготовка!
Соколов как бы между прочим порадовал:
– Звукачи и оптики засекли на наших координатах много целей. Комбат просил поздравить вас.
Разведка боем продолжалась около часу, а в десять утра началось настоящее светопреставление. Вслед за морем огня «катюш» ударила артиллерия большой мощности, а затем и всех калибров. Дрожали стекла домов. Дрожали накаты землянок. Деревья, будто в испуге, сбрасывали снег с веток. Гудела земля. Потом огневики перенесли огонь в глубину обороны противника. К полудню на передовую двинулись танки. Все дороги пришли в движение. Зашевелились армейские тылы. Лишь мы, кажется, были сейчас забыты: ни приказа «вперед», никаких других распоряжений.
Вскоре в нашу деревню стали поступать первые раненые.
– Ну что там? Как? – Мы бросились к ним.
– Дела ничего… Наши пошли вперед…
А танки всё ревели и ревели. На башнях наименования танковых колонн и надписи: «От орловских колхозников», «Богодуховец», «Освободитель Проскурова», «Уральский рабочий», «Сибиряки – фронту»…
Мы понимали: началось что-то грандиозное, то, чего все ждали, к чему готовились, ради чего мы каждый день выходили на работу. Но никто из нас точно не знал в эту минуту, что же именно началось. Наступление на нашем участке фронта – на Сандомирском плацдарме? Или наступление всего 1-го Украинского фронта? А может быть, и всех фронтов?
Примчался Буньков – веселый, шумный, раскрасневшийся.
– Вечером будет митинг. Приведите себя в порядок. А пока, за неимением других дел, принимайте пленных. Сейчас первые партии прибудут. Тебе, Миша, поручение от комдива, – добавил он лейтенанту Соколову, – только смотри не шали!
Соколов, кажется, не обрадовался:
– Получше кандидатуры не нашли?
Они договорились о порядке транспортировки пленных. До соседней деревни, где находился наш штаб, сопровождать пленных будем мы. Дальше – хозвзвод и фотовзвод.
Первая партия прибыла в таком состоянии, что потребовалось вмешательство врачей. Пленных было четверо – оглохших от артиллерийской подготовки, окровавленных – из ушей и носов сочилась кровь, помятых и безразличных.
Саша попытался объясниться с ними на немецком языке. Ему приходилось не только с трудом подбирать слова, но и кричать, чтобы немцы услышали.
Один из них, видимо сообразительный, радостно закивал головой и повторил несколько раз понятное нам:
– Гитлер капут! Сталин – гут!
Другие немцы что-то проговорили, но я их не понял.
– Что они? – спросил я Сашу.
Странное дело: сколько лет мы долбили в школе немецкий язык, у меня даже были приличные оценки по этому предмету: я знал назубок артикли, мог прочитать с детства зазубренное стихотворение («Айн меннляйн штеет им вальде, ганц штиль унд штум…»), но я не умел произнести самой элементарной немецкой фразы, не говоря уже о более существенном – понять немца, если он объяснялся более серьезно, чем «Гитлер капут!». И не только школа – Эмилия Генриховна со своим идеальным немецким не помогла.
– Они говорят, что это ужасно, это страшно – то, что пережили сегодня, – объяснил мне Саша.
Узнал Саша и другое: что среди четырех пленных был один прибалт и один австриец.
Первую группу Саша повел один, хотя Макака предложил, правда робко, свою помощь:
– Давай вместе?
Видимо, ему не хотелось вести немцев одному.
Во второй партии немцев оказалось больше – семь человек. Тут же подоспела третья группа – шестеро. Объясняться было некогда. Двух раненых наскоро перевязали, и мы с Макакой повели их в штаб.
Макака и я, когда мы оказываемся рядом, похожи на Паташона и Пата. Рядом с пленными немцами Макака не выглядел Геркулесом. С карабином наперевес он суетливо бегал то в хвосте, то впереди пленных. Некоторые немцы прихрамывали, двое были без обуви, со стертыми в кровь босыми ногами, один только в портянках. Я шел сбоку колонны.
Пленные вели себя понуро-дисциплинированно. Сами старались не отставать и торопили отставших. До штаба нам предстояло пройти около трех километров – дорога не дальняя. Плохо только, что путь наш лежал по скользкой тропке с бесконечными подъемами и спусками. Мы шли медленно. А я еще, как назло, немножко прихрамывал.
Возле небольшой чахлой рощицы тропка сворачивала круто вправо, и тут мы чуть задержались. Один немец поскользнулся, зацепив ногой о корягу, второй присел, чтобы поправить мокрые, грязные портянки – единственную свою обувку.
Пока мы ждали, Макака подошел ко мне:
– А глупо все же, что мы даже языка не знаем. Интересно бы поговорить с ними. Правда?
В это время из рощицы вышел наш офицер. Звания его мы не могли определить – он был в телогрейке, но по шапке, гимнастерке и галифе безошибочно узнали: офицер.
– Кто такие? Куда идете? – спросил он нас довольно резко, поигрывая пистолетом.
Мы ответили.
– Я сам доставлю их в штаб, а вы возвращайтесь за следующей группой! – приказал он тоном, не терпящим возражений.
Я явно опешил и посмотрел на растерявшегося Витю.
– Мы не можем, – сказал я не очень уверенно. – Мы их в наш штаб должны доставить, а вы…
Офицер перебил:
– Разговорчики! Выполняйте, что приказано! Иначе расстреляю, как собак…
Немцы стояли, обескураженные не меньше нас. И тут случилось неожиданное – офицер в упор выстрелил в Макаку, крикнул по-немецки:
– Лауфен, эзель![3]3
Бегите, ослы! (нем.)
[Закрыть]
Я не сообразил, что произошло, и не понял его слов, и того, почему он кричит по-немецки, а только отскочил в сторону и выстрелил дважды в воздух. Наши пленные продолжали растерянно топтаться на месте, никто из них даже не попытался убежать. Офицер, наоборот, отбежал к опушке рощи и, присев за деревом, целился уже в меня. Пуля свистнула рядом. И в ту же минуту один из немцев бросился к офицеру с криком: «Герр оффициер!» – и упал как подкошенный рядом с Витей. Макака, видимо, был ранен, но я не мог даже подойти к нему. Выстрелив еще раз по дереву, я понял, что офицера там уже нет. Я бросил гранату. Бросил наобум – между деревьями, и тут услышал крик. Уже не думая о немцах (Идиот! А ведь они могли бы меня взять голыми руками!), я бросился в рощицу. Офицер с залитым кровью лицом катался по земле, дико крича. Осколок попал ему не то в глаз, не то в щеку.
Когда я оглянулся, вспомнив о раненом Макаке, возле него хлопотали два немца. Они помогли ему приподняться с земли. Другие стояли на тропке.
– Ну что с тобой, Макака? Что? – Я стянул с него шинель.
– Ничего, – пробормотал Витя, прижимая бок. – Задело неглубоко, кажется. Ты пистолет, пистолет у него возьми!..
Офицер уже не кричал, когда я вернулся к нему, и не катался по земле. Он стонал и только тяжело дышал, прикрыв руками окровавленное лицо. Пистолет валялся рядом. Я поднял пистолет, боясь задеть курок. Ведь это был первый в жизни пистолет, который я брал в руки.
Что же делать теперь? Витя ранен. Один из пленных убит. Двенадцать топчутся тут же. И еще этот офицер. Кто он? Переодетый фриц? Разведчик или бандеровец? Он жив, и, пока жив, его надо доставить в штаб.
До штаба теперь было ближе, чем до нашего взвода.
Макака с трудом поднялся:
– Пойдем!
– Куда же в таком виде?
– Пойдем, пойдем! – прошептал он, совершенно бледный и с посиневшими губами. – Я могу.
Не успели мы растолковать пленным, что кому делать: одним взять убитого немца, другим – лежавшего в рощице раненого офицера, третьим помочь идти Вите, – как, на наше счастье, появился Саша. Он возвращался уже из штаба.
– Неужели и ты вел их этой дорогой? – спросил я, рассказав ему о случившемся.
– Этой. И ничего.
– Повезло нам, что еще немцы такие оказались – тихие, – прошептал Макака. – Он им по-немецки крикнул, наверно, чтоб бежали, а они ни с места…
Саша спросил о чем-то одного из немцев, и тот возбужденно закивал головой:
– Лауфен, эзель! Лауфен, эзель!
– «Бегите, ослы!» он им крикнул, – перевел Саша. – Ясно, это бандеровец или власовец.
Через полчаса мы с трудом добрались до штаба. Сдали пленных. Проводили в медсанбат нашего Макаку.
На раненого офицера пришел посмотреть сам майор Катонин.
– Разберемся. А теперь садитесь в мой «газик» и катите к себе. И скажите лейтенанту Соколову, чтоб к семи часам быть всем здесь на митинге.
Вечером мы вернулись к штабу. На деревенской улице выстроился весь дивизион – со знаменем. Не было среди нас командира фотовзвода младшего лейтенанта Фекличева. Он погиб под огнем своих минометов. Не было Макаки, отправленного в госпиталь. Не было…
– Сегодня началось одно из самых решающих наступлений нашего фронта, – говорил майор. – Командир корпуса просил меня объявить всем вам, бойцам, сержантам, старшинам и офицерам, благодарность за отличную подготовку этого наступления!
– Служим Советскому Союзу! – хором ответили мы.
Не помню, сколько времени мы не слышали радио.
И вдруг – передача. Из Москвы. И какая! Имеет прямое отношение к нам.
«От Советского информбюро, – услышали мы давно не слышанный голос Левитана. – Оперативная сводка за 13 января. Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление западнее Сандомира, несмотря на плохие условия погоды, исключающие боевую поддержку авиации, прорвали сильно укрепленную оборону противника на фронте протяжением сорок километров. Решающее значение в прорыве обороны противника имело мощное и хорошо организованное артиллерийское наступление. В течение двух дней наступательных боев войска фронта продвинулись вперед до сорока километров, расширив при этом прорыв до шестидесяти километров по фронту. В ходе наступления наши войска штурмом овладели сильными опорными пунктами обороны противника Шидлув, Стопница, Хмельник, Буско-Здруй (Буск), Висьлица, а также с боями заняли более трехсот пятидесяти других населенных пунктов…»
Потом Левитан читал приказ Верховного Главнокомандующего. В нем упоминались имена командира нашего корпуса и командиров дивизий, входивших в корпус, многих дивизий, и знакомой мне – Наташиной.
«Сегодня, 13 января, – услышали мы, – в 21 час 30 минут столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев, – двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий…»
Мы не слышали залпов этого салюта. Не знали мы и о том, что 14 января перешли в наступление войска 1-го и 2-го, а за ними и 3-го Белорусского фронтов.
Война оказалась совсем не такой, как мы ее представляли. Она была теперь, правда, и не такой, как прежде. Я помнил войну по нескольким часам, проведенным под Москвой в сорок первом. Я знал о ней по рассказам тех, кто начал свой путь по дорогам войны с двадцать второго июня. Я слышал о ней от Наташи, которая провела на фронте не несколько недель, как мы, а три года. Сейчас война была победной и в этом смысле радостной. Перевес в силе и технике был настолько явным, что каждый понимал: дело идет к развязке. И лозунг «Дойдем до Берлина» не воспринимался как желаемое, отвлеченное понятие. Он имел практически близкий, реальный смысл.
И все же война это война. Наши представления о ней, как о поле нескончаемого геройства и славы, казались сейчас такими же далекими, как Гороховецкие лагеря.
Мы плелись в хвосте наших войск. По дорогам с разбитой немецкой техникой на обочинах. По полям с развороченными окопами и землянками. Мимо железнодорожных станций с обугленными эшелонами. Мимо совсем свежих братских могил. Плелись – не совсем точное слово: мы совершали рывки в несколько десятков километров и вскоре были уже во взятом до нас Кракове. И все же мы плелись, ибо работы у нас не было, кроме главной задачи – не отстать от корпуса, которому мы приданы.
Краков трепетал флагами: красными – советскими, бело-красными – польскими и белыми простынями, спущенными из многих окон. Это цивильные немцы, не успевшие удрать на запад, заявляли о своей лояльности. А меня Краков встретил и еще одним приятным – на нескольких домах и перекрестках улиц я увидел указатели: «Хозяйство Семенова».
Наш дивизион остановился на окраине города.
Надолго?
Старший лейтенант Буньков пообещал:
– Подождите! Сейчас выясню.
Вскоре он вернулся:
– Разгружайтесь. Будем ночевать. Нам отведен вон тот дом.
Я с ходу попал на пост. Значит, придется ждать вечера.
Пока я дежурил, по улицам Кракова шли машины с орудиями, и самоходки, и танки, и грузовики с пехотой. Тянулись жители, возвращающиеся домой, – на лошадях и просто так, пешком, с ручными тележками, с мешками и сумками. Некоторые из них были веселы, взбудораженны, радостно приветствовали каждого нашего солдата и офицера. Другие шли угрюмые, безразличные ко всему. Тащили на себе ребят – маленьких и больных, закутанных в тряпье, иногда забинтованных. Худая, с детским лицом женщина везла на тележке детский гробик. Как раз возле меня она остановилась, судорожно приоткрыла крышку гробика, посмотрела и опять пошла дальше, будто успокоенная – с просветленным лицом. Может быть, она хотела похоронить ребенка в родных местах…
После дежурства я побежал разыскивать Наташу. На одной из площадей, возле братских могил погибших в боях за город, играли дети, и толковали о чем-то монашки в непривычных нашему глазу черно-белых одеждах, и рядом с ними седой старик без шапки бормотал слова молитвы, часто повторяя: «Матка боска».
Мне показали дом, где жили девушки из политотдела дивизии, но предупредили:
– Если она не уехала… Мы свертываемся.
Я заспешил. Дверь открыл старик лет пятидесяти и сразу пропустил в комнату, сказав на приличном русском языке:
– Здравствуйте! Да, да, они у нас были! Очень милые барышни… Иван, дай-ка стул господину красноармейцу.
Из соседней комнаты появился забитого вида парень и молча подставил мне стул.
Я переспросил:
– Давно ли уехали?
– Час, пожалуй, – сказал хозяин. – Да вы садитесь, садитесь! Может, откушаете и рюмочку хотите?
– Нет, нет. А это кто? – поинтересовался я, показав на стоявшего в ожидании парня.
– О! Это мой работник. Очень милый юноша! – воскликнул хозяин. – Что ж ты не поздоровался, Иван, с господином красноармейцем?
Иван как-то неестественно поклонился и произнес:
– Дзень добра!
Не успел я удивиться, как вбежал Володя:
– А я тебя ищу всюду! Команда «по машинам» была! Бежим!
Дорога, дорога, дорога. Отличный асфальт. Дорога бежит среди полей и парковых лесов, мимо старинных замков и современных вилл, богатых фруктовых садов и обычных деревень. Деревни, как правило, прячутся в стороне от дороги, но мы их видим. Им трудно спрятаться сейчас, когда голы ветви деревьев, когда нет зелени да и снег – разве это снег? – ничего не может сделать. Снега мало. Он дотаивает в ложбинках и канавах, он доживает свои часы и минуты в тени под мостами, прячется под стволами деревьев.
А деревни бедные, даже если смотреть на них мельком с дороги. Деревни живут. Дымят трубы. Мелькают одинокие человеческие фигурки. Изредка мычат коровы…
Все, что ближе к дороге, замерло. Замерли особняки и виллы. Замерли сады и парки. Замерли теннисные корты и волейбольные площадки. Красивые, как на картинке, они похожи на нарисованные. Даже красно-белые флаги, вывешенные для порядка, что ль, на некоторых богатых домах, не колышутся. Безветренно и туманно. Туманная дымка висит над дорогой.
Дорога пустынна. Наш дивизион катит без остановки. Впереди – «газик» Катонина, за ним – крытые машины штаба, звукачей, топографов, фотографов, грузовики хозвзвода. Побитые машины успели отремонтировать. Шуршат скаты по мокрому ровному асфальту. Тарахтят моторы. Краков позади. Уже час пути, и другой. Начался, кажется, третий.
…Наша машина шла пятой. И вдруг – резко затормозила. Заскрипели тормоза у шедших впереди машин. Непонятные крики. Разрывы. Кажется, мины.
– Занимай оборону!
Это голос комвзвода Соколова.
Мы вывалились из машины и бросились под откос возле бетонного моста.
По другую сторону от нас лесок и труба завода. Стреляли оттуда.
– Шестиствольный. И не один, – сказал Соколов. – Сейчас соображу… Три штуки.








