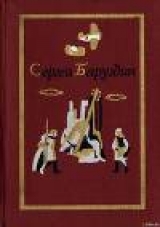
Текст книги "Роман и повести"
Автор книги: Сергей Баруздин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Володя скрылся в доме вместе с ними.
Наконец появился.
– Сколько тебя ждать?
– Да что вы, ребятки! Дайте с девочками поговорить!
Они вернулись, когда мы уже ужинали.
– Вот это да! – первым воскликнул Володя. – Садитесь, девочки. Только электричества нет, а так – полный комфорт! Со свечами даже уютнее!
Они и в самом деле были неузнаваемы. Даже немка.
Тоненькая, еще девочка, она выглядела нарядно и смущалась.
– Их данке инен![5]5
Я благодарю вас! (нем.)
[Закрыть] – прошептала она, когда Заикин подставил ей стул.
Вошедшие представились:
– Люся.
– Клава.
– А вас как зовут? – спросил я свою соседку – светловолосую, голубоглазую женщину лет под тридцать, когда мы сели за стол.
– Валя, – ответила она.
– А по отчеству?
– Зачем по отчеству? Просто Валя, Валентина…
– Так давайте, – перебил наш разговор сидевший рядом младший лейтенант Заикин, – поднимем эти стаканы и осушим их разом за вас и ваших подруг, за то, что вы благополучно вырвались… И… – Заикин на минуту запнулся, взглянул на Хильду. – И за вас, девушка. Мы хотя, так сказать, и противники в настоящее время, но будем надеяться, что вы, как молодое поколение, вернее – как представительница этого поколения, не пойдете по стопам…
– Простите, – шепнула мне Валентина, – я переведу Хильде…
И она стала шепотом переводить немке слова Заикина.
– Итак, за вас, – повторил младший лейтенант.
Сев, Заикин пробовал что-то узнать у Хильды, с трудом подбирая немецкие слова.
Но она махала головой:
– Их ферштее нихт!
– Я спрашиваю, что она будет делать, куда пойдет. – Заикин обратился через стол к Клаве.
– Она говорит, что будет работать, много работать, чтобы искупить грех своей Германии, – сказала Клава. – Может, в госпиталь ее пристроить по пути или в пекарню, в прачечную? Она говорит, что хочет работать только на русских солдат, пока идет война. В Бреслау она не хочет возвращаться…
За столом стало шумно.
– Валька у нас красавица. Не то что мы, – говорила Володе сидевшая рядом с ним Люся. – Ей даже сажей мазаться, безобразить себя приходилось, когда мы прятались. Ну, чтоб немцам не бросаться в глаза.
Она о чем-то задумалась, глядя на Валю, и лицо ее – обычное, чуть курносое, широкоскулое и не броское русское лицо – стало сосредоточенным.
– Да ты ешь, ешь, подкрепляйся. – Володя подсовывал Люсе то масло, то галеты, то колбасу, то разогретые консервы.
– А глядишь, и лучше, что мы с Клашей такими уродились, – продолжала она, не слушая Володю и уже обращаясь ко всем. – Там, где мы горе мыкали, только таким и выжить. Ведь шутка сказать, два года мы с Клашей, два года… А хозяин, боров такой! Успевай поворачивайся. И лютый, гадина! Помнишь, Клаша, как он нас прошлую зиму в пролетку свою впряг? Мол, катай-катай! И катали. А что поделаешь?..
И Люся и Клава были моложе Вали, но выглядели, пожалуй, старше. И руки – большие, красные… Руки крестьянок…
– Домой бы теперь, домой! – мечтательно произнесла Люся. – Вот поднимемся завтра и в дороженьку. Не верится! И что-то там у нас, что осталось?..
– А вы давно познакомились? – поинтересовался я у Вали.
– Нет, недавно, – сказала она. – Уже во время штурма Бреслау. А так работали в разных местах…
Мне надо было заступать на пост, сменять Сашу.
Я вышел на улицу. Моросил дождь. Над Бреслау, который казался сейчас очень далеким, полыхали зарницы. А у нас тишина.
Саша ждал меня:
– Там весело?
– Иди. Только началось.
– Пойду, а то холодно.
– Иди, иди…
Я заступил на пост и стал прогуливаться по улице, чтобы не слышать доносившихся из нашего дома веселых голосов. А там уже вовсю шумели, и пели, и звучала музыка…
Когда ходишь, время идет быстрее и не так скучно.
Приблизительно через час веселье в нашем доме закончилось, и ребята высыпали на улицу.
– Опять слякоть.
– Завтра помесим тесто!
Несколько ребят пошли провожать женщин. Хильда семенила за ними.
Последними из дома вышли Володя и Валя. Володя держал ее под руку.
– Ах вот где вы, юноша! – воскликнула она. – Адью! Зай гезунд, кнабе![6]6
Будь здоров, мальчик! (нем.)
[Закрыть]
Валя да и Володя были порядком навеселе.
Они направились в сторону дома, где остановились женщины. До меня донеслись их голоса.
– Нет, сейчас нельзя. Позже. После отбоя… – говорил Володя.
– Я усну. Я так устала…
– В конце концов можешь ты подождать полчаса?
Я не заметил, как подошел лейтенант Соколов, возвращавшийся с дежурства в штабе.
– С кем это там Протопопов?
– Простите, товарищ лейтенант! Здесь три женщины из Бреслау вырвались, – объяснил я, – из наших угнанных. И еще немка с ними. Ужинали вместе, сейчас домой пошли…
– Это я слышал, а Протопопов с кем из них? Как ее зовут? Не слыхал? – В голосе Соколова вдруг прозвучало беспокойство.
– Это Валя такая, Валентина, – сказал я. – Она из Орла, кажется.
– Валентина?
Я не успел сообразить, как Соколов решительной походкой направился туда, где только что стояли Володя и Валя.
Потом я услышал дикий женский крик. В испуге ко мне подбежал Володя:
– Что он, рехнулся? Что случилось? Сумасшедший!
Я тоже ничего не мог понять.
– Он спросил, как зовут ее. Я ответил…
Володя был похож сейчас на обиженного ребенка. Губы надуты, и в глазах чуть ли не слезы.
– Да брось! – сказал я. – Давай лучше закурим.
– Тебе хорошо говорить… А у меня все на мази было… И все из-за этого…
Меня не меньше Володи беспокоило случившееся.
– Придет лейтенант – наверно, скажет, что и почему.
Возвратились ребята, провожавшие Люсю и Клаву.
– Что произошло? Она бежит, орет, а он идет за ней и кричит: «Стой! Не трону! Стой!»
Володя продолжал ворчать:
– И надо же в такой момент…
Наутро Люся и Клава недоумевали:
– Может, они знакомые были? С Валькой-то?
– Как убежала вчера, так и не пришла. Не ночевала!
– А ваш лейтенант ничего вам не сказал?
– Куда же она денется теперь? Неужто одна ушла?
– Не ровен час, путалась с немцами…
– И такие были… Одним каторга, а другим удовольствие. Пристраивалась…
– Красавица! Нечего сказать!
– Нет, что-то здесь… Не может так…
– А ведь какой прикидывалась!
Мы недоумевали не меньше женщин. Лейтенант Соколов ни вчера, ни сегодня, после подъема и когда мы завтракали, не проронил ни слова.
И вдруг Хильда, молча стоявшая с женщинами, тихо произнесла:
– Зи вар ди фрау айнес дойчен СС оффициере! Зи загте мир зелбст унд бат швайген! Абер их каните зи фрюер бис цум айнтритт дер руссен![7]7
Она была женой немецкого офицера СС! Она сама мне сказала и просила молчать! Но я знала их и видела раньше, до прихода русских! (нем.)
[Закрыть]
Через два дня нам с лейтенантом Соколовым удалось вырваться в Лигниц. Мы ехали на попутных, и всю дорогу комвзвода молчал. Обронил лишь несколько слов:
– Проголосуем!
– Влезай!
– Здесь сойдем…
– Теперь близко…
Я смотрел на Соколова и не узнавал его.
Он постарел за эти дни, осунулся. Морщины под глазами. Седина. Или я не замечал ее прежде? Нет, прежде у него не было ни одного седого волоса. Да и рано: ведь лейтенанту тридцать два.
Когда мы сошли на повороте, чтобы поймать следующую машину, Соколов долго тер глаза. Видно, они болели от бессонницы. И потом, в Лигнице, тоже тер их. И глаза его стали красными, воспаленными и еще более старыми.
По существу, я совсем не знал Соколова, но в нем было для меня что-то притягательное. Люди, ясные с первого взгляда, наверное, не так интересны.
Но вот что происходило сейчас с Соколовым? О чем он мучительно думал? Чем терзался? И что значила для него эта встреча с Валей-Валентиной?
Уже когда мы сидели в госпитале у Бунькова, я все ждал: вот сейчас он заговорит об этом, ведь друзья…
Но разговор шел обычный – о здоровье старшего лейтенанта, о дивизионе, о делах на фронте, о союзниках, которые наконец-то раскачались со вторым фронтом. И Соколов не вспоминал случившегося.
Я ёрзал на стуле рядом с койкой старшего лейтенанта, без конца поправляя сползавший с моих плеч халат. Палата выздоравливающих, в которой лежал Буньков, гудела. Забивали «козла». Сражались в шахматы. Смеялись, рассказывая что-то забавное. Шелестели газеты. Стучали костыли. Скрипели койки.
Дважды зашла сестра, сказав предостерегающе:
– Мальчики!
Ее не слушали. Только один из выздоравливающих оторвался от домино и бросил:
– Гоните! Хоть сейчас! С радостью превеликой!
Буньков рассказывал:
– …А затем вот сюда перевели. Здесь поживее, сам видишь. И народ хороший, веселый. Надоело только всем. И в самом деле обидно. Война к финишу идет, а мы тут загораем! Бока пролеживаем…
Потом взглянул на меня:
– Миш, чего мы парня мучаем? Смотри, извелся совсем. Давай отпустим. А обратно вы завтра?
– Завтра утром, – подтвердил Соколов. – Куда же сегодня?..
– Да, поздно, – согласился старший лейтенант. – Так ты беги. Вот и адрес припас.
Он достал из тумбочки клочок газеты.
– Я еще к Петрову зайду, – сказал я, принимая бумажку.
– А Петров, он в третьем отделении, двадцать седьмая палата. Это соседний корпус слева. Третий этаж. Забеги да и привет передай от нас.
Мы договорились с Соколовым встретиться утром, в восемь, у госпиталя.
Макака, увидев меня, пустил слезу.
– Через часок к тебе еще лейтенант Соколов зайдет. Он здесь, – сообщил я.
Витя поправился на госпитальных харчах и даже как-то посолиднел.
– Дней через десять обещают отпустить. Представляешь? А Буньков! О, какой Буньков! Я просто влюбился в него. Представляешь, ранение у него серьезное, не то что у меня, а он мне каждый день записки присылал. Смешные такие: мол, не унывай, Макака, мы еще с тобой повоюем, даже после операции. А потом заходить стал, и во дворе мы каждый день встречаемся. Я прямо не знаю, как его и благодарить. Никогда не думал, что он такой!
Макака рассказывал взахлеб, и взахлеб спрашивал, и опять рассказывал.
– А у нас Шукурбек… И так глупо… – сказал я.
За окном, будто отдыхая от прожитого трудного дня, тяжело дремал город. Огромный, почти не тронутый войной, он вяло дымил трубами заводов и фабрик, стучал сапогами солдат, трепетал флагами и транспарантами, шелестел метлами – немцы подметали мостовые и тротуары. Шли по улицам люди – взрослые и дети. Закрывались ставни уже работающих магазинов. Проносились штабные машины. Шумели воробьи. И вороны на огромных старых деревьях галдели, готовясь на ночной покой. А в окнах домов, где уже жили люди, опускались шторы. Сейчас электростанция даст ток.
В ворота госпиталя, а их трое, въезжали и выезжали санитарные машины. Из машин прибывающих выносили и выводили раненых.
– Осторожно. Берем. Заноси влево. Осторожно, осторожно! Давай. Беру, – глухо аукал двор.
Санитарный порожняк уходил обратно, обгоняя армейские колонны, шедшие через город к автостраде Бреслау – Берлин. И пустые санитарные машины, и войсковые колонны спешили к фронту.
А когда над Лигницем опустился вечер, из ворот госпиталя выехала крытая машина. Никто не видел, как она была загружена, как трое солдат с лопатами и фонарем сели в кузов. Выбравшись за черту города, машина свернула на грунтовую дорогу и остановилась у небольшой высотки. Здесь уже был готов ров, напоминающий несколько увеличенный в поперечнике окоп.
Трое солдат и водитель вынули из машины пять мешкообразных тел и осторожно положили их в ров, с самого края, одно на другое. Затем взяли лопаты и присыпали их чуть-чуть землей.
– Бумажка где? – спросил один из них, спустившийся на дно рва.
– Тут, – прозвучало сверху. – На!
Он положил бумажку на землю. Потом покопался вокруг, нашел камешек и придавил им бумажку:
– Фонарь подайте-ка, проверю.
Ему опустили фонарь. Солдат рукой подровнял землю, присыпав торчащие из нее волосы, и еще раз перечитал бумажку: «4.03.45 г. Похоронены к-цы Хомутов, Анжибеков, Свирлин, с-т Савинков, мл. сержант Сойкин. Место свободно».
– Кажись, все верно. Подсобите подняться.
Солдат вылез из рва, и все молча закурили. Затоптав сапогами окурки, пошли к машине.
– Небось на сегодня всё.
– Посмотрим. До утра-то еще вон сколько!..
Мне все хотелось сказать ей, что я свободен до утра. Но я видел ее усталое лицо и помимо воли поглядывал на руку. Десять часов. Двадцать минут одиннадцатого. Без десяти одиннадцать. Пятнадцать минут двенадцатого. Двадцать пять…
Пролетело уже три часа, но я не заметил их. Мы сидели совсем одни в большой квартире, и мне казалось, что мы только что встретились и ни о чем еще не успели поговорить. Она старалась быть хозяйкой этой чужой для нее и непривычной для меня квартиры и угощала меня чем-то, и поила чаем, и опять бегала на кухню. А я все думал и думал об одном: идет время, время идет… и – уходит.
– Мне пора, пожалуй, – наконец сказал я, еще раз взглянув на часы: – Без двадцати двенадцать…
– Ну что ж. – Она тоже встала. – Спасибо тебе большое, что ты приехал. Ты знаешь, как я рада…
Мы вышли из комнаты в прихожую и стояли у двери, вдруг она вспомнила что-то и смутилась:
– Ах, какая же я! Ведь у меня есть что-то… Специально берегла… И забыла. Может, на дорогу?
Не снимая шинели, я вернулся вместе с ней в комнату, подождал, пока она принесет из кухни это «что-то», и мы подняли стаканы:
– За встречу! Нашу… – сказала она. – И не сердись, что я – такая…
– За встречу! И… – Мне хотелось сказать ей еще какие-то слова. – И за то, чтоб мы встретились еще!
Мы опять попрощались у двери. Она вышла на лестницу проводить меня.
– Ты куришь? – Кажется, она удивилась, когда увидела, что я скручиваю самокрутку. – Да, а ты куда сейчас? Неужели обратно, так поздно?
Я остановился, не зная, что ответить.
Куда я?
Бродить по улицам до утра, но на улицах наверняка ночные патрули, и что я буду объяснять им, показывая свою увольнительную? Или шмыгнуть в какой-нибудь дом, где есть пустые квартиры? Квартир таких много, но как я найду сейчас такую? Ведь можно напороться?
– Так почему ты молчишь? – спросила она.
– А я не знаю куда, – признался я. – У меня до утра… До восьми ноль-ноль… Свободное время. Так мы договорились.
– Ты с ума сошел! – Она потащила меня обратно в квартиру. – Какой же ты, право. И я хороша. Ну как ты так можешь! Неужели мы не устроимся? Здесь пять комнат. И мне не так будет страшно… Ведь я трусиха!..
– Но ты же не одна, – сказал я, вспомнив ее слова о подругах, с которыми она квартирует.
– Девочки сегодня дежурят, я смерть как боюсь одна, да в такой квартире!
Она стянула с меня шинель, потащила в комнату.
– Вот здесь… Я постелю тебе. Одну минуточку. Тебе будет хорошо. Вот пепельница. Кури!
Пепельница была теперь у меня в руках. Я не знал, куда поставить ее, чтобы закурить. А курить хотелось безумно.
– Поставь, – сказала она, почувствовав мою растерянность, взяла у меня пепельницу и сама опустила ее на какую-то тумбочку.
Мне показалось или хотелось, чтоб это было так, что она как-то неестественно долго смотрела мне в глаза.
– Помнишь, я говорила тебе тогда, в Ярошевицах, на кухне… Не сердись, но я скажу тебе честно: ведь раньше я никогда не любила тебя… А сейчас не знаю… Я где-то читала, что вторая любовь бывает настоящей… Может, что так… Только молчи и ничего не говори сейчас… Хорошо?.. Подожди, я сейчас разберу…
Я молчал.
Она все сделала, оставив меня одного в соседней комнате и сказав «спокойной ночи». Я настолько был обескуражен, что все продолжал стоять возле широкой белоснежной постели, боясь пошевельнуться. Она постелила чистую простыню, надела свежие наволочки и прикрыла постель традиционной немецкой пуховой периной. А я не знал, что делать: неужели расстегнуть ремень, размотать обмотки, снять ботинки и забраться на этакую кровать как есть, в гимнастерке и галифе?
До этой ночи я ни разу не раздевался на ночь, с той поры как мы покинули Гороховецкие лагеря. А если и скатывал шинель, то это оказывалось нестерпимой вольностью, за которую я, да и мои друзья по взводу не раз расплачивались ко время ночных тревог и подъемов.
– Ты почему не ложишься? – крикнула она из соседней комнаты, щелкнув выключателем. Дверь между нами была открыта.
Я, не видевший Наташу, знал, что она уже нырнула в свою постель.
– Я ложусь, – проговорил я и начал стягивать гимнастерку. Будь что будет.
Все было непривычно. И то, что я лежу в обычной постели, и то, что постель эта домашняя, и то, что рядом, в соседней комнате, она, чье дыхание я слышу, и то…
Мне казалось, что я хочу спать, но уснуть не мог. Ворочался, перекладывая подушки, скидывая жаркую перину, и вновь ворочался.
Она уже, кажется, спала. Я чувствовал, что она дышит спокойно и размеренно. Я думал о ней и о превратностях судьбы, которая свела нас в далеком Лигнице в чужой квартире… И о лейтенанте Соколове, который наверняка не спит сейчас, мучимый своими, непонятными мне мыслями. И о Макаке – Вите Петрове, повзрослевшем больше нас всех. И о старшем лейтенанте Бунькове…
Как много добрых людей на свете, добрых и разных, и как мало мы думаем друг о друге и о том, чтобы каждому из этих людей стало чем-то лучше. Вот Буньков, тяжело раненный Буньков, старший лейтенант Буньков посылает смешные записки солдату Вите Петрову, чтоб не скис этот солдат, не хандрил, чтоб жилось ему и поправлялось в госпитале веселее. Вот Соколов, лейтенант Соколов, в душе которого черт знает что происходит, вспоминает о своем комбате и пишет ему письма, чтобы знал он, комбат, как помнят его и любят в дивизионе… А самому Соколову, я уже знаю, почему-то не верят… Боятся, что ли, его? Или у него есть какие-то минусы в биографии?.. Но ведь он – человек, и какой человек!..
Я думал об этом, вспоминая прошлое и настоящее, и ловил себя на мысли, что прислушивался к ее дыханию. Она спала. Хорошо, что она спала. Сколько ей лет – двадцать один? Да, в сороковом ей было шестнадцать, а мне тринадцать. Сейчас мне восемнадцать, а ей двадцать один. Нет! Ничего не говорят года! И нам столько же, сколько было прежде, когда мы шагали по Чистым прудам, и нам – много-много, потому что испытанное не меряется возрастом. Я знаю ее лицо – какое оно усталое! Сколько ею пережито! И пусть она спит сейчас, пусть спит, пусть спит, спит, спит!
– Ты не спишь?
Я вздрогнул от ее голоса.
– И я никак не могу… Подойди ко мне…
Ее ли это голос? Я не узнаю его, но повторяю:
– Сейчас… Сейчас…
Мне надо одеться, и я кляну себя (Идиот! Идиот!) и шарю в темноте по незнакомой комнате…
– Неужели ты меня любишь? Всерьез? – шепчет она, а я бормочу что-то и погружаюсь в неизведанное, тысячу раз желанное, и уже ничего не могу говорить, а только шепчу:
– Наташка! Наташенька! Наташка!..
Утром я проснулся и увидел, что она уже не спала.
Она сидела, обхватив колени, на каком-то пуфике рядом с кроватью – дурацком, чужом пуфике. И сама вроде чужая. И вдруг я вспомнил – моя! Спросонья я смотрел на нее, наверно, совсем не так, как я хотел смотреть. А она смотрела на меня так, как никогда не смотрела прежде. И в ее глазах я чувствовал угрызение совести, и смущение, и страх…
– Отвернись, пожалуйста. Я оденусь, – попросила она.
Я отвернулся и теперь окончательно понял, как мне хорошо.
– Сейчас я накормлю тебя.
– А себя?
– Тебя, – повторила она. – Ведь скоро семь.
Она готовила на кухне, но я не видел, что она делала, а видел лишь ее, тысячу лет знакомую и совсем иную.
– Наташа!
– Ну что?
Она обернулась и посмотрела на меня непривычно пронзительно, и я уже начинал обижаться:
– Зачем ты так?
– А что теперь будет, ты подумал?
– Как – что? Кончится война, мы вернемся…
– Я не про это…
Теперь я все понимал. И то, что она, старшая, советовалась со мной, как с равным, а может, и со старшим.
– Наташенька! Ведь война кончится вот-вот. Ты сама знаешь…
– Хорошо, если…
– Кончится, кончится, кончится! И потом, я люблю тебя! Люблю, ты и сама не понимаешь, как люблю…
Мы вернулись из Лигница, и первым нам встретился Володя:
– Здравия желаю, товарищ лейтенант!
– Здравствуй, ефрейтор, – безучастно ответил Соколов.
Володя проводил комвзвода глазами.
И вдруг засиял:
– Слушай, ты ни черта не знаешь! Ведь та баба – Валя, помнишь, Валентина – женой его была! Представляешь, женой! А она эсэсовка! Ты понимаешь! Хорош офицер наш Соколов! Советский офицер, а жена эсэсовка! Вот и доверяй людям! А мы еще у таких в подчиненных ходим!..
Я ничего не понял. Кроме одного…
– А чему ты так радуешься? У человека беда, а ты радуешься?
– Я радуюсь? Да чему мне радоваться, когда у меня неприятность, – сказал Володя с явной обидой. – Ты подумай, какое свинство! Получаю письмо от отца, а он пишет: пришла твоя посылка, открываем, а в ней два кирпича. Обычных кирпича! Представляешь! Мне бы этих почтовых сук увидать! Хорошо хоть, что вторую и третью в целости получили. Вот как наживаются за наш счет, гады!..
После Одера и Бреслау артиллерийскому корпусу, который мы обслуживали, дали отдых. И нам – отдых…
Странная штука – отдых на войне. Подворотнички пришили, форму, как могли, привели в порядок. Устроили из пустой бочки вошебойку – переморили насекомых. Посмотрели фильм «Серенада солнечной долины», протопав до места демонстрации этого фильма шесть километров и столько же обратно. Саша проявил инициативу – устроил три политинформации…
Наконец команда: «По машинам!»
К вечеру, после долгих скитаний по размытым и разбитым дорогам, мы выехали на автостраду и не поверили своим глазам. Перед нами был огромный указатель: «На Берлин. 331 км».
С наступлением календарных весенних дней погода в Германии испортилась. Март встретил нас снежком и морозами по ночам, которые уже никого не устраивали. Апрель начался с дождей. Всюду – слякоть, мерзопакостная, удручающая. И все же не она определяла настроение. Триста тридцать один километр до Берлина – это казалось чудом. А мы все двигались и двигались вперед. Второй день в пути.
В дни наступления мы превращались из отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона (а теперь к этому длинному названию официально прибавились слова «прорыва РГК» – Резерва Главного Командования – и плюс полученное нами за бои на юге Германии название «Силезского») в обычную моторизованную пехотную часть. Артиллерия, которой мы приданы, била по противнику прямой наводкой, и потому наша работа никому не нужна. А все же, раз нас торопили вперед, мы были нужны!
Пока же мы отбивали атаки каких-то оголтелых вражеских частей, оставшихся глубоко в тылу наших войск, ловили пленных и сопровождали их на сборные пункты, вели политпросветработу среди цивильных немцев и, наконец, – самое скучное в условиях войны! – чертили кальки и карты в штабах артполков и дивизий, где не хватало своих топографов.
И все это в пути, в движении, когда события подгоняли на северо-запад, где уже вовсю, судя по сводкам, действовал 1-й Белорусский.
Каждый день мелькали названия городов и селений – Бунцлау, Рейзихт, Гайнау, Гроткау, Нейпштадт, Фридлянд, Эндерсдорф, Кальке. На карту лучше не глядеть: мы крутили то вперед, то назад и опять вперед. Пусть так. Был бы маршрут, а обсуждать его не наше дело. И опять названия – Форст, Госта, Дрешниц, Шефенберг, Котбус. Позади – Нейсе, впереди – маленькая, юркая Шпрее.
Цвели сады. Яблони, вишни. Лепестки их цветов осыпались – вздрагивали земля и небо. В небе наши «петляковы» и немецкие «мессеры». А на земле танки, самоходки, «катюши»… Трудно понять, где кончалась одна колонна, где начиналась новая. Дороги и поля гудели, и только у переправ колонны замирали, вливаясь в одну – на мост.
В воздухе перемешаны все запахи: весны, гари, зелени, бензина, крови, цветов, металла…
– Скоро с союзничками встретимся. Часа через три! – говорил младший лейтенант Заикин, когда мы миновали мост через Шпрее. – Они в Дессау.
Это он говорил утром двадцать второго апреля.
Через час наш маршрут изменился. Мы повернули чуть назад и направились строго на север.
– Идем к Первому Белорусскому, – пояснил майор Катонин.
Фронты существовали на картах, а на земле их определить было трудно.
Наш дивизион остановился в Барате. По улицам брели наши солдаты. Темнело. Начал моросить дождь.
Мы с Сашей отправились в штаб артбригады – чертить карты.
– Хлопцы, вы с какого – с Первого Белорусского? – спросил я проходящих мимо солдат.
– С Первого Украинского.
Пошли дальше.
– Славяне, с какого – с Первого Украинского? – поинтересовался Саша.
– С Первого Белорусского.
На улицах темень. В темноте двигались войска. В темноте сновали люди. А городок, кажется, красивый, тихий.
Навстречу нам шагала колонна. Слышалась немецкая речь.
Саша вскинул карабин, я – автомат.
Потом сообразил:
– Подожди ты! Это пленные…
Пленные немцы шли в строю. Впереди офицер. Другой, с фонарем, сбоку, подсчитывал ногу:
– Айн-цвай! Айн-цвай!
Мы смотрели на них, рассмеялись.
– Гитлер капут! Аллес капут! – кричали немцы, увидев наши лица.
И опять мы шли вперед, и опять:
– Славяне, с какого – с Первого Украинского?
– С Первого Белорусского.
– Хлопцы, с какого – с Первого Белорусского?
– С Первого Украинского.
У дверей двухэтажного дома – часовые. Толпились солдаты, офицеры.
– Здесь штаб Сто девяносто четвертой? – спросил я.
– Ты?
Из толпы выскочила Наташа.
Мы молчали и глупо улыбались.
– До Берлина сорок километров! – вдруг сказала она.
…Мы возвращались с Сашей поздно. Наших в городе не было. Дивизион перебрался в лес – по соседству с местечком Нейхоф.
Побрели туда, под дождем, по грязи.
В лесу уже все спали. Лишь мокли часовые. И Володя, видимо промерзший до костей, танцевал на посту у знамени.
– До Берлина-то сорок километров осталось, – сообщил ему Саша.
Володя преобразился:
– Хрен с ним, с Берлином. Здорово, что пришли. А я уже было совсем промок!
Боевой порядок опять менялся. Только что мы смотрели в стереотрубу: домики, сад и спокойно прогуливающиеся немцы с котелками, а один и с губной гармошкой, и даже плакаты на стенах домов, призывающие вступать в ряды фольксштурма, а когда перевели трубу влево – немецкая гаубичная батарея и опять обед: немцы питаются точно по расписанию… Возле рощицы, еще ближе к нам – звуки музыки. Звуки доносятся и до нас, трофейные для немцев, знакомые, родные – нам: «Полюшко-поле», «В далекий край товарищ улетает…» – Голос Бернеса, а затем Лемешев – «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене…»
– Что они?
– А что? – не понял Саша.
– Нашли время для музыки!
– Обидно, работали… – с нескрываемой грустью сказал Вадя.
И верно, обидно! Обидно, что привязку, которую мы только что – и так быстро! – закончили, можно было, оказывается, не проводить: куда там привязка, когда на смену тяжелой артиллерии подошла уже легкая! Она будет бить прямой наводкой. Обидно и то, что мы не дослушали музыки. Больше всего жалел, кажется, Вадя. Когда он слушает музыку, война ему – не война.
Нас перебросили к Тельтову. Впрочем, сам Тельтов мы не видели, говорили, что он пока не взят, зато Берлин – дымящий, вздрагивающий от взрывов и пожаров, – был, казалось, рядом. О Берлине говорили: «там», и на самом деле там, над Берлином, и днем стояла мутная, черная ночь. А у нас голубело небо, припекало солнце, зеленела листва. И воздух, несмотря на запах тола и гари, бензина и трупов, был свежий, весенний, дурманящий.
После привязки бригады двухсоттрехмиллиметровых орудий, которая затянулась – портили дело фаустпатронщики, – мы с Вадей отправились в штаб нашего дивизиона с бухтой провода и четырьмя пленными. Один из пленных – тощий, маленький – без конца всю дорогу что-то лопотал, хватая за рукав то Вадю, то меня.
– Чего он хочет? – спросил я у Вади, когда наша машина подпрыгнула на очередной яме.
Шофер крепко хватил и вез нас наобум лазаря: того и гляди, окажемся в канаве.
– Говорит: «Я – поляк, я – поляк, меня тоже убьют?» – сказал Вадя, отлично знавший немецкий. – Только какой он поляк! Послушал бы ты, как по-немецки болтает. Отвратный тип!
Потом мы помолчали.
– А ты, – наконец спросил Вадя, – ты убил кого-нибудь за это время?
– Как? – не понял я.
– Ну, здесь, на фронте?
– Семь… Это тех, кого считал. Сам.
– Ты знаешь, это странно, конечно, – признался Вадя, – но я, наверно, не смог бы никого убить. Вот даже такого отвратительного, как этот. – Он показал на «поляка». – Противно почему-то, и не могу я этого делать…
Черт бы их подрал, эти окруженные немецкие группировки! Уже Берлин рядом, а мы опять возвращались, прочесывали леса, вылавливали фрицев.
Фрицы – чахлые. Очень старые и очень молодые. Фольксштурм! Но и среди наших попадались отчаянные.
– По-моему, они просто нас боятся, – говорил Саша. – Как ты думаешь? Ведь вдолбили им, годами долбили, что мы – бог знает что! Чепуха какая-то. Как бы растолковать им?
Растолковывать было некогда.
Мы шли с автоматами и карабинами между стволов деревьев. Потом бежали – впереди показались немцы.
– Ур-ра! – кричал Саша.
– Ур-ра! – кричал я.
– Ур-ра! – гремело в лесу.
И Вадя бежал. И стрелял. Уж не знаю как, но стрелял.
Выстрелы редки. Больше криков. И голосов птиц. Они пели как ни в чем не бывало. Пели синицы и дрозды. Коноплянки и сойки. Хлопали крыльями вороны и галки, занесенные войной в леса.
Мы разоружили с Сашей пятерых немцев. Автоматы, пистолеты, гранаты падали на землю. Рядом видавший виды открытый «мерседес-бенц». На заднем сиденье – офицер. Он мертв. Фуражка свалилась на плечо.
– Сам, – сказал Саша, возвращаясь от машины.
– Что – сам?
– Застрелился сам.
Берлинские пригороды. Аккуратные домики и газончики. Асфальтированные дорожки и дорожки, посыпанные желтым песком. Гаражи на одну-две машины, и собачники на одну-две персоны. Фонтанчики с рыбками и без рыбок, с плавучими растениями и без них. Пивнушки и магазинчики с ровно расставленными кружками, бутылками и товарами в поименованных упаковках. Теннисные корты и автобусные остановки, похожие на рекламные. Бензоколонки на манер американский, садики на манер французский, цветники на манер голландский… И все сияет, зеленеет, желтеет, краснеет – пугает своей педантичной аккуратностью. И все до приторности миленькое, до безвкусицы красивое, до отвратительности чужое. Но глаза и воображение дополняли пейзаж. В домашних альбомах и просто на стенах – аккуратно подклеенные и окантованные фотографии. Сколько мы видели таких! Он и она на фоне домика и газончика. Он и она с детьми. Она и они на фоне садика и фонтанчика. Они и он у машины и у цветника. Она и он без детей. Он в форме и без формы. Она в военном, он в цивильном. И тут же рядом, не на стене, в альбоме, он и она вне всякой одежды, даже цивильной.
Берлинские пригороды! Война пришла сюда. Пришла и неумолимо принесла то, что было порождено на этой благополучной, вылизанной, приглаженной земле теми, кто фотографировался на фоне домиков и газончиков, когда горели украинские и русские избы, крытые соломой, теми, кто раскрашивал бензоколонки и автобусные остановки, пил пиво и подстригал кустарники, а затем с автоматом в руках шел на далекий Восточный фронт – и жег, стрелял, пытал, взрывал, унижал, насиловал и опять жег, стрелял, пытал…
Нет, сюда война не принесла и малой доли того, что она принесла на нашу землю. Здесь были битые стекла и щебень от артиллерийских обстрелов, трупы сопротивлявшихся в боях, случайно пострадавшие от воздушных налетов, и страх – безумный страх перед армией большевиков, который, впрочем, не мешал уже через час после окончания боя тянуться к солдатским «красным» кухням за едой и хлебом, разыскивать «красного» коменданта, дабы узнать, когда будет работать водопровод, и приносить своих детей в переполненный ранеными и умирающими медсанбат на предмет обнаружения поноса…








