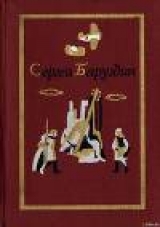
Текст книги "Роман и повести"
Автор книги: Сергей Баруздин
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Берлинские пригороды. В уютном домике мы выкладывали из «сидоров» концентраты – гороховый суп, пшенную кашу – и двухдневный запас кускового сахара, чтобы отдать все хозяйке: у нее двое детей и муж на войне, а в это время в нас стреляли эсэсовцы с чердака. Мы несли с Вадей раненую девочку в медсанбат, когда по нас ударили засевшие в кирхе фольксштурмовцы. Мы долго растолковывали старухе немке, жившей когда-то в России, что у нас нет общих жен и их не отпускают по карточкам – в первую очередь большевикам, потом уже беспартийным, а в это время мальчишка фаустпатронщик с пятидесяти метров целился в нас. Мы вытаскивали из затопленного немцами подвала не известной нам ценности и важности, но старинные книги и рукописи, а из дома напротив прицеливались в нас три снайпера…
Двадцать четвертого на рассвете мы вышли на разведку постов, а уже через два часа вели привязку тяжелой гаубичной батареи. Огневики наспех готовили позиции, когда по Берлину ударили «катюши». Наконец открыли огонь и наши гаубицы.
Загудели берлинские пригороды. Взревело небо. Затряслась, задрожала земля. Двинулись танки. Пошла мотопехота. Стали готовиться в путь тылы.
– По машинам! – прозвучал голос командира дивизиона майора Катонина.
– По машинам! – повторили его командиры батарей.
– По машинам! – раздалась команда взводных.
Впереди был город Тельтов, а за ним последняя переправа через Тельтов-канал.
…Прежде я никогда не ездил на настоящем велосипеде. В общем-то, естественно, хотя и стыдно. Когда мне было три года, родители купили мне трехколесный велосипед, которым я забавлялся почти до школы, и – все. На этом мои занятия велосипедным спортом закончились. Другого велосипеда у меня так и не было.
Но, слава богу, я получил поддержку.
– Я вот все хотел спросить тебя: ты на велосипеде умеешь кататься?
– Нет, а ты?
– И я не умею, – признался Саша. – Вот если бы на лыжах.
На лыжах действительно! Я тоже предпочитал бы лыжи. В Ногинске, а затем в Гороховецких лагерях мы усиленно занимались лыжной подготовкой. Мы отрабатывали технику лыжного шага и бегали кроссы. Мы ходили на лыжах заниматься практической подготовкой топографа, таща на спине тяжеленный теодолит да еще солдатскую амуницию, и даже в подшефный колхоз шли лыжной цепочкой.
Сейчас о лыжах смешно вспоминать. Сейчас 25 апреля. Сейчас в Берлине, как только миновали Тельтов-канал, нам потребовались для быстроты велосипеды. Они были. Но кто из нас умел ездить на велосипеде? Или кататься, как сказал Саша?
Мы с Сашей явно не умели.
– А я умею, – почему-то виноватым голосом произносит Вадя. – У меня до войны… Мне мама купила велосипед… И я как-то сразу научился.
Младший лейтенант Заикин обнадежил нас:
– Это ерунда. Сядете и поедете.
Володя засмеялся:
– Ну, знаете, ребятки, стыдно! Уж на велосипеде не уметь!
– Вы зря шутите, Протопопов, – сказал лейтенант Соколов. – Я, например, тоже не умею и не вижу ничего смешного в этом. А надо – научимся.
Нам надо научиться. Нам надо тянуть теодолитный ход по берлинским улицам. Передовые части пехоты и легкой артиллерии прошли вперед. Подтягивалась тяжелая. Бои шли в городе. Нашему арткорпусу нужны были координаты.
Сел на велосипед Соколов. Сел я, прижимая к рулю неудобную вешку. И мы поехали. По улицам разъезжали другие ребята. Умевшие и неумевшие, сейчас все умели.
– Обгоняй, – бросил мне Соколов. – И давай там на перекрестке – первое колено.
Он остановился. А я покатил вперед, чтоб поставить вешку на перекрестке.
Теодолитчики замерили мою вешку: давай, мол, дальше…
Мне это даже понравилось: я опять вскочил в седло. И поехал по улице направо, вдоль сквера. Теперь я не видел за собой Соколова, он был где-то за углом, но вдруг услышал его голос:
– Быстрее! Жми!
Надо мной свистели пули, и я нажал на педали, чтобы скрыться с глаз немецких автоматчиков, засевших на чердаках и в верхних этажах домов.
На перекрестке тихо. Я поставил вешку и теперь увидел всю простреливаемую улицу. По ней мчались три велосипеда: Соколова, Сашин с теодолитом и Вадин. Вот они остановились под прикрытием домов и вновь замерили меня. И снова вперед, ко мне, а я уже помчался дальше. За мной свистели пули, я оглядывался на ходу. Нет! Наши проскочили! Я был полон гордости за себя. Черт возьми, впервые на велосипеде, и все так отлично! Я приподнял вешку и даже уселся поудобнее в седле. Велосипед чуть вилял, но я управлял им, и он слушался. Отлично!
Еще остановка, и еще, и еще. Мимо меня пронесся дивизион «катюш». Непривычный дивизион, ибо это не «студебеккеры», а наши отечественные трехтонки. На бортах надписи: «Защитники Москвы». Значит, вот еще откуда пошли «катюши»! В небе жужжали наши самолеты-кукурузники. И вдруг снегопад листовок полетел с них на город. Я схватил на лету одну. Немецкий текст. Разобрал фамилии: Сталин, Черчилль, Трумэн. Видимо, это обращение к немцам.
Улицы, на которых мы работали, относительно тихи. Но где-то впереди виднелись зарева пожаров, ухали выстрелы, было слышно, как летели стекла и падали стены домов. Там шел бой.
Вновь рывок вперед – мы тянули последнее колено теодолитного хода. Я поставил вешку у ворот какого-то большого заглохшего завода. Завод пуст. Некоторые корпуса разбиты. Разрушены соседние жилые дома. Щебень подметен в кучи, разрушения огорожены. Значит, это прежняя работа авиации. Нашей или союзной.
Соколов помахал мне издали: всё, закругляйся!
Я возвратился обратно, и мы все вместе переместились в соседний квартал города. Долго искали какую-то узкоколейку, которая значилась на карте, но не нашли. Выехали к конечной трамвайной и троллейбусной станции.
– Там, – сказал Соколов, показывая на ограду большого парка.
В парке и на перекрестке двух улиц выбрали место для трех наших постов.
На следующий день, двадцать шестого апреля, все повторилось. И двадцать седьмого, и двадцать восьмого, и двадцать девятого…
Второго мая – отдых. Отдых, а город еще горел, дрожал и трясся от огня артиллерии и взрывов бомб.
– Походим? – предложил Саша. – До наряда. И может, очки?
Мы знали, как Саша страдал без очков. В Котбусе мы нашли ему очки, но они оказались с разными стеклами.
– Один глаз ничего, а левый… – произнес Саша.
– Найдем! – уверил я Сашу. – И заодно этих посмотрим…
«Эти» – Гитлер и Геббельс. Ходили всякие слухи. Что Геббельс отравился газом со всей семьей. Что Гитлер застрелился. И – наоборот. И будто кто-то даже видел их трупы. А может, настоящий Гитлер смылся? Говорили и так, и всяко…
Мы пошли втроем – Саша, Вадя и я. Володя на дежурстве. Нам в наряд только к вечеру.
В парке цвела черемуха. Зеленели газончики. Цивильные немки и немцы выстроились в длинные очереди к солдатским кухням. Кастрюли, кастрюли, кастрюли, у некоторых – котелки, и у всех – белые повязки на рукавах. Наши солдаты весело разливали по котелкам и кастрюлям суп, разбрасывали большими черпаками кашу. На домах белые флаги, простыни, даже наволочки, полотенца и опять простыни. Все белое пускалось сейчас в ход. Капитуляция. Капитуляция!
– Господа солдаты! – окликнул нас пожилой мужчина. – Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?
Перед нами был немец не немец, русский не русский, тоже с белой повязкой на рукаве, заискивающий, прячущий за спину котелок.
– Спасибо, – сказал Вадя, – мы так…
– О, вы знаете, как я рад, что русские пришли в Берлин! – воскликнул мужчина. – Ведь я сам из Одессы. Да, да, из Одессы! Я специалист по импорту кожи и работал в русском торгпредстве. Я так люблю Россию и скучаю по ней! Я надеюсь, что сейчас мне представится случай возвратиться на родину…
– «Представится случай»! – ухмыльнулся Саша. И вдруг закипятился: – А знаете ли вы… – Но осекся и сказал с досадой и несвойственной грубостью: – А ну его к чертовой матери! Какая у него родина!
Кажется, мы думали об одном и том же.
Как часто к случаю и без случая мы произносим святые, полные глубокого смысла и волнения слова. И смысл их стирается, слова доходят только до уха, а не до сердца.
И кто-то привыкает к этому с детства, и высокие слова не трогают его. Как бумажные цветы, как ватный снег. И так можно прожить всю жизнь и потом, на старости лет, сказать, как этот берлинский господин: «представится случай возвратиться на родину».
Но вот приходят испытания для тебя, для твоего народа, для твоей страны, и стертые слова оживают в первозданном значении. И люди идут с этими словами на смерть. И с ними побеждают все испытания. И с ними радуются победе и оплакивают убитых, с ними качают на руках новорожденного ребенка и поднимают из руин разрушенное.
И, наверно, никому из нас не нужно сейчас произносить вслух эти слова. Ни Саше, ни Ваде, ни мне, ни всем другим, кто пришел за тысячи верст от родных мест в Берлин. Эти слова у нас в самом сердце, а вернее – это даже не слова. Это – чувство родины…
Возле станции подземки работали наши санитары и врачи. Из-под земли выносили тела людей – стариков, женщин, детей. Выносили тех, кто прятался в метро в дни штурма города и которых затопили сами немцы.
– Своих! Как это можно! – поражался Вадя.
– Ты не был в Освенциме и под Фридляндом в Ламсдорфе, – отвечал Саша. – А мы были…
А на стенах домов – немецкие надписи: «1918 вирд зих нихт виедерхолен!», «Зиег одер Зибириен!», «Фюрер! Вир верден дир бис цум твой зайн!».[8]8
«1918 год не повторится!», «Победа или Сибирь»! «Фюрер! Мы будем верны тебе до конца!» (нем.)
[Закрыть]
Они начертаны масляной краской на стенах домов, на заборах, и их сразу не смоешь. Некоторые уже перечеркнуты мелом. Рядом с ними иные, наши, сделанные поспешной рукой солдата: «Мы в Берлине», «Конец!», «Будь здоров, фюрер, на том свете!».
– Как же очки? – вспомнил Саша.
– Да, да, очки!
Мы стали вглядываться в разбитые витрины. Есть же у них что-нибудь вроде наших магазинов «Оптика» или просто аптек. Одна улица, другая, пятая… Но нам ничего не попадалось. Опять очереди к солдатским кухням и за водой. Опять черемуха и газоны. Опять какие-то пришибленные люди, перехватывающие нас: «Капут! Гитлер капут! Аллес капут!»
– Пошли туда, – сказал Саша. – Может, там…
Перед нами была пустынная широкая улица. Дома – высокие, светло-серые, с конусообразными крышами. Многие целы. Вокруг развалин заборы и заборчики, щебень и стекла подметены и сложены в аккуратные кучки.
– Так это знаменитая Унтер-ден-Линден! – воскликнул Вадя, прочитав табличку на перекрестке.
Унтер-ден-Линден так Унтер-ден-Линден! Улица и в самом деле, видимо, главная. Может, здесь?
Первый квартал, второй.
– Вот, – заметил Вадя.
Из разбитой витрины на нас смотрели головы в очках. Какие-то аппараты, стекла, линзы и главное – очки.
– Подбирай!
Саша мерил очки подряд, одни за другими. Наконец, кажется, нашел:
– В самый раз.
– А ты хорошо проверил?
– Подходят, вполне подходят. Я прямо воскрес! Вот спасибо вам!
Теперь мы пошли дальше уже более бодро. Саша воспрянул духом, и в голосе его появилось что-то восторженное:
– Действительно, посмотрим этих. Ведь глупо же быть в самом Берлине и не посмотреть, правда? Кажется, там. Ближе к рейхстагу.
Рейхстага мы пока не видели, но по гулу выстрелов и дыму пожаров чувствовали – впереди еще шли бои. И, видимо, в районе рейхстага.
– А я все думаю, – продолжал Саша, – как это интересно: мы в Берлине! А ведь это же… Ну просто слов нет!
– Не понимаю, почему здесь так пусто. Посмотрите, ни души, – насторожился Вадя. – Может, не стоит дальше?..
Саша словно не слышал его слов:
– А тепло-то как! Надо без шинелей…
И правда тепло. Небо безоблачно. Только дымы пожаров тянулись к солнцу и закрывали его лучи. Но это там, впереди.
А над нами – голубизна. Она отражалась в лужах, и разбитых стеклах, и в Сашиных очках, которые он без конца поправлял на носу, вероятно, от полного блаженства.
Но что это? Очки полетели на тротуар, а сам Саша неестественно подался к стене дома.
– Саша, что с тобой? Саша!
Мы старались удержать его, а он все полз и полз вниз и шептал:
– Очки, мои очки…
Мы не успели понять, что и как произошло.
– Свистнуло. Я слышал, что-то свистнуло. – Вадя пытался расстегнуть Сашину шинель, но Саша не давался.
Он прижал руку к груди и повторял одно:
– Очки, очки… Они очень подходят… Опять… Как же я в наряд?.. Опять без них?.. Чепуха какая-то…
– Наконец-то вроде передых! – произнес Володя.
Он только что, как и все ребята, поужинал.
– Погуляйте немного, – сказал младший лейтенант Заикин.
– Не нравится мне эта тишина, – заметил комвзвода Соколов.
Я дежурил у наших машин. Вадя принес мне из штаба пузырек туши. Ребята раздобыли кусок фанерки:
– На, пока не стемнело.
Действительно, пока еще не стемнело. Я приткнулся на подножке машины фотовзвода и стал выводить тушью: «Здесь похоронен разведчик-артиллерист, комсорг Баринов Александр Иванович, рождения 1925 г. Погиб в Берлине 2 мая 1945 г.».
В эту ночь мы похоронили Сашу. В эту же ночь мы узнали по радио из Москвы, что Берлин полностью капитулировал.
– А что, если мы… ну, распишемся. Или, как это называется? Тогда…
Я говорил всерьез. Пусть война, пусть мы на фронте, но и тут – наша власть. Для меня она в высшем своем выражении – майор Катонин. Для Наташи…
– Правду я говорю. Хочешь, к нашему комдиву пойдем, хочешь, к твоему полковнику, как его фамилия – Шибченко?
Я говорил, чтобы не только как-то успокоить ее и ответить на ее «а что теперь будет?», произнесенное вот уже дважды: тогда в Лигнице и теперь в Ризе. Война кончается. Берлин позади. Он капитулировал и, значит… Ну сколько можно ждать? Хватит всего: и разговоров, и шуток, и глупых острот! Неужели нельзя решить всерьез того, что всерьез?..
Город был наводнен союзниками, но не теми, кто пришел в Европу с долгожданным вторым фронтом. Эти союзники, освобожденные из немецких лагерей нашими, надевшие форму и старые воинские регалии, не представляли сейчас никаких армейских соединений, а ждали. Ждали нашего очередного прорыва на Эльбе. Ждали, чтобы наконец-то попасть к своим.
– Что же ты молчишь?
– Я просто рада, что мы опять увиделись… И что ты… здоров! – Она улыбнулась. – А ты чудо! Разве мы уже не расписаны?.. – Она показала на реку: – Смотри, как красиво!
Через Эльбу по понтонному мосту шли войска и техника. Там, за рекой, – плацдарм, на котором мы работали вчера, и позавчера, и сегодня утром. Из Берлина мы сразу же попали сюда, и хорошо – здесь я встретил ее. А ведь я не видел Наташу даже в Берлине.
– «Вильгельмина». – Наташа прочла вслух название одной из самоходных барж. Их было много, и все стояли на приколе: «Вильгельмина», «Любек», «Дрезден», «Валькирия», «Росток», «Барбара». – А городок какой… – добавила она.
Да, городок Риза ничего, но не о нем думала сейчас Наташа. И я думал не о нем.
Как все просто было в Москве, и – смешно! – что тогда это казалось совсем не простым. Не просто было позвонить по телефону, или дождаться ее у Дома пионеров, или поехать на Пятницкую, или назначить встречу у наркомата на Петровке. А ведь как это просто в сравнении с сегодняшним… Мы не виделись неделями, не знали ничего друг о друге, и вот она сказала: «И что ты… здоров». Здоров! Я знал, что она хотела сказать: «Жив». А я? Я смотрел сейчас на нее и не верил своим глазам и самому себе. Мы оба, может, самые близкие люди в этой Ризе.
– А у вас как сейчас? – спросила она.
– Развертываемся и свертываемся по десять раз в сутки, – сказал я. – Вот Саша… А раньше Шукурбек…
О гибели Шукурбека и Саши я уже рассказывал ей. Она все знала. И сейчас я клял себя: зачем опять? Вспомнил Сашу, Шукурбека, а она теперь вспомнит Геннадия Васильевича? Зачем? Зачем?
– А ты ничего не слыхал о новом немецком оружии?
Слава богу, она говорит о другом и спасает меня.
– О каком?
– О бомбе какой-то. Как она называется? На энергии урана.
Она говорила о том, о чем мы слышали уже не раз. Там, перед Одером, и после. Но мало ли о чем говорили? Какие слухи не ходили в это время?
– Слышал, а что?
– Да, вспомнила. Атомная она называется. Атомная бомба. Знаешь, что Гитлер сказал недавно? «Да простит мне бог последние четыре дня войны».
– Да, да, – сказал я, вспомнив, что слышал и об этом.
– Так вот, он эту бомбу имел в виду. А американцы выкрали, говорят, эту бомбу, и не только бомбу, а и ее изобретателей!
– Здорово! Представляешь, теперь они их же бомбу против немцев применят!
Мы жили иллюзиями.
Меня окликнули.
Младший лейтенант Заикин галантно извинился перед Наташей:
– Простите, коллега младший лейтенант.
– Вот, а ты говоришь! – сказала мне Наташа, хотя я ничего не говорил.
– Построение дивизиона. Комдив приказал. Из корпуса будут. – Заикин говорил загадками.
Через пятнадцать минут мы стояли на площади перед кирхой. Командир корпуса называл фамилии:
– Майор Катонин.
– Служу Советскому Союзу!
– Капитан Сбитнев.
– Служу Советскому Союзу!
– Капитан Викулов.
– Служу Советскому Союзу!
– Старший лейтенант Федоров.
– Служу Советскому Союзу!
– Рядовой Ахметвалиев.
– Погиб смертью храбрых!
– Рядовой Цейтлин.
– Служу Советскому Союзу!
– Ефрейтор Протопопов.
– Служу Советскому Союзу!
– Рядовой Баринов.
– Погиб смертью храбрых!
– Сержант Кочемасов.
– Погиб смертью храбрых!
– Служу Советскому Союзу! – звучало на площади. И еще: – Погиб смертью храбрых!
И опять не было среди всех только одной фамилии – лейтенанта Соколова.
Он стоял с нами в строю, он кричал после речи командира корпуса «ура!», как и все мы. Он поздравил нас после команды «разойдись!».
А мы… Мы прятали глаза в сторону…
– Слушай, как ты считаешь, мы завтра еще проторчим тут?
– А кто его знает. А что? Случилось что-нибудь?
– Да нет. Ничего особенного. Май, понимаешь ли, так пора посылочку тряхнуть домой. Сейчас в наряд. Думал, завтра утречком…
Володя сверкал глазами и медалью «За боевые заслуги».
– Пора старичков порадовать с Берлином. И потом, как думаешь, если я за Сашку пошлю? Пока там до полевой почты сведения дойдут, а у меня, понимаешь ли, как раз на две посылки. Ему-то что сейчас… Все равно…
– Ну и сволочь же ты! – Я не выдержал. – Барахольщик! Мерзавец!
– По машинам! – донеслись до нас слова комдива.
– По машинам! – повторил Заикин.
На улицу выскочил Соколов:
– Быстро давайте! Собирайтесь! Быстро!
Мы считали, что едем за Эльбу. И верно, выехали на набережную, но возле понтонного моста творилось непонятное: наши войска двигались обратно в Ризу. Почему? Ведь там, впереди, должно состояться наступление. Там готово все, даже довольно приличная опорная сеть, над которой мы трудились трое суток. По опыту предыдущих работ мы знали: такая опорная сеть и привязка готовятся для серьезных прорывов. Что же случилось?
Ни Заикин, ни Соколов ничего не знали.
– Союзнички, – мрачно бросил Катонин во время очередной остановки.
Теперь мы двигались влево по берегу Эльбы. Риза позади. Вокруг – красиво, но, когда обстановка неясна, красота как-то не воспринимается. Крутые берега. Сосны. Песчаные холмы. Отменная дорога. Красиво! И все же…
– А что – союзники?
– Что, что! – не выдержал Заикин. – Место уступаем.
– А наступление? Наше?
– Разведка боем была. Драпанули фрицы, а там – и американцы. Теперь нашим команда: до Эльбы американцев пустить. Вот и…
Кто-то удивился.
Кто-то не расслышал.
Кто-то дремал.
Кто-то матюгнулся.
– Разговорчики! Хватит душу травить! – не выдержал Соколов, разбудив дремавшего рядом с ним Володю.
– Что? – Тот даже подскочил и пытался схватиться за карабин.
– Отдыхай, отдыхай, – мягко сказал Соколов. – Ничего. Показалось.
…Шел дождь. Низко висел туман. Гор не видно, но они где-то рядом с нами. Горы, холмы, высокие, как летом, травы. Мы промокли насквозь и в этих травах, и под дождем.
– Какая сейчас работа!
Ребята ругались. Ругались офицеры. Но дело делом: впереди Мейсен, в нем засели фольксштурмовцы.
– Что еще за Мейсен? – недоумевал Вадя. – Берлин взяли – и вдруг?
Его услышал Соколов:
– Не хныкать! И так мокро. А Мейсен, к вашему сведению, город, и немалый…
Мы выполняли функции пехоты. И не только мы – рядом артиллеристы, саперы, наводившие переправы на Эльбе, новички двадцать седьмого года, не догнавшие свои будущие части. Мы ползли вдоль дороги по прохладной мокрой траве навстречу редким выстрелам.
Сто метров. Выстрелы и разрывы фаустпатронов не стихали.
– Не стрелять! Была команда не стрелять! – басил Соколов. Он, кажется, простужен, и мы с трудом узнавали его голос.
Но никто из наших и не стрелял.
В темноте я наткнулся на что-то холодное и мягкое, и только когда прополз мимо, понял.
– Фриц какой-то, готовый уже, – сплюнул Володя, ползший по соседству со мной.
Теперь мы видели город. Кирхи среди гор и крыши домов, асфальт в свете разрыва, еле заметные огни в редких окнах. Слышно, как устало шелестит листва деревьев, и опять вспышки – одна, другая, третья. Откуда-то сверху, из города. Это – по нас.
Вадя сопел, тяжело дышал.
– Наверно, глупо вот так погибнуть здесь, после Берлина? А? – произнес он, когда мы залегли по команде комвзвода возле какой-то ограды. – А я и про медаль маме не успел написать.
– Брось глупости!
Вадя промолчал. Но я знал, о чем он думал: «А Саша?»
Позади нас на дороге раздался цокот копыт, ржание и стук колес.
– Теперь всё в порядке, – весело произнес комвзвода.
– А что, товарищ лейтенант? – оживился Вадя.
– Сейчас ударит батарея, а затем – наша очередь, – сказал Соколов.
Батарея ударила вскоре. После пережитых нами артподготовок это был довольно слабый удар. Четыре легких пушки будто щелкали орехи, посылая снаряды через наши головы на город. Но Мейсен сразу притих. В туманном воздухе что-то забелело. В окнах и на колокольне одной из кирх появились белые флаги.
– Теперь вперед!
Мы повскакали с земли и бросились в город.
– У-р-ра!
Но чем дальше мы пробирались по улицам города, тем больше понимали, что «у-р-ра» ни к чему. Город молчал, и только одинокие жители у домов с белыми тряпками в руках без конца повторяли: «Капут! Аллес капут! Капут!»
И вдруг на центральной площади – автоматные очереди из окон.
– Туда! – крикнул нам с Вадей оказавшийся рядом младший лейтенант Заикин. – Быстро наверх!
Он бросился вперед в подъезд, мы – за ним.
На площадке второго этажа Заикин распахнул дверь квартиры, а нам приказал:
– Выше! На третий! Я сам!
Дверь квартиры на третьем этаже была приоткрыта. За дверью слышался грохот и автоматные очереди.
– Тише! Только тихо! – Я остановил Вадю. – И не пыхти!
Вадя дышал как паровоз:
– Я не пыхчу… Но понимаешь…
– Замолчи!
В темной квартире продолжали стрелять. И среди выстрелов – голос, женский, почти истеричный: «Что-то!» или «Отто! Отто!» Я не успел разобрать, ибо услышал шаги на лестнице – это бежал Заикин.
– Давай! – Я крикнул и схватил Вадю за рукав шинели, толкнув ногой дверь. В квартире было темно, хоть глаз выколи, и я уткнулся дулом автомата во что-то живое, теплое и услышал женский визг и крик, когда Вадя выстрелил из карабина слева от меня в открытую дверь.
– От-то! Майн готт, От-то! – закричала полная, грудастая женщина, с которой я столкнулся в темном коридоре, и бросилась в комнату – более светлую от распахнутого окна.
– Я убил его. Кажется, убил, – виновато бормотал Вадя, вставая с пола.
Он раньше оказался в комнате, где у окна лежал цивильный немец в пижаме и рядом – автомат и разбросанные на подоконнике и на полу диски.
Влетел Заикин с фонариком и пистолетом в руках:
– Что? Ну? – Он оттолкнул кричавшую женщину, посветил на убитого – старичок, седенький, заметил я, – потом на нас.
– Это я его убил, – повторил Вадя. – Но он стрелял, товарищ младший лейтенант! Понимаете ли…
– Подожди! – перебил его Заикин и тут же крикнул ревущей женщине: – Да заткнитесь же вы!
Женщина, испуганно всхлипывая, забилась в угол.
Комбат перевернул тело убитого, потом осветил фонариком комнату, – судя по всему, что-то обнаружил, – и опять вернулся к трупу старичка:
– Смотрите, а ведь это генерал. Вот на фотографии и здесь – одно лицо. Надо было живьем его брать, ребята, живьем!
Вадя оправдывался:
– Он же стрелял, товарищ младший лейтенант… И темно. Разве узнаешь, что генерал. И в пижаме…
– Ну, скажу вам, ребятки! Вот она – заграница! Уж если есть заграница, то здесь!
Володя, конечно, прав. Хоть и неприятен он мне сейчас и голоса его я не переношу, он прав. Гарта, курорт Гарта – очаровательное место.
Очаровательное! Во-первых, здесь не местность, а пейзаж. Во-вторых, тут не дома и даже не виллы, а – замки. В-третьих, в этих местах не только мы, а и солидный современный историк не найдет ни одного признака войны. В-четвертых…
В общем, что говорить в-четвертых, поскольку все это или сон, или просто мы прибыли в Гарту по недоразумению. То, что мы узнаем на месте («Дрезден в восемнадцати километрах», «Знаменитая галерея, знаете, так там»), лишь еще больше растравляло Вадю:
– Война! Дрезденская галерея! Эта Гарта! Сказка! Чудеса!
Вадя и так обалдел после истории с генералом. И хоть генерал оказался не ахти какой знаменитый – железнодорожный, и то в отставке, – Вадю все поздравляли, шутили над ним, а Вадя все принимал всерьез и был страшно горд.
– Я ведь сразу, как мы вошли с ним в квартиру, почувствовал, – без конца рассказывал Вадя. – Не может быть, чтобы простой житель и с автоматом… А тут еще жена его закричала… Я в комнату… Вижу, стреляет… А сам старенький такой – прямо мирный старичок… Я карабин – и в него… Темно, но все же попал… Младший лейтенант Заикин говорит: прямо в грудь, через спину прошло… Потом младший лейтенант посветил фонариком… Говорит, генерал…
Красота Гарты красотой, но сейчас всем хотелось спать. Хотелось всем, и все хитрили: ведь кому-то заступать на дежурство. Но мелкие страстишки действительно мелки, да и как их проявишь!
Мы заступили в наряд: Вадя – у штаба дивизиона, я («Черт возьми, это превосходно!») патрулировал у наших («у наших!» – назло их бывшим высокопоставленным владельцам!) замков. Вокруг горы и освещаемые фарами машин дороги, а в небе звезды и луна – холодно-реальная, безмятежная, выше нас всех стоящая.
– Спокойной ночи, товарищ младший лейтенант!
– Будь здоров!
– Спокойной ночи, товарищ лейтенант!
– Ладно. Смотри тут. А кто тебя сменяет?
Я называю кто.
– А ты чего хромаешь?
Я, верно, немного прихрамывал вот уже с месяц. В ноге что-то покалывало, иногда ее сводило, но я старался не замечать этого. Может, после того ранения в Польше? Осколки?
– Да я не хромаю…
– Ну, будь!..
И тут почему-то я начинаю думать совсем не о том – о ней. Я хочу ее видеть, хочу быть вместе…
Я не знал одного – где она? В Ризе? Наверно, там уже союзники, но не те, которых мы с ней видели, а другие. Впрочем, видимо, как раз «те» – настоящие наши союзники. А другие, которые придут, – в этом еще надо разобраться. «Те» были наши, поскольку по-настоящему хлебнули всего и оказались живы-здоровы благодаря нашим – нашим пехотинцам, саперам, артиллеристам, танкистам… Другие – это второй фронт, а уж коль скоро он становится поводом для анекдотов, это не лучший признак.
Но странное дело – и говоря, и думая о «тех», никак не можешь уберечь себя от мысли: «А почему так? «Они», освобожденные из лагерей военнопленных и даже из концлагерей, сохранили человеческий вид, а как другие, наши? В Освенциме? И не только в нем. Под Фридляндом, в Ламсдорфе, и не только там? Они – мы только что видели это в Ризе – сразу же надели военную форму и ждали прихода своих, а наши, свои, лежали на нарах, и мы выносили их, нечеловекоподобных, на свет, и они умирали, не осилив радости освобождения. Умирали, получив еду. Умирали, увидев свет. Умирали, поняв, что все страшное кончилось».
Тут, не успел я еще решить для себя что-то определенное, ясное, началась дикая стрельба. Ружейная. Автоматная. Пистолетная. Взлетали в звездное небо трассирующие пули и ракеты – желтые, красные, зеленые. Каждая, имеющая свой глубокий военный смысл, – но почему их так много и все сразу?
Наши выскакивали на улицу, спрашивали о том, что случилось, и я пока ничего не мог им ответить. Выскакивали офицеры и солдаты. Выскакивали одетые и полуодетые. Выскакивали в одном нижнем. Но с оружием в руках.
А Гарта вокруг неистовствовала. И не только стреляла, а и кричала – дико, восторженно орала сотнями голосов:
– Капитуляция! Капитуляция! Капитуляция!
Я слышал теперь явственно, точно, но еще не верил, хотя и отвечал нашим последним, опоздавшим:
– Кажется, капитуляция…
Наши тоже начинали палить в воздух.
– Товарищ лейтенант! Неужели? – окликнул я оказавшегося рядом Соколова.
– Да, да… – говорил он. – Кажется, всё теперь… Конец!
А стрельба, и ракеты, и дикие выкрики – все сливалось вокруг в какой-то радостно-сумасшедший рев-грохот.
– Ты чего стоишь как сыч? – Володя бросился ко мне, обнял, приподнял. – Победа, ребятки, победа!
Подбежал Вадя:
– Неужели? Ведь это!.. А тебя не сменили?
Кажется, сменить меня в этой суматохе забыли. Вадя уже свободен, а я еще на посту.

Вся Гарта бесновалась. Палила в воздух. Плясала. Откуда-то появились гармошки, баяны, аккордеоны. Солдаты постарше, не чета нам, плакали:
– Дожили!.. Дожили!..
Офицеры перемешались с солдатами, солдаты – с офицерами. Не разберешь, где начальство, где подчиненные.
Вдали слышны звуки духового оркестра. Странные, неточные звуки, вразнобой наигрывающие мелодию знакомой песни:
Белоруссия родная!
Украина золотая!
Ваше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим!..
Оркестр с толпой солдат двигался по улице. Звуки музыки слышались всё громче. Вот они уже где-то рядом.
Я смотрел в даль улицы. Оркестр – три солдата: две трубы и барабан, – величественно шел по мостовой, обрастая толпой. Гремела только музыка, а я уже бормотал про себя слова:
Ваше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим!..
Странно, но надоевшая до чертиков в Гороховецких лагерях песня звучала сейчас совсем по-иному.
В шуме и сутолоке я услышал свою фамилию. Видно, вспомнили, идут сменять.
Я поднял над голвой автомат, махнул:
– Я здесь!
– Смотри, кто! Смотри!
Ко мне протиснулся Володя. А за ним – старший лейтенант Буньков и Макака.
– Вроде опоздали мы с Петровым… Ну, поздравляю! – Буньков неожиданно трижды расцеловал меня. – А лейтенант где? Соколов?
– Только что тут был…
– Ты иди! Я тебе на смену, – сказал Володя. – Забыл!
Мы пошли вместе с Буньковым и Макакой, не слыша друг друга, с трудом пробиваясь через толпы солдат.
– Мы вас вторые сутки догоняем, – шепнул мне на ухо Макака.
– Я сейчас поищу его. Может, он здесь, – пообещал я Бунькову, когда мы наконец-то добрались до дома, где разместился наш взвод. – Подождите минуту…
Через обвитую плющом калитку я побежал в дом. Комнаты пусты – и первая, и вторая, и третья. Конечно, сейчас все на улице. Я обежал комнаты первого этажа и вспомнил: может, на втором? Соколов, Заикин и старшина батареи обосновались там. По мраморной лестнице поднялся на второй этаж. В заикинской комнате пусто. В следующей…








