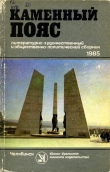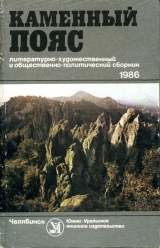
Текст книги "Каменный пояс, 1986"
Автор книги: Сергей Журавлев
Соавторы: Юрий Зыков,Владимир Курбатов,Николай Верзаков,Александр Куницын,Лев Леонов,Рамазан Шагалеев,Николай Егоров,Виктор Петров,Михаил Шанбатуев,Лидия Гальцева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Меня самого удивляли последствия моих поступков, но именно последствия, а не причина. Если бы кто-то сказал в то время, что я становлюсь пьяницей, я бы рассмеялся тому в лицо. Какой же я пьяница – хочу пью, хочу не пью. Вот поступлю на работу, и питью конец. И всегда-то мужики в простое время бражничали.
Когда началось пьянство? Когда перешло в болезнь? Я часто задавал себе этот вопрос впоследствии и не мог точно на него ответить.
Извини, я непоследователен – мысль петляет и делает скидки, как заяц перед лежкой, – это следствие моей болезни, и тут уж ничего не поделаешь. Я забуду, может быть, к вечеру подробности нашего разговора, но отлично буду помнить, что было в прошлом, до большого угара, о котором теперь не могу вспомнить без содрогания.
История человечества хранит бездну примеров самого гнусного содержания и самого низменного свойства, порожденных пьянством. Казалось бы, что проще? Учти примеры эти, слушайся добрых советов – и все. Но в том-то и закавыка – каждый желает поступать, исходя из собственного опыта, а когда наберет его, бывает уже поздно.
Прислушайся, сколько говорится умных речей, пишется трактатов и ученых опусов о том, что пить вредно. Так отчего же толку нет? Отчего люди не возьмут да и не бросят пить вдруг раз и навсегда, если так вредно? А потому, друг мой, что из пропагандистов трезвости мало кто сам верит в то, что говорит. То есть верит, конечно, в безусловный вред горького пьянства – тут нет защитников, – а в начало начал его, во вред первой рюмки – никто, даже поощряют. Кто осудил первую? И литературных примеров тут тьма. Возьми-ка, братец, Омара Хайяма: «Вино запрещено, но есть четыре «но»: где, кто, когда и в меру ль пьет вино...» То есть и тысячу лет назад, и раньше люди оставляли себе лазейку. Из этих четырех «но» такой пролом получается в теории трезвости, что идет туда человек и обратно уж не возвращается. Кроме иноземной мудрости у нас и своей хоть пруд пруди: «Пьян да умен – два угодья в нем». То есть выпил три стакана да выстоял – молодец и герой, упал на четвертом – дурак из дураков, забулдыга и сукин сын. Слишком уж тонка прослойка между молодцом и дураком и, главное, не там поставлена. Отодвинуть бы ее надо в самое начало, перед первой рюмкой поставить. Сколько бы толку вышло тогда без лишних речей и трактатов, без неистовых страстей и напрасных слез! А так – воду в ступе толочь. Трезвого удержит (так он и без того не пьет), а нашего брата – нет. Пропьет последнюю копейку, украдет, обманет друга, если бы мог продать свою жизнь, так и ее пропил бы. Да и пропивает в рассрочку, расплачиваясь здоровьем, да если бы только своим...
Говорят, любовь сильнее жизни, ибо ради любви часто человек жертвует жизнью. Алкогольная страсть убивает все, даже любовь. Трагедия моей любви, выражаясь высоким слогом, не была слишком долгой. Закончилась она в какие-нибудь два года после приезда в город. Я поступил в экспериментальное бюро конструктором, посидел на деталировке, потом на узлы перешел, даже выдал один несложный проектец. С этого времени могла бы начаться серьезная творческая жизнь, но кончилась не начинаясь.
Наше бюро соревновалось с соседним, ребята не на шутку рвались вперед, дрались за первое место, а я не испытывал желания оказаться впереди, их порывы мне не были близкими, – все свободное время проводил в иной компании. Приходил на работу иногда с тяжелейшего похмелья, день казался мучительно долгим, и все мысли сводились к одному: скорей бы за проходную да опохмелиться. Некоторое время мне все сходило с рук, однако затем стал получать вначале мягкие замечания, потом выговоры и предупреждения один строже другого. Прикрепили ко мне шефа для индивидуального воздействия. Это был безотказный работяга, способный конструктор одних со мной лет, но несравненно ниже по развитию, что я и не замедлил подчеркнуть. Задал ему вопрос по ходу дела из гидродинамики, он не мог точно ответить. Тогда я прочел часовую лекцию. Дело было в перерыв, и половина бюро оказалась слушателями. Мой шеф был посрамлен, а в мой адрес кто-то отвесил: «Какая голова дураку досталась». После этого надо было или бросить пить, или уйти. Ушел в отдел снабжения, поработал в технической информации, учителем военного дела в ПТУ – где месяц, где два, а где только до первой получки.
Анюта вначале взывала к совести, пыталась оторвать от «друзей»; поняв тщету усилий, бросила и замкнулась в себе, но только до тех пор, пока я мог обходиться своими деньгами. Когда же запустил руку в ее карман, начались скандалы. Чтобы избежать их, я уходил утром, возвращался поздно и сразу ложился, если недобирал той порции, после которой тянуло на подвиги или к философским обобщениям. Тогда усаживал на колени Петьку и заводил с ним разговор: «Скажи, Петруша, хороший у тебя папа? Хороший. А мать говорит – плохой. А почему? Хочет тебе другого отца завести. Тебе надо другого? Тебе не надо, а она молчит, значит, ей надо, потому что молчание, Петька, знак согласия». Подобные рассуждения обычно кончались тем, что Анюта брала сына и уходила с ним из дому.
Мне стало казаться, что у Анюты и в самом деле есть на стороне мужчина, встречи с которым она тщательно скрывает от меня, прибегая к различным уловкам и сатанинской хитрости.
Вначале я гнал эту вздорную и недостойную мысль, но она все чаще преследовала, стала неотступной и навязчивой.
Анюта работала в отделе технолога. В то время завод переходил на новую модель машины и отделы спешили выдать техническую документацию. Ей приходилось задерживаться, а иногда прихватывать выходной. Мне объяснения о задержках казались пустой отговоркой, чтобы скрыть истинную причину отлучки.
В это время можно было еще поправить дело, сохранить семью, но тут я сделал то, после чего нормальные отношения между нами стали невозможными. Я продал ее кофту из какой-то редкой шерсти – мой подарок ей в годовщину свадьбы. «Теперь не будет ходить в ней на свидания, – думал я, ослепленный ревностью, – смеются там надо мной».
После этого случая Анюта унесла к подруге те немногие вещи, которые можно было унести и которые что-то стоили. С этого момента началось мое безудержное падение, хотя и пытался еще ухватиться и задержать его, но слишком большое было набрано ускорение.
Помню, меня выгнали из пожарки – последнего прибежища – за прогул после получки. Началась беспорядочная жизнь. Я редко показывался дома, выбирая для этого время, когда жена находилась на работе.
А теперь представь мое новое окружение. Тут были все бывшие. Бывший экономист, бывший учитель, бывший поэт и все в том же роде. И еще представь полуподвал, где в самом живописном беспорядке и в самом непринужденном положении все эти бывшие просыпаются среди обшарпанной мебели, пустых бутылок и объедков, окурков на заплеванном полу и воздуха, от которого свежему человеку тут же обнесет голову. Стон, рык, стенания.
Эти рожи мне невыносимо противны, но без них уже не могу, от них зависим – пью с ними и должен по тем понятиям чести вносить свою долю в это общество. Тут я был мало удачлив. Прошел все заводы, фабрики, мастерские, артели, меня там знают и нигде не берут, считая (и совершенно обоснованно), что я удержусь только до первой получки. Остается случайный заработок: погрузить, снять с машины мебель, занести в квартиру, зайти в магазин с черного хода, пользуясь правом грузчика, достать желаемое покупателю без очереди и – получить три или пять рублей. Но все это очень неопределенно, будет или нет, а если будет, то когда? Внутри же горит, требует плеснуть в пекло немедленно, чтобы встать, чтобы появилась хоть какая-то мысль.
День, как назло, сер, сверху сыплется мразь, под ногами хлипко. Удручающая тоска, одно желание: «плеснуть на каменку» – и одна мысль: где достать? Господи, неужели ты не видишь муки мученические? Если пугают верующих адом и если он есть, то теперь-то что со мной? Неужели же бывает хуже? Люди умирают иногда мгновенно, иногда осмысленно, с сознанием, – значит, не мучаются. Что же со мной-то теперь? Это ведь хуже смерти.
По канаве течет мутный поток, обтекает бутылку. Останавливаюсь на мгновение, оглядываюсь воровато, достаю бутылку, прямо с водой сую в карман и иду. Стыдно, я еще не опускался до собирания бутылок. О, черт, даже пот выступил. Хорошо, что вокруг никого. Больше так низко падать не буду, только сегодня. Надо же выйти из кризиса, иначе сойдешь с ума. Вон что-то тускло поблескивает... ага, опять бутылка! Еще бы одну – и кружка пива. Нет, пора завязывать, так нельзя. Вот бы увидела Анюта, или вдруг кто-то бы приехал из полка, к примеру, мой командир капитан Рублев. Здравствуйте! Что с вами?.. Нет, все что хотите, только не это. Неужели я так пал? Впрочем, уже сказал, что не буду. Вот только кружку пива... Конечно, придется нелегко, но я преодолею, хватит силы воли. К черту бывших поэтов, учителей и экономистов. Я сам себе учитель и кое-что еще значу, сбрасывать со счета меня нельзя...
В пивном зале подаю нагретую в кулаке мелочь. Буфетчица явно недоливает до положенной отметки, и пес с ней – пусть захлебнется глотком принадлежащего мне пива. Отхожу в сторонку, пиво плещется – рука дрожит. Не сдувая пены, делаю два судорожных глотка, потом еще два и чувствую, как чудотворным бальзамом оно прошло будто по ошпаренной поверхности, утишая боль. Закрываю глаза, стараюсь не пропустить секунды блаженства, ради которых претерпел столько мук. Не спешу, знаю, оно продлится недолго, и стараюсь растянуть.
Ну вот, теперь, по крайней мере, могу соображать, что к чему. Иду к горсправке, там можно посмотреть, куда требуются рабочие. Возьму завербуюсь в Сибирь на стройку – и конец беспутству. Сибирь, Север почему-то всегда привлекали меня своей романтической стороной еще в детстве, и в минуты крайностей мне начинало казаться бегство в те края искуплением, способным покрыть мои грехи.
В горсправке получил всю информацию о стройках, жаждущих моих мускулистых рук. Худосочием я никогда не отличался и, если помнишь, в дни юности двухпудовой гирей забавлялся, как мячиком. Из всех мест я выбрал район вечной мерзлоты – чем суровей, тем лучше, – Север живо вышибет дурь.
Решение принято, а это главное. Теперь только добыть бы денег и угостить на прощание моих ненаглядных собутыльников, да и себе устранить девиацию, то есть ввести поправку в показания компаса, чтобы не уклониться от курса. Дома у меня кое-что еще есть, не потащу же с собой на кулички. Да к тому же потом у меня будут деньги и обзаведусь необходимым, иначе зачем ехать?
Отправился домой с твердым намерением начать новую жизнь. Анюта достаточно умна, чтобы понять и оценить мой шаг. У меня хватит решимости выйти из крутого пике боевым разворотом и занять господствующую высоту. И тогда жизнь у нас с ней впереди без сучка и задоринки, а над нами – ни облачка.
В это время дома никого не бывало – она в своем отделе корпела над технологией какого-то грейдера, а Петька находился в садике. Я намеревался продать костюм, который надевал раз пять и который в связи с предстоящей поездкой потерял для меня всякое значение. В самом деле, зачем напрасно вводить в искушение моль во время моего отсутствия?
Открыл шкаф, костюма там не оказалось, впрочем, не оказалось еще двух-трех моих вещей, имеющих какую-то ценность. Спрятала? Ну, погоди же! Во мне закипел гнев. Тем хуже для тебя, – думал я, сильно мучимый желанием выпить. Значит, так ты со мной поступаешь. Ладно. Но ты ошибаешься, голуба, если считаешь, что мне можно безнаказанно наступать на хвост. И тут меня осенила мысль, от которой вначале вздрогнул. Потом подошел к столу, открыл шкатулку, взял из нее желтый кружочек и быстро вышел, уже искусственно подогревая в себе гнев, чтобы не дать пикнуть совести и не повернуть обратно.
Через пару часов мы с бывшим поэтом сидели в небольшом ресторанчике на берегу реки. Поэт горячо одобрял мое решение поехать на стройку. После второй стопки руки его перестали трястись, в глазах появился признак жизни, он с чувством продекламировал:
Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробуждение,
А должен наконец проснуться человек...
– Хорошие стихи: должен проснуться человек. Верно! – похвалил я, проникаясь к нему под действием нахлынувшей вдруг теплой волны дружеским чувством.
– Не мои, нет, – движением руки он словно бы отринул стихи от себя, – продукт гения!
– Все равно хороши. Давай еще по одной, а?
– Идет! А у меня, Миша, тоже есть кое-что, только ходу не дают. А почему зажимают? Издай мои стихи, так все наши поэты сразу мне по плечо окажутся, да-а! А тебя люблю, ты едешь писать историю делом. Слушай, давай вместе, а?
– Конечно! С таким как ты – милое дело, и вообще вдвоем всегда лучше, чем одному.
Мы обнялись и выпили на брудершафт. Еще через полчаса поэт, не в силах преодолеть приступ красноречия, восклицал:
– А ты – дрянь! Пропить у жены золотую медаль – это, прости, скотство... Все, что хочешь, но святыню...
Мои кулаки сжались.
– Милая девочка зубрила ночами: через любую точку плоскости проходит один, и только один перпендикуляр к данной прямой. Ха-ха-ха-ха!
Ресторанная прислуга пришла в движение. Маленький дебош грозил перерасти в большой скандал. Я уже был достаточно опытен по этой части и знал, что надо немедленно убираться. Бросил деньги на стол, улыбнулся, как мог, официантке:
– Извините, вышло недоразумение.
Поднял за ворот поэта и выволок на свежий воздух. Там я отбил ему охоту к критическому разбору моих семейных отношений, и он покорно побрел за мной. Уличная прохлада благотворно повлияла на него.
– За что ты меня так, а? – он подвигал рукою челюсть, – ведь это я – дрянь, – и заплакал: – Эх, Миша, я – настоящая дрянь и дерьмо. Думаешь, издадут мой сборник? Знаю, что нет, а признаться горько...
Мы помирились, наскребли еще на пару бутылок и отправились восвояси.
Все оказались «дома» и в том состоянии, когда до полного счастья не хватало чуть-чуть, поэтому наше появление с парой «пузырей» было встречено с восторгом.
Мне хотелось угостить этих людей. Они и сами не скупились и умели поставить ребром последнюю копейку, лишь бы она завелась в кармане. Они меня научили ни во что ставить деньги, если они не представляли собой эквивалент выпивки. Вообще, под хмелем я был страшным транжирой. Отчего?
Война захватила мое детство. В любой день и час я мог ответить утвердительно на вопрос: «Хочешь ли есть?» Тогда мы мечтали о хлебе как о высшем возможном благе. По всем канонам, если я не умер от голода, из меня должен был выйти бережливый и вполне порядочный с житейской точки зрения человек, но у пьющего свое мерило ценностей.
– Он едет завтра на Север, – сообщил обо мне поэт. Мое решение было воспринято самым доброжелательным образом.
Меня поздравили от души. Все приободрились, словно мое решение как-то влияло и на их жизни.
– Им, букварям, доказываю, что хозрасчет на данном этапе производства – абсурд, – возобновил свой разговор экономист, и учитель кивал ему головой, думая о чем-то своем.
Верилось в математические способности экономиста, В будущую книгу поэта, в диссертацию учителя и в себя. Завтра утром кое-какие формальности, скорый поезд – и прощай, прошлое.
Никуда я не уехал. Беспрерывное пьянство, жилище, не содержащее чистого воздуха, и, главное, бездеятельность начали перемалывать мое «чугунолитейное» здоровье. Минуты просветления случались все реже и реже.
Это мое бродяжничество, эта жалкая вольница были, разумеется, постыдны, но тогда я так не думал. Во-первых, потому, что все еще пьянство считал делом временным, только на сегодня, в крайнем случае на завтра, но эти сегодня-завтра складывались в долгие недели и месяцы; во-вторых, отвык постепенно от работы и, что хуже всего, безделье начинало нравиться.
Я опускался все ниже и ниже и перестал реагировать на мнение окружающих. Когда какая-нибудь, как казалось мне, благоразумная посредственность кидала вслед обидные слова, я думал: лучше захлебнуться водкой, чем морить окружающих скукой, какую распространяла эта посредственность, боящаяся более всего промочить ноги и застудить горло. Мне казалось, чрезмерное благоразумие всегда держало таких людей в обозе, и они не способны кинуться первыми в бой, рваться в штыковую атаку.
Окружение было нисколько не лучше меня. Все пьют, – думал я, видя перед собой только пьющих. Со временем я столько накуролесил, что угрызения совести и стыд не дали бы житья, если бы я не гасил их очередной попойкой.
Больничные койки, врачи-наркологи на время вырывали из беспросветного пьянства, вносили вспышку во тьму – я становился как бы нормальным человеком, а потом начиналось все сначала, усугубляя положение. Я шел, как и подобные мне, по нисходящей спирали, опускаясь с каждым витком ее все ниже и ниже, пока не оказался на самом дне.
Вот тут, на самой последней черте, когда некуда больше падать, пьющий вдруг осознает, что он такое есть, и положение ему кажется таким страшным, таким непоправимо трагическим и так парализует, что он теряет всякую надежду когда-нибудь подняться, выбраться из воронки и впадает – по крайней мере так было со мной – в паническое состояние. Это не паника здорового человека, который при всем смятении чувств все-таки пытается найти выход, – это тупой страх падающего в пропасть.
Сильный преодолевает трудности, для пьющего, лишенного силы воли, такой ход невозможен, и он озлобляется на окружающих, словно бы они виноваты в его несчастье – его друзья, родственники, прохожие; обижается на все человечество, вообще на жизнь. Обидчивая озлобленность иногда переходит в гнев, вспышки черной ярости, резко обостряет больное воображение, затмевает сознание.
Бедная мама столько выстрадала, наблюдая мое падение и не уставая находить причины для его оправдания. Она чувствовала мое бедственное состояние, понимала боль и муки, которыми мучился я. Сокрушалась по-прежнему, что я плохо ел, и выставляла припасенный втайне от отца стаканчик, чтобы я не лег на пустой желудок. Я привык к стаканчику и приспособился лукавить – мешал ложкой в тарелке, не приступая к еде, пока, скорбно качая головой, она не ставила допинг, без которого я уже не мог обойтись.
Однажды стаканчика у нее не оказалось. Я вернулся в том состоянии, когда алкоголь переставал действовать. Надвигалась бредовая кошмарная ночь, бесконечности которой до жути боялся. Я не брал в расчет никаких доводов и стал требовать.
– И хватит бы, Миша, пора одуматься, – робко возразила она, – и на человека-то не похож стал, ишь до чего довел себя.
Учить меня? Поздно, родимая!
– Давай! – я стукнул по столешнице кулаком так, что из тарелки выплеснулся суп на скатерть. Копившаяся целый день злость, как догоревший до взрывчатки бикфордов шнур, закончилась взрывом ярости. Наступило удушье. Не помня себя, стащил скатерть со стола, опрокинул стол и принялся крушить все, что попадало на пути. Приступ буйства продолжался с минуту, после чего я рухнул на пол и более ничего не помню.
Что помогло опуститься так скоро, спиться в несколько лет? Безответственность ничем не наказуемая, в моем понимании. Меня нельзя было уволить с работы, потому что я не работал, нельзя оскорбить, потому что не было таких оскорблений, которые бы могли серьезно задеть меня, и главное – доступность спиртного и безволие – я не мог устоять перед этой доступностью. На пустую бутылку я покупал полбулки хлеба, и его мне хватало на два дня. Все остальное внимание направлялось на то, как бы выпить. И находил. То подвертывались собутыльники, то вдруг встречался старый знакомый, у которого уже занимал и делал вид, что только и думал о том, как вернуть долг, но вот как раз теперь нечем, и просил еще, чтоб уж вернуть все сразу. Как ни странно, старый приятель раскошеливался. Весь расчет тут основан на нелогичности, на том, как никогда бы не поступил человек непьющий. Несколько спустя, приятель поймет, что плакали его денежки, да будет поздно. Иногда подвертывалась случайная, не требующая большого напряжения работа.
На меня все махнули рукой, и только мама, способная заблуждаться, как заблуждаются только матери, видела еще во мне человеческие признаки. Но и она постепенно разуверилась во мне. В тот вечер она смертельно перепугалась, полагая, что ее несчастному Мишке пришел неминуемый конец. Со мной же случился приступ обыкновенной белой горячки, с чем и попал в психиатричку.
Врачам наш брат не верит: давай, мол, заливай, ты за это деньги получаешь. Мне пришлось убедиться, что не все работают только за деньги, есть и за идею.
Именно такой служитель идее попался мне. Это был здоровенный добродушный мужик малоинтеллигентного вида. У нас получилось даже нечто похожее на дружбу, насколько возможно, конечно, в подобной обстановке. А поводом послужила его близорукость – он обознался, предположив во мне товарища детства. Мы с его товарищем случайно оказались однофамильцами и тезками.
– Мишка, что с тобой произошло? – спросил он на другой день, когда я вошел в память.
Ошибка выяснилась, но, так или иначе, знакомство состоялось, и мы перешли на ты.
– Ты видишь, что это такое? – подсел он к моей кровати.
– Кардиограмма, – ответил я.
– Нет, это удушливый крик твоего сердца. А это? – и протянул результаты анализов. – С кровью – дрянь дело. А почки? А селезенка? Вообще, с внутренним своим заведением ты распорядился, как поджигатель.
Он прописывал какую-то пакость глотать, что-то вводил в мышцы, отчего в организме происходила встряска. Я ругал, как мог, «товарища детства», но постепенно стал оживать, возвращаться в нормальное состояние, хотя временами испытывал накаты страшной тоски. Алкоголь за годы пьянства проник в каждый закоулок тела, в каждую его клетку, вошел в кровь, в обмен веществ. Организм сопротивлялся лечению и требовал своего. Получив, на время успокоился бы, но единственный путь к спасению – не пить, другого пока никто не придумал.
Когда входил эскулап, я отворачивался, а он добродушно спрашивал, словно не замечал моего нежелания видеть его.
– Тоска? – и сам же отвечал: – Тоска. Убежать бы куда-нибудь и скрыться от людей, так? А еще усталость, томление тела и духа и желание стряхнуть их. Ничего, пройдет, и снова будешь человеком.
– А зачем? – не выдерживал я, – чтобы жить в доброй памяти потомков?
– Став пропойным, что ты приобрел, кроме потрясений, разрушений в теле да белой горячки? А потерял: семью, друзей, работу, способность логически поступать и мыслить. Что ты прочел за время пьянства? Какую премьеру посмотрел? Какой художник потряс тебя?
– А зачем мне забивать голову химерами сумасшедших со знаком плюс?
– Ничего ты не приобрел, а забыл даже то, что и знал.
– Откуда это тебе известно, доктор?
– Скажи, что может произойти с самолетом, когда он идет на закритических углах? Ты ведь, кажется, авиатор?
– Ну и пусть идет, – буркнул я.
– Может свалиться в штопор от неосторожного движения рулями. А ты ведь давно штопоришь. Пора выходить, Миша, может не хватить высоты.
Этот лукавый доктор был не так прост, каким казался, – подбирал ко мне отмычку и, узнав, что я служил в авиации, просмотрел кучу специальной литературы, пытаясь пробудить во мне злость против меня самого и, надо сказать, преуспел. Он раскопал то, что казалось навсегда погребенным. В изветшавшей памяти мало-помалу стали всплывать символы, положения, обрывки формул из механики, физики, аэродинамики. Все это напоминало свалку, где части целого валялись в беспорядке. Я извлекал их, сортировал и раскладывал по кучкам. И маховик памяти сдвинулся с мертвой точки, раскручивался, хотя и медленно, но все-таки набивал обороты. Погоди, очкарик, хотя я и не знаю формулы инсулина, которым ты меня пичкаешь, но в авиационной теории ты младенец!
Доктор под разными предлогами держал меня, и я вышел за стены лечебницы только через полтора месяца. За все эти сорок пять дней я не выпил ни капли, и это был самый длинный трезвый период за десять лет. Решил не брать больше хмельного в рот. Доктор дал на прощание номер телефона на случай, если явится вдруг необходимость ему позвонить.
Оглядываясь назад и видя, из какой ямы меня вытащил этот мужиковатый чудотворец, я испугался. Страх же родил желание не прикасаться больше к спиртному. Но не пить в городе, где каждая бездомная собака знакома со мною лично по моим ночевкам в канавах и под лестницами, нечего было и думать. Встречусь с собутыльниками и не выдержу. Поэтому, прибавив к доброму напутствию все, что могла дать мне моя бедная мама от своих сбережений, я в тот же вечер сел в вагон поезда.
Я по-прежнему считал, что только суровые испытания могут выбить дурь, если вообще я на Севере выдержу. А не выдержу, так один конец – хуже, чем было со мной, быть не может.
А теперь представь себе длинную зиму, длинную ночь, северное сияние, несколько приземистых домов и веревки от них к столовой, чтобы не сбиться с пути во время пурги. Народ – смесь языков и наречий: со средней полосы, с нижней Волги, из Казахстана, орочи из Хабаровского края и даже один цыган, – приехавшие, чтобы осесть здесь или только до окончания стройки, заработать; кто-то до открытия навигации, чтобы затем уйти «на рыбу», просто любопытные – посмотреть белый свет, и любители приключений, которым до полного счастья всегда не хватает остроты ощущений и без которых не обходится ни одно великое дело.
Бригада монтажников, куда я попал, работала аккордно, стараясь поспеть к сроку, пренебрегая выходными. Первые мои дни там были ужасны. Через два-три часа работы мои одрябшие мышцы начинали болеть. Но в бригаде, где все подчинены одному ритму, не сядешь, когда тебе вздумается. С трудом я дотягивал до перерыва, съедал обед, валился в угол бытовки за печкой, втягивал голову в полушубок и засыпал. Отдыха хватало на пару часов, а потом начиналось мучение. Бригадир Рустам, коренастый татарин, крепкий, как кедровый стланик, и красивый, как аллах, вонзал раскосые глаза: «Шайтан, нада немношка скарей». Я шевелился «немношка скарей». После работы тело словно нарывало. Я съедал ужин, не разбирая, что подавали, добирался до кровати и засыпал, порой не успев раздеться.
Однако потом пошло лучше, и через месяц втянулся настолько, что Рустам к шайтану прибавил: «Ничива, пайдет», а еще через месяц: «Мишка, будешь Чишма гулять, гости хади».
В бригаде не пили. За все время Рустам приносил раза три или четыре спирт и, сам разлив каждому, подвигал стакан. В первый раз я покачал головой. Он посмотрел на меня внимательно, должно быть, понял причину отказа и убрал стакан. Если бы настаивали, не выдержал. Но меня без лишних слов оставили в покое. Это был крепкий, здоровый народ, и пить мне в их окружении не хотелось, если не считать двух или трех раз, когда, как говорят, накатывало. Но такие минуты прошли без последствий, и я благодарил судьбу за то, что кинула она меня к этим работящим парням.
Я огрубел, окреп, мне было тридцать три года, и жизнь снова оборачивалась ко мне светлой стороной. Я пробыл там восемь месяцев и не пил. Если прибавить дни лечения, выходило двести восемьдесят три дня – и ни маковой росинки. Как только что обращенный в новую веру, я стал яростным противником пьянства и распланировал тщательно свою дальнейшую жизнь. В ней не было места заблуждениям. Перво-наперво, работа, все равно какая. Север убедил: нет ни плохих, ни хороших профессий, есть работники, выполняющие обязанности хорошо или плохо. Престижность – всего лишь мода в сфере человеческой деятельности. Бездушный сантехник также никому не нужен, как и дрянной композитор.
Второе – поступить заочно на экономический факультет, то есть к моим двум дипломам поставить серьезную подпорку. И третье – самое главное – найти Анюту с Петькой. Все эти годы я не знал, где они. Мои мечты были хорошо подкреплены материально. В левом кармане пиджака лежали восемь тысяч, завернутые в целлофан и перетянутые изоляционной лентой. Вернусь домой и оденусь с иголочки. Тысячу сразу дам матери, затем поеду к теще и спрошу об Анюте и Петьке. Я подкачу таким франтом, что теща, конечно же, не скроет и скажет правду. Если Анюта вышла замуж, остальные деньги, тысяч пять или шесть, вышлю от имени ее родных, чтобы не вышло скандала. Она все поймет и, может, простит в душе. А для Петьки пусть я останусь погибшим в дорожной катастрофе, как, вероятно, она ответила сыну на вставший перед ним когда-то вопрос. И пусть Петька говорит своим друзьям в классе, что если бы не несчастный случай, то его отец-авиатор теперь был бы большим человеком. Так я убеждал себя, но где-то в закоулке души, под темной лесенкой притаилась и приглушенно дышала надежда, что я их найду вдвоем, и все устроится самым благоприятным образом...
Было начало мая. Снег отмяк. Чуялось дыхание северной весны. В небольшом аэропорту я ждал самолет, который доставил бы меня в Иркутск, а потом на поезде – одно удовольствие. Я сидел, подогреваемый светлыми надеждами. В дверь портового ресторана «Северное сияние» входили и выходили пассажиры. Между ними промелькнуло несколько лиц, знакомых по стройке.
Сколько денег спустят, пока доберутся, – думал я, жалел людей и их деньги, доставшиеся так нелегко. Впрочем, им теперь хорошо, и каждый волен поступать, как хочет. Что касается меня, то я лучше умру от жажды, чем решусь выпить глоток пива. Нет-нет, мне даже думать нельзя об этом. Время ожидания истекло, вот-вот должны были объявить посадку.
На скамейку ко мне подсел парень и попросил закурить. Я достал пачку «Шипки» и спички. С другой стороны подошел, видимо, его друг и улыбнулся: «Позвольте и мне сигаретку». – «Угощайтесь...» И тут первый схватил мою правую руку в запястье, второй сделал то же самое с левой, и я оказался как бы распятый на скамье. Сзади сбоку мелькнула рука третьего и, прежде чем я успел сообразить, что к чему, перед глазами промелькнул целлофановый сверток. Я рванулся в бешенстве, но стряхнуть грабителей не мог. Тогда рывком назад опрокинул скамью. Они кинулись в разные стороны. Меня занимал третий, он как раз уходил за угол аэровокзала. Я бросился преследовать. За вокзалом удалось увидеть, как грабитель уходил к стоящим в некотором отдалении домам. Расстояние между нами сокращалось, я его настигал. От первого дома он наискосок срезал ко второму и скрылся в крайнем подъезде. Я прыгал по лестничным маршам через четыре ступени, добежал до последнего этажа, но никого не обнаружил. Люк на чердак оказался на замке, следовательно, туда проникнуть было нельзя. Тогда я принялся стучать в двери. Но все, кто ни открывал, удивленно пожимали плечами и не понимали, чего я хотел. Потом я кинулся к дежурному по вокзалу. Он сделал какие-то распоряжения, попросил написать заявление и подождать. Через два часа сообщил, что никого подозрительного в том доме, на который я указал, не обнаружено.