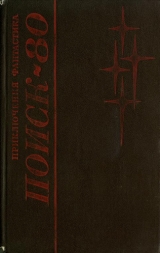
Текст книги "Поиск-80: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Абрамов
Соавторы: Сергей Другаль,Юрий Яровой,Виталий Бугров,Владимир Печенкин,Семен Слепынин,Григорий Львов,Евгений Карташев,Всеволод Слукин,Александр Дайновский,Андрей Багаев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
ФАНТАСТИКА
Юрий Яровой
ЗЕЛЕНАЯ КРОВЬ
Повесть
Встреча с темойЭтого сообщения я ждал давно. «Известия», 27 мая 1977 г. «ЧЕЛОВЕК В ИСКУССТВЕННОЙ БИОСФЕРЕ. ВАЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН».
Четыре месяца они жили и работали на своей «планете». 120 суток они дышали, получали воду и пищу за счет круговорота веществ в созданной руками человека биосфере, управляя всеми процессами жизнеобеспечения по заранее намеченной программе…»
За десять лет перед этим, вскоре после XIII Международного конгресса по астронавтике, проходившего в Ленинграде, я получил письмо от члена-корреспондента Академии наук И. А. Терскова, директора Института физики имени академика Л. В. Киренского. Это был ответ на мою просьбу прислать материалы о созданной в институте первой в мире биологической системе жизнеобеспечения для космических кораблей с неограниченным сроком полета, – доклад о ее создании был одной из главных сенсаций XIII конгресса. В своем ответе Иван Александрович Терсков приглашал познакомиться с этой самой системой в натуре, лично.
И я приехал в институт.
«Дом космонавтов» представлял собой стальную коробку с шестигранными иллюминаторами в стенах; внутри кушетка, санузел, крохотный столик, электроплитка, полочка для книг, полочка для посуды и – непостижимо белые стены. Почему меня так поразил тогда этот белый цвет? Снег в январе, мелованная бумага… Мел? «Зубной порошок», – объяснил мне мой провожатый – молодой ученый, в тридцать с небольшим уже доктор наук, любезно согласившийся провести и показать весь комплекс: гермокамеру, зал с культиватором и бактериальным реактором, лаборатории и «космические» оранжереи, где круглые сутки под ослепительным светом особых, «солнечных», ламп зеленели и цвели огурцы, арбузы, дыни, пшеница, лук, салат.
Я присел на кушетку и, торопясь, обрывая окончания слов, стал записывать:
Эта гермокамера уже третья по счету, кое-чему мы уже научились. Но сколько муки было с первой! Ничего не знали, ничего не умели. Всего боялись. Особенно химии – пластиков, красок… Точные химанализы атмосферы гермокамеры показывали: все, абсолютно вся «химия» газит. Все краски, все пластики, все пленки. По молекуле, по микрограммам, но через сутки-трое газоанализаторы уже вылавливали в атмосфере примеси, которые приводили нас в отчаянье…
Хорошо помню мимолетную мысль: почему «нас»? А ручка между тем, казалось, сама собой чертила строчку за строчкой:
Боданцев со своими парнями вооружался ножами, скребками, электрическими щетками и все сдирал до стального блеска. Но голостальной-то камеру оставлять нельзя! Кто-то подсказал: покройте мелом. Побелите. Но мел пачкает. Тогда Боданцев стал пробовать всякие клеи – все пахнет. Все газит. Остановились, в конце концов, на желатине…
И опять, я помню, поймал себя на мысли, что пишу что-то не то. Откуда взялся Боданцев? Не было такого среди ученых, с которыми я успел познакомиться в этот день в Институте физики. А между тем я так отчетливо видел его перед собой (высокий, с буйной шевелюрой, в модном однобортном костюме, перепачканном тем самым мелом), что сбоку, на полях блокнота, пометил: «Смеется, как водопад». А ниже шла «сценка в приемной»:
Секретарь директора института, Анна Владимировна, Толи Боданцева боится панически. «Почему?» – удивился я однажды.
«От него столько шума – просто ужасно, – объяснила Анна Владимировна. – Когда он объявляется в приемной, я вся дрожу от страха: сейчас что-нибудь опрокинется…»
Люди, которых я не знал. Но у меня было такое чувство, что я их пока не знаю, что познакомлюсь с ними позже. И чем больше я записывал свои впечатления в блокнот, тем все более каким-то странным образом мое воображение, даже помимо воли, населяло эту гермокамеру, сам институт с его сумеречными по-вечернему коридорами (тишина, тишина), людьми, которые вставали рядом с реальными, живыми учеными, водившими меня по лабораториям, рассказывавшими удивительнейшие вещи!.. Да, вот в чем дело: меня поразил факт. Поразил результат одного случайного, попутного эксперимента – внезапное и необъяснимое перерождение хлореллы в культиваторе. «Да это ж прямо… зеленая смерть биосферы!» – невольно вырвалось у меня. «Что? Как вы сказали? – удивился мой попутчик (назовем его Исследователем). – Зеленая смерть биосферы? – Минутная пауза. Озадаченность. Размышление. Резюме (с легкой улыбкой): – Разница между писателем и исследователем в том, что у первых избыточная фантазия, а у вторых – ее недостаточность».
Опять пауза. На этот раз размышляю я. «Ну а если попытаться… экстраполировать [1]1
Распространять выводы, полученные из наблюдений над одной частью явления, на другую часть его с целью прогнозирования событий.
[Закрыть] результаты вашего эксперимента?..» – «Нет, – решительно был я оборван. – Это вы можете допустить такую экстраполяцию. – Опять легкая улыбка. – В литературе такая экстраполяция, кажется, называется научной фантастикой, не правда ли?»
Да, факты были настолько поразительными, что я чувствовал: мне легче будет оперировать ими в мире вымышленных персонажей. Экстраполяция? Ну что ж, пусть будет литературная экстраполяция.
Обо всем этом думалось так неотвязно, что я начал терять нить мысли моего провожатого: о чем он говорит? И он, очевидно, догадавшись о моем состоянии, но ложно истолковав его (столько научной информации разом – как не потерять голову?), любезно предложил: «Может, на сегодня хватит? Я вам на вечер дам кое-какую литературу – статьи, монографии, а утром встретимся снова… Нет возражений?»
Литература была страшно интересная, в другое время я бы ее прочел запоем… Такой материал! Но сейчас мне мешали – во мне самом, – мешали неясными голосами, смехом, спорами… И вдруг я отчетливо увидел одного из этих мешающих: в модном ратиновом пальто, в серой каракулевой шапке, а в тон пальто изящно-серый шарф…
В университете (он кончал биофак на два года раньше меня) Гришу Хлебникова звали «суворовцем». За бравый вид, которым он гордился. За квадратные плечи, которые он без устали тренировал на брусьях, втайне мечтая о лаврах чемпиона, но добравшись лишь до третьего разряда по гимнастике. За любовь к самодисциплине, о которой он ораторствовал на каждой комсомольской конференции… Он всю жизнь командовал: в пионерии – дружиной, в университете – студенческим научным кружком и комсомолом. И в Экологическом институте тоже командует. Это у него, похоже, наследственное: отец – полковник в отставке, долгое время работал в штабе военного округа. Не знаю, как командовал полковник Хлебников, но сын его, доктор Хлебников, командует неплохо – что уж есть, того не отнимешь. Вот только этот взгляд… Не каждый выносит, когда на тебя смотрят как на прозрачного…
Но нет, это еще не самая главная фигура; такие люди, как Гриша, Григорий Васильевич Хлебников, могут руководить, могут прекрасно организовать дело, но в науке любое дело зиждется на идее, и чем масштабнее идея, – тем крупнее ученый, ее выдвинувший… Учитель! Вот кто должен стоять за спиной руководителя программы «человек – хлорелла» вот кто «суворовца» мог превратить в ученого…
Титул Сварога – бога солнца и огня – ему был присвоен давно, еще до моего прихода в институт. Рассказывают, дело происходило так. В институт с просветительской целью приехал какой-то видный доктор философии. Его попросили прочесть лекцию. Но едва гость произнес первую фразу о термоядерной физике, где провел величественную аналогию между славянским божеством Сварогом и первооткрывателями энергии атома, как его перебил скрипучий голос: «Сваро́г, глубокоуважаемый».
Лектор запнулся, с недоумением оглядел зал и начал снова: «С древнейших времен человечество мечтало об изобилии энергии. Следы этих мечтаний мы находим в древнегреческих мифах, в скандинавских сагах и в славянских легендах о божестве Сва́роге…»
– Сваро́ге, милейший.
«Глубокоуважаемый» – еще куда ни шло. Но «милейший»?! Доктор философии молча повернулся и с достоинством удалился.
Настаивать на извинениях профессора Скорика перед возмущенным лектором директор института не решился – бесполезно. Профессор Скорик его бы просто не понял: «Извините, за что? Пусть придет ваш лектор к нам на семинар, мы ему объясним, почему Сваро́г, а не Сва́рог».
Я сознавал: это пока лишь штрихи к портретам; по-настоящему ученых можно понять, лишь поняв суть дела, проникнув в существо руководящей их жизнью идеи… Что мне продиктовал днем Исследователь, мой провожатый? Продиктовал, как исходный, главный тезис к моему будущему очерку:
«Константин Эдуардович Циолковский уделял большое внимание созданию надежных систем, обеспечивающих нормальную деятельность космонавтов на борту корабля, и в частности удаление из воздуха продуктов жизнедеятельности человека, в первую очередь углекислого газа. Справедливо полагая, что идеальным решением является создание замкнутого цикла, аналогичного круговороту веществ на Земле, Циолковский не отрицал возможности применения химических веществ для удаления углекислоты…»
Все верно, в этом суть того, что я увидел в институте и о чем мне рассказывал Исследователь… Но как сухо выглядит на бумаге суть программы «человек – хлорелла»! И хотя Исследователь в ответ на мой вопрос «А как же все начиналось?» лишь пожал плечами (так ли это существенно? В науке важно не начало, а результат!), я уже знал… я хотел и мог представить. И к утру вместо набросков очерка, которым я должен был отчитаться за свою командировку в Институт физики, на столе появился первый эскиз темы.
Семинар «простейших»
Я до самой, видно, смерти не забуду «тронную речь» Хлебникова, с которой он наш отдел простейших начал превращать в лабораторию по разработке космической техники. Мы, все собравшиеся на очередное чаепитие, были поражены: какие перспективы, какой поворот экологии! Экология человека – кто бы мог до этого додуматься? Додумался, как потом выяснилось, сам Сварог, но тогда… Сто лет экология изучала полевок, зайцев, мышей, бурундуков, и вдруг – сам человек. Еще более поразительным был сам поворот темы – человек в изолированном объеме. Не в цехе или конторе, не в кинозале или у себя дома, в квартире, а именно в герметично замкнутом объеме. Не надо было располагать семью пядями во лбу, чтобы сообразить, что имелось в виду. Все газеты только и писали: космос, космос…
Чаепития Сварог проводил у себя в лаборатории – священная традиция. Ровно в час (в то время у нас в институте не было даже буфета, не то что столовой, а сам институт – на краю города, в огромном Ботаническом саду) мы все выбирались из своих конурок и углов и шли на «симбиоз» (профессор Скорик руководил не только отделом простейших, но и лабораторией симбиоза). Симбиозники занимали две комнаты (роскошь по тем временам просто царская!): в одной из них, меньшей, на высоком табурете перед огромным вытяжным шкафом, почти забравшись в него, восседал сам Сварог (это тоже, учитывая острейший дефицит на лабораторное оборудование, было не меньшей роскошью – использовать лабораторный стенд с отличным вытяжным шкафом в качестве письменного стола!), а в другой, квадратной, одну стену которой занимала черная школьная доска, стоял огромный стол, обставленный аппаратурой и стендами. За этим столом, облепив его со всех сторон, и работали обычно симбиозники и симбиозницы. За исключением Гриши, Григория Васильевича Хлебникова, – тот работал за собственным столом, который воткнули к нам, биофизикам.
И вот, когда пробивал священный час, все бумаги со стола словно ветром сдувало, и в центре его появлялся ведерный самовар. Симбиозницы расставляли по периметру стола не меньше тридцати чашек, нарезали гору хлеба, колбасы, сыра, все это обращалось в сотню бутербродов. Сварог выползал из своего персонального вытяжного шкафа, взгромождался на такой же высокий круглый лабораторный стул напротив доски, и дежурная лаборантка распахивала дверь в коридор: «Граждане «простейшие»! Семинар начинается».
И мы, отправляя недокуренные сигареты в пожарный ящик с песком (Сварог не выносил даже запаха табака), шли на чаепитие.
На чаепитиях-семинарах сидеть имел право лишь один человек – сам Сварог. Все остальные толпились вокруг стола (да и где их было рассадить?), жевали бутерброды, запивали крепким густым чаем и слушали очередного оратора (в этом тоже был свой смысл – голодный кончит доклад быстрее).
Семинар всегда открывал сам Сварог.
«Граждане «простейшие», – начинал он своим скрипучим, как у коростеля, голосом, и его огромная, с отвисшими щеками, с тройным подбородком голова при этом подрагивала от предвкушения удовольствия. – Тему сегодняшнего чаепития я бы определил следующим образом: информация как особая разновидность антиэнтропии».
При этом, как правило, возникал легкий шум: какое эта тема имеет отношение к нам – к отделу простейших организмов? К нам – микробиологам, экологам, биофизикам, наконец? Что такое антиэнтропия? В первый раз слышим…
«Итак, граждане «простейшие», – повторял тему семинара Сварог, – информация как своеобразная форма антиэнтропии. Таюша, – подавал он карточку лаборантке, – выпишите, пожалуйста, на доске что положено».
Лаборантка выписывала на доске формулы, мы жевали бутерброды, докладчик сумбурно излагал… Семинар шел своим чередом.
И в этот раз, когда докладчиком выступал Гриша, Григорий Васильевич Хлебников, шум тоже, конечно, был. Но совсем другого рода: Сварог убил нас латынью.
«Я бы сформулировал тему сегодняшнего чаепития, – проскрипел он, – очень кратко: «Человек – суи гэнерис»[2]2
В своем роде, своеобразный (лат.).
[Закрыть].
С улыбкой выждав, когда мы выясним (сами, сами!), что же такое «суи гэнерис», Сварог передал дежурной лаборантке лист бумаги, и та с грехом пополам нарисовала человечка в кубике, а под рисунком, слева, начертила загадочную таблицу, перечислив в ней, как мы быстро сообразили, вещества, выделяемые человеком за сутки: углекислый газ – чуть больше килограмма, водяные пары – два с половиной килограмма, пот и моча – примерно полтора килограмма и так далее.
Передохнув, лаборантка в правой части доски начертила вторую таблицу – пища, соль, витамины, вода и кислород. Что нужно человеку для нормальной жизнедеятельности в сутки.
Затем слово было предоставлено докладчику.
«Здесь пропущены стрелки… – С этими словами Хлебников из кубика с человечком к левой части таблицы прочертил одну стрелку. – Это то, что человек выделяет за сутки… – Затем от правой таблицы к кубику – вторую. – А это то, что за те же сутки человек потребляет. Требуется ответить на вопрос: можно ли поставить знак равенства между этими двумя таблицами? Другими словами, можно ли потребление и выделение человека замкнуть в один круговорот веществ?»
Выдержал значительную паузу и продолжал:
«Если бы удалось решить эту задачу экологии человека, конструкторы космической техники уже сейчас смогли бы проектировать и создавать корабли с неограниченным сроком полета. С неограниченным! Представляете, что это значит?»
«Ну, как, усвоили материал? – пожимая руку, спросил меня на другой день Исследователь. – Уяснили наш путь экстраполяции идей Циолковского?»
Мне было неловко: разве скажешь ему, чем занимался всю ночь… Но нет, я и читал, читал… Я даже по памяти мог процитировать кое-что из прочитанного, например, эти любопытнейшие тезисы к докладу С. М. Городинского, А. Н. Карцева… еще четыре фамилии… «О пребывании человека в кабине космического корабля при повышенном содержании углекислого газа». Процитировать? Пожалуйста!
«В эксперименте участвовало шесть здоровых испытуемых – мужчин в возрасте двадцать два – сорок лет, предварительно тщательно обследованных в условиям поликлиники. Испытуемые находились в течение восьми суток, двести два часа, в камере, имитирующей кабину космического корабля. На протяжении указанного времени поддерживались параметры атмосферы в пределах следующих величин: углекислый газ – четыре процента…»
«Четыре процента углекислоты – это, конечно, экстремально, – перебил меня Исследователь. – Я думаю, до этого дело никогда не дойдет. Но вы поняли, зачем нам понадобилась углекислая атмосфера? На «Союзах» и «Аполлонах», как вы знаете, химическая система жизнеобеспечения. На две-три недели. А для полета на Марс нужен год. Год гарантированной жизни космонавтов вне биосферы Земли может дать только биологическая система жизнеобеспечения. Понятна логика научной мысли?»
Дальше Исследователь мне разъяснил, что биологическая система жизнеобеспечения пока получается настолько громоздкой и тяжелой, что единственный путь сокращения веса и размеров – повысить содержание в ней углекислого газа. С 0,03 процента (норма для соснового леса) до 1,5 процента. Вот эта полуторапроцентная углекислая атмосфера и вызвала сенсацию на XIII астронавтическом конгрессе в Ленинграде.
Но все эти факты, цифры и выкладки – для очерка. Нужны. А вот вариант «А», вариант «Б», вариант «С»… Откуда взялись эти варианты? Ведь Исследователь мне о них не говорил ни слова?! Я торопливо, боясь что-нибудь упустить, записывал, а видел… как это могло быть.
«Что?! Вариант «Д»?»
Я решил, что ослышался, и уставился на Хлебникова в недоумении: что это он – всерьез?
Лаборатория экологических систем, возглавляемая Боданцевым, разработала три типа культиватора – на один процент углекислоты, на полтора, два с половиной, – охватив, таким образом, всю допустимую зону. Вариант «Д» – сугубо теоретический, на три процента, существовал пока лишь на бумаге: три процента углекислого газа в атмосфере считались тем самым порогом, за которым уже шла критическая зона. В сто раз выше нормы. Если за норму брать содержание углекислого газа в сосновых лесах.
«Вариант «Д», – подтвердил Хлебников, разглядывая мою физиономию (можно представить, что за эмоции на ней!..) сквозь модные квадратные очки с золочеными дужками без тени улыбки, я бы даже сказал – с сожалением…
«Значит, сейчас вы работаете на полутора процентах углекислого газа… А когда перейдете на три?» – спросил я Исследователя.
«На три? – озадаченно уставился он на меня. – А с чего вы взяли, что мы собираемся поднимать концентрацию углекислоты? Кто вам об этом говорил?»
Да, он прав: мне об этом не говорил никто…
Потом, вернувшись домой, я не без труда разделил свои записи на де-факто и… Как бы это выразиться поточнее? Да, то самое «продолжение в будущее», та литературно-художественная экстраполяция, о которой столь иронично говорил Исследователь.
Честно выполнив свой долг в части де-факто (имеется в виду очерк «Дом космонавтов», опубликованный в журнале «Уральский следопыт»), я оказался перед ворохом отрывочных записей, которые притягивали меня, словно магнит, будили воображение, не давали покоя. Я снова и снова возвращался к эскизам…
О любви
Мы в прошлом отдыхаем – прошлое прекрасно!..
Просыпались мы в доме отдыха рано – едва свет начинал пробиваться сквозь шторы. Воздух в этот рассветный час звенел от птичьего гама: пересвистывались в прибрежных кустах лазоревки – пинь-пинь!, захлебывались от восторга дрозды-рябинники, из последних сил надрывался коростель… Это был час, когда пели все: и ночные, и дневные.
Осторожно, стараясь не хрустеть гравием, пробирался я к окну Наташиной комнаты, так же осторожно, затаив дыхание, беззвучно вытягивал раму и нащупывал Наташин поясок. Чтобы не будить соседок, Наташа один его конец привязывала к руке, а другой прятала между рам.
А потом мы босиком бежали к бочажку. Туман от солнца казался красным, и над самой водой качались белые призраки.
Искупаюсь я в тумане,
Зачерпну рукой росу,
Паутину филигранью
Я росою обнесу…
Вода была теплой и ласковой, мы входили в нее, и кустики тумана качались у самых ног. «Не смотрите на меня», – просила Наташа, и я отворачивался. Я знал, что она сейчас снимает платье, я десятки раз видел, как она стаскивает его через голову, но это было днем, когда вокруг было много народу, а сейчас я стоял, смотрел на призрачные кустики тумана у моих ног и чувствовал, как гулко колотится сердце…
Мы в прошлом отдыхаем… И даже в горьком прошлом!..
Зимой, на последнем курсе, университетский комитет комсомола решил провести лыжный агитпробег по глухим, удаленным от железных дорог деревням. Мы шли с красными лентами через плечо, пели песни, но все это я помню плохо, от всего агитпробега осталось только ощущение необыкновенной чистоты. От снега, от елок, утонувших в сугробах, от глубоких серых глаз Наташи, в которых я все чаще и чаще ловил тревожное ожидание…
К вечеру мы добрались до села со странным, смешным названием: Трёка. Село лежало на самом берегу реки, широкой дугой, почти подковой, огибавшей избы, амбары, скотные дворы и клуб, когда-то бывший церковью. В этом клубе мы после ужина выступили с концертом, а потом были танцы. Мы с Наташей кружились, кружились… Наконец она не выдержала, пробормотала: «Какая жарища», да я и сам чувствовал, что от жаркого воздуха, волнами расходившегося над плотной толпой танцующих, от тягучего вальса, а главное, от Наташиных вопрошающих глаз голова у меня шла кругом. «Выйдем?» Наташа обрадованно кивнула, пошла за мной, держась за руку. Потом, в сенях, она мою руку отпустила, я услышал, как с глухим стуком захлопнулась дверь, как она осторожно спустилась и подошла ко мне.
«Холодно, Наташа, верно? Как эти трёкинцы здесь живут, а? Такой морозище!.. А им хоть бы что. Говорят, в здешнем сельмаге водка – самый дефицитный товар…»
Я понимал, что мелю чепуху, что Наташа ждет от меня совсем других слов, мне было страшно стыдно, я не знал, куда деваться от этого стыда… «Не криви душой, когда говоришь с женщиной». Где это я вычитал? Слишком поздно вычитал… «Простая арифметика, Наташа: тридцать шесть своих да плюс сорок бутылочных… Что им мороз?» А Наташа смотрела на меня – с таким недоумением… Стояла передо мной, зябко стянув воротник куртки у горла, глаза черные, бездонные, и такое в них тоскливое недоумение!..
У нас и раньше случались неловкие паузы, когда не знаешь, что сказать, но в тот раз молчание было чересчур уж тягостным. Нас разделила тишина, как из тяжелого стекла стена…
Не выдержав тягостной тишины, я и брякнул, показав рукой на окна клуба: «Трёкают». Откуда взялось, как родилось в моей взбаламученной голове это словечко? Едва я произнес его – из темноты на нас надвинулась высокая, вся в инее фигура:
«Что? Что ты сказал? Трёкают?»
Это был Михаил.
Он тормошил сначала меня, добиваясь, где я слышал это словечко, и я ему объяснил, что нигде не слышал, само собой придумалось – Трёка, Трёка, ну вот и «затрёкал», а потом Михаил набросился на Наташу, крича, как это здорово, просто великолепно, что слово родилось само собой…
Мы с Наташей окоченели, а Михаил нас все не отпускал и рассказывал с пятое на десятое о том, как он нашел на карте богом забытую деревеньку, как загорелся желанием узнать – говорят здесь или трёкают…
Впрочем, как я понял, Наташу поразила тогда отнюдь не эта белиберда с трёканьем, а то, что до Трёки он добирался один, считай, уже ночью… Да и меня, помню, тоже: пятнадцать километров по незнакомым глухим местам, да еще в тридцатиградусный мороз!..
«И вы понимаете, в Трёке не трёкают! – размахивал он перед нами длинными руками, и нельзя было понять, над кем он смеется: над собой или над нами? – Наоборот! Парни меня тут чуть не отвалтузили, когда я стал их убеждать, что есть такой глагол – «трёкать»!..»
Потом я уже убедился окончательно: Михаил всю жизнь кого-то играет – артист оригинального жанра Куницын… Такое ощущение, что в нем два человека: один играет, а второй посмеивается… Над собой же посмеивается, над собственным комедиантством. И тут загадка первая – почему же Наташа даже не улыбнулась, видя его комедиантство? Бог знает, что ею двигало в ту минуту, когда она совершенно неожиданно для нас обоих вдруг прикоснулась к нему рукой и сказала: «Успокойтесь. Вы все узнали, что хотели…» И он мгновенно замолчал, и посмотрел на нее так удивленно, и такой у него при этом был виноватый вид!..
А через месяц они поженились.
Я чувствовал, понимал: все эти эскизы – лишь подступы к главному. Волновало ненаписанное… Необъяснимый аромат тайны, встречи с чудом. Вопрос был «в малом»: о чем это самое ненаписанное? Что меня там, в институте, так поразило, отодвинуло куда-то в глубь сознания все эти потрясающие открытия и идеи, даже сами космические путешествия «с неограниченным сроком во времени» отодвинуло?.. Ах, да, культиватор с хлореллой!..
Суть проблемы заключалась в том, чтобы заставить микроводоросль, скажем, хлореллу-вульгарис, в разгаре лета покрывающую тонкой зеленой пленкой воду в лужах (говорят: вода цветет), извлекать из выдыхаемого человеком углекислого газа кислород. Существует гипотеза, что львиная доля кислорода атмосферы восстанавливается как раз этой самой хлореллой в океане. Исследователи Института физики имени академика Л. В. Киренского выдыхаемый испытателем воздух пропускали через культиватор с раствором хлореллы – эдакий океан в микроминиатюре. Сидя тогда в зале с культиватором, я торопливо записывал:
Культиватор у нас установлен в другом зале. Там же, где фитотрон. С гермокамерой фитотрон соединен узким шлюзом, проложенным сквозь стену между залами. Я открыл люк в фитотрон, согнулся в три погибели, попыхтел и вскоре очутился словно в другом царстве-государстве. Ослепительно солнечный свет, излучаемый ксеноновыми лампами, журчание воды, стекающей по кюветам с растениями, влажный и чистый воздух… Субтропики, одним словом. Космическая оранжерея.
Культиватор, когда с него сняты защитные металлические щитки, напоминает загадочное космическое растение: в толстых прозрачных «листьях» из органического стекла булькает, барботирует, как неизменно поправляет Боданцев (опять Боданцев?!), обожающий техническую терминологию, наша чудо-хлорелла – мириады крошечных, величиной в одну-две десятых микрона изумрудных шариков. «Листья» причудливым жабо окружают ксеноновые лампы – маленькие солнца.
«Это культиватор варианта «А» – старой конструкции, – объясняет Боданцев. – В нем около двадцати литров воды с хлореллой. Двадцать литров хлореллы уравновешивают одного человека весом примерно в семьдесят килограммов. Но если мы поднимем концентрацию углекислоты в три раза – эти двадцать литров уравновесят уже трех испытателей».
А немного позже в записной книжке появился еще один набросок:
Михаил был поглощен культиватором. Я подошел к нему – нужно было договориться, чтобы он перед уходом заглянул к Хлебникову. Да и мы с ним еще не все вопросы разрешили.
«Михаил…»
«Как кровь, – услышал я. – С той же скоростью…»
Я понял, что он говорит о растворе хлореллы.
«Зеленая кровь? – удивился я. – А это неплохо, в этом что-то есть. Если представить культиватор в виде легких… Обратных, так сказать, легких…»
«Как кровь», – повторил Михаил, зачарованно глядя на булькающую, пульсирующую между пластин хлореллу…
«Ах, – услышав мои рассуждения, помню, покачал головой Исследователь – Как вас, писателей, манит фантастика. Раствор хлореллы, а вы уже «зеленая кровь»? – Пауза. Размышления. И вдруг: – А, знаете, в этом действительно что-то есть. Вы никогда не слышали о гигантской тридакне? Ну, знаете, литераторы ей придумали такой ослепительно красивый титул: «жемчужная смерть». Ловцы жемчуга, ныряльщики иногда попадают в створки тридакны ногами, ну и… Сами понимаете, чем это заканчивается. Не слышали?» – «Нет, не слышал». – «Поинтересуйтесь на досуге: весьма показательный пример симбиоза моллюска и зооксантеллы…»
Поинтересовался, нашел-таки описание физиологии этого загадочного существа. Раз пять, наверное, перечел, с каждым разом ощущая все нарастающее волнение: вот она – тайна, прикосновение к чуду… Гигантская ракушка в четверть тонны весом, в крови которой мирно сотрудничают кровяные тельца с зооксантеллой (кстати, ближайшей родственницей той самой хлореллы-вульгарис, которая меня поразила в культиваторе института). Сколько живет тридакна – никому не известно, может, сотни лет. Но главное – живет, не нуждаясь ни в пище, ни в кислороде, – все это ей дает зеленая кровь…
Зеленая кровь!.. Это была уже больше, чем тема. Сам сюжет! Та самая драматургия, без которой нет литературы. Сюжет – это действие, столкновение, сюжет – это сама овеществленная, обретшая «кровь и плоть» драматургия… И вдруг – словно вспышка в памяти: последний короткий разговор с Исследователем. «Похоже, вас интересуют не столько факты, сколько допустимость отклонений от них?» – «Я просто хочу представить, как это было». – «Представить, как… это могло бы быть?» – «А, пожалуй, вы правы: я так отчетливо вдруг представил в этом зале с гермокамерой людей с букетами цветов, улыбки, волнение… Когда вы планируете начать эксперимент с экипажем?» – «Думаю, года через два-три, не раньше. Но мы ведь вам все показали – даже фильм о самых первых экспериментах. Неинтересно?» – «Ну что вы! Очень интересно… А как вы представляете себе этот эксперимент с экипажем? Как он начнется? Как будет протекать? Так и остановитесь на полутора процентах углекислого газа?» – «Моя обязанность знать, а не воображать. Если мы начнем фантазировать, то…» – «То что же останется на нашу долю? Так?»
И вот передо мной газета: эксперимент с экипажем начался не через два-три года, а через восемь – у науки свой отсчет времени. «Итак, советские ученые сделали новый шаг в создании эффективных биологических систем для длительного пребывания человека в космическом пространстве…» Я невольно сравниваю газетную статью, факты и детали, приводимые в ней, с моей попыткой представить подобный эксперимент еще до того, как была разработана его программа. Прав оказался мой провожатый-Исследователь: у науки свой путь экстраполяции. «В литературе такая экстраполяция называется научной фантастикой, не правда ли?»
Итак, вариант, которого не было. Пока не было…









