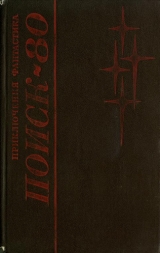
Текст книги "Поиск-80: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Абрамов
Соавторы: Сергей Другаль,Юрий Яровой,Виталий Бугров,Владимир Печенкин,Семен Слепынин,Григорий Львов,Евгений Карташев,Всеволод Слукин,Александр Дайновский,Андрей Багаев
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Михаил стоял передо мной, широко расставив ноги; его широко открытые, устремленные на меня глаза были пусты и черны… Лицедейство? Нет, теперь я понимал, что это было такое – чернота в его глазах…
– Михаил, мы получили эту самую «зеленую смерть» экспериментально, в гермокамере.
Мои слова дошли до него не сразу. Чернота в глазах оттаяла, пропала.
– Что ты сказал? – впился он в меня взглядом. – Доказали экспериментально? Здесь, у себя?
– Да. Случайно. Хотели проверить работу культиватора без человека.
– И вы молчите? Это же касается всей планеты, всех людей! Почему вы не обнародовали свои результаты?
Понесло!.. Планета, человечество, биосфера…
Я пожал плечами: если говорить начистоту, мы боялись даже заикаться об этой непонятной эйфории хлореллы: где гарантия, что высокое начальство, узнав о таком непредвиденном отклонении в эксперименте, не прикроет всю нашу программу «человек – хлорелла»?
– Зачем, Миша? – попытался я найти выход из положения (не посвящать же его в нашу кухню!). – Профессор Скорик все уже опубликовал. Как ты знаешь, его книга «Симбиоз биосферы» переведена, дай бог памяти, на восемь языков. Там все написано…
– Что там написано? – подскочил он ко мне. – Что там написано, я тебя спрашиваю? Там лишь сделано предположение… Предположение, понимаешь? А вы подтвердили его экспериментом! – Он схватил меня за лацканы халата, и я тщетно пытался освободиться. Маньяк, опять понесло его «за все человечество»… – Вы же скрыли такое открытие… Это преступление перед человечеством!
– Успокойся, Миша. – Я кое-как отцепился от его рук. – Я ведь тебе объяснил, что эйфорию хлореллы мы наблюдали попутно. Наше дело – разрабатывать биологические системы жизнеобеспечения…
– Психопаты! – в бешенстве выкрикнул Михаил. – В сумасшедший дом вас надо с вашей системой. Открыли, доказали закон регуляции газового состава Земли и – молчат! Люди отравляют атмосферу, не подозревая, что сами рубят сук, на котором сидят, а эти… Психопаты! Помешались на науке – знать ничего не знаем, кроме своей темы.
Я почувствовал, что нервы мне отказывают – нашелся моралист! Как будто я не говорил Хлебникову, что надо разобраться в причинах эйфории хлореллы. А что в ответ? «Занимайся своим делом. Нам деньги и аппаратура отпущены на создание системы жизнеобеспечения корабля. Иной темы в плане отдела нет и не будет. Занимайся своим делом».
– Не кричи, пожалуйста, на меня. И вообще не кричи здесь ни на кого. Тебе с этими людьми работать – они через неделю головой будут отвечать за твою безопасность. Я не хочу, чтобы ты в них возбудил неприязнь. Это тебе понятно?
В том, что мои люди будут отвечать за его безопасность, теперь у меня были большие сомнения: такая возбудимость!.. Черта с два пройдет он психоневрологическое тестирование. Скорее всего, просто будет опекать меня самого в роли врача экипажа – это самое большее, на что можно рассчитывать. Если он, конечно, согласится работать у нас на пульте – в «команде спасателей».
Однако через две-три секунды эта уверенность – насчет барьера у психоневрологов – у меня подтаяла: Михаил вдруг остыл и опять передо мной был собранный, четкий и уверенный врач со «скорой»: никакой позы, а тем более лицедейства. Совершенно другой человек!
– Послушай, Михаил… А ты уверен, что сумеешь… справиться со своими обязанностями в экипаже?
Мне надо было сформулировать более прямо – не со своими обязанностями, в его таланте врача нет никаких сомнений, а с самим собой… Не повернулся язык. И так он на меня опять поглядывает сверху вниз – с эдакой снисходительной усмешечкой.
– Ладно, – встряхнулся Михаил. – Я понял тебя: надо заниматься своим делом. Так что входит в мои обязанности?
До последнего момента я был готов пойти в гермокамеру сам – у меня была какая-то необъяснимая уверенность, что психоневрологические тесты Михаил все же не пройдет. И можно представить мое изумление, когда, открыв «Историю болезни» врача Куницына, я прочел следующее заключение:
«Выдержан, целеустремлен, обладает быстрой реакцией на изменение факторов внешней среды, широким кругозором, аналитическим мышлением, способностью ориентироваться в быстро меняющейся ситуации…»
И ни слова о раздвоенности характера и чрезвычайной возбудимости! Вот так психоневрологическая тестировка… А мы так слепо полагались на их методику.
Поколебавшись, я все же (предельно кратко, только суть) сообщил о своих сомнениях насчет методики Хлебникову – начальнику отдела. Реакция Хлебникова была для меня, признаться, неожиданной: «Откуда у тебя такие подозрения? Одно из двух: или мы доверяем аттестации специалистов, или их надо гнать в три шеи…» Вот поворотик темы! И так они насели в тот вечер вдвоем – Хлебников и Боданцев, напористо восклицая, как это распрекрасно, что в гермокамеру идет не только врач, а и специалист-гистолог, ибо в этом случае шлюз для анализов можно вообще закрыть намертво, – так насели, что я сдался: «Вы хотите доверить ему все лабораторные анализы? Пожалуйста!..»
«Послушай, Саша, – продолжал убеждать Боданцев, – а ведь, согласись, как лабораторщик Куницын стоит всех твоих лаборанточек… Сколько они выдавали тебе липы, а? Ну а если тебе позарез нужен личный анализ… Разгерметизируем шлюз – что поделаешь! Но ты не забывай, что на этот раз у нас три процента углекислоты, стабильность газового состава в гермокамере поддерживать будет гораздо труднее…» – «Я вас понял: пожалуйста!»
Итак, анализы будут делаться в самой гермокамере. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что в этом случае мы действительно камеру можем загерметизировать полностью: все-таки шлюз-манжет, через который испытатели просовывали руки для сдачи крови на анализы, «погоду» нам портил: одинаковым давление в гермокамере и снаружи удержать очень трудно, практически невозможно – все время подсосы или выбросы. Вот и выкручивайся как знаешь: химсостав в гермокамере менять и корректировать нельзя – это одно из главных условий эксперимента, в космосе не должно быть ни подсосов, ни выбросов… Так что реакцию Боданцева, да и Мардер, я понять мог: кровь мы брали каждый день, иногда по два раза, а сейчас в гермокамере было уже три человека. Несложные подсчеты говорили о том, что герметичность манжетом-шлюзом мы нарушим порядочно. И бактерии, конечно, испытатель рукой заносит – что тут поделаешь!
А плохо то, что, приняв это, надо сказать, настойчивое предложение Михаила, я должен был целиком полагаться на его собственные анализы – сам я контроля над кровью в этом случае был лишен полностью. Но предложение принято, гемометр, набор пробирок, стекла-сетки и остальная аппаратура были уже в гермокамере, Михаил прошел соответствующий инструктаж в нашей лаборатории… Все на месте, можно начинать.
Но как томительны последние минуты ожидания!
Каждый запуск испытателя в гермокамеру, конечно же, для института – событие. Как ни сердится Мардер, что в зале слишком много народу, могут заразить испытателей, – все равно с десяток явно лишних всегда есть. А сейчас, когда мы наконец запускаем экипаж… Что поделаешь! Не закрывать же зал на замок: столько лет работали ради этого момента, вкладывали и ум, и душу… Вот какая высокопарность! Не хватало только трибуны и ораторов. Впрочем, не знай Хлебников наших с Мардер требований к бактериологической чистоте эксперимента – устроил бы, чего доброго, общеинститутский митинг. С духовым оркестром проводил бы испытателей в гермокамеру.
– Готовность номер один, – объявил по громкой связи Хлебников, явившийся сегодня в зал в белом халате – редкий случай! Безукоснительно требуя «халатности», как у нас иронически называют приказ по отделу об униформе сотрудников (белый халат – научный сотрудник, синий – инженеры, черный – слесари), к самому себе Хлебников этот приказ применял лишь в исключительных случаях.
Исключительные случаи… В жизни Хлебникова их, вероятно, не больше, чем в любой другой жизни. Но вот кандидатская его уж точно была событием сверхисключительным. Хлебников защитил ее с трудом: впервые в институте предлагалась диссертация абсолютно аналитического (читай – абсолютно компилятивного) характера. Я не знаю, что спасло его тогда от провала: то ли сверхмодная тема (космос, система жизнеобеспечения космонавтов при длительных полетах), то ли авторитет профессора Скорика, выступившего в роли научного руководителя. Так или иначе, но ученый совет при трех воздержавшихся одобрил диссертацию, не содержавшую ни грана собственных экспериментальных исследований – беспрецедентный случай в стенах Экологического института!
Эксперименты мы ставили потом – постфактум. И первые же результаты привели нас в ужас. Тончайшие газоаналитические исследования атмосферы кабины, в которой испытатель, или испытуемый, как мы называли тогда наших лаборантов-добровольцев, просидел всего лишь десять часов (больше выдержать было трудно, ибо кабина напоминала собой телефонную будку), показали, что человек выделяет при дыхании около десятка ядовитейших веществ: угарный газ, аммиак, метан, цианистые соединения… Потом этот список пришлось много раз пересматривать, дописывая все новые и новые токсины.
Конечно, когда космонавт летает день, два, даже неделю, концентрации аутотоксинов еще невелики, к тому же часть из них можно выловить и обезвредить химическими поглотителями. А если месяцы? Год? Сколько же на борту надо иметь химических патронов, чтобы поддерживать атмосферу безвредной? Каким образом удалять из кабины те самые килограмм с лишним углекислоты, которые человек выделяет за сутки? В американских космических кораблях углекислоту поглощали контейнеры с гидроокисью лития. Килограмм на килограмм. Значит, для полета на Марс на корабле должны быть тонны и тонны гидроокиси лития?..
Мы пошли по другому пути – смоделировали в гермокамере земной круговорот веществ: все отходы человека стали пищей для растений и нашей драгоценной хлореллы-вульгарис, а человек получал назад кислород и продукты питания. Но была одна закавыка, которую мы оценили по достоинству, когда выяснили характеристики систем жизнеобеспечения уже летающих кораблей – «Союзов» и «Аполлонов»: наша биологическая система очистки атмосферы и воды в гермокамере весила, по крайней мере, в три раза тяжелее. Кому она нужна в таком случае?
Решение было найдено чисто теоретически – на кончике пера: чтобы биосистему жизнеобеспечения разместить на космическом корабле в том же объеме, какой занимает система, скажем, «Аполлона», надо концентрацию углекислого газа в атмосфере корабля поднять в тридцать раз. С трех сотых до одного процента.
Так родился вариант «А». За ним – вариант «Б» (и одного процента оказалось мало), а теперь вот уже вариант «Д»…
…Я еще раз – в который уж! – обошел приборы: капнограф – две десятые углекислоты – надышали уже, кислород – в норме, двадцать один процент, температура – двадцать пять, хорошо, телеметрия – по нулям, красное табло – «Люк открыт», правильно… У самописцев Аллочка Любезнова (вот наградил бог глазками! Прожекторы небесного цвета…), у синих баллонов с кислородом какой-то парень – боданцевская «кадра», у черных баллонов с углекислым газом сам Боданцев – дело ответственное… Все, кажется, на месте, все, кажется, в норме.
– Можно запускать.
Это я Хлебникову. И пошел к боксу.
Там с двумя лаборантками священнодействовала Мардер: последние мазки гортани, носа, кожи…
– У вас тоже брать? – спрашивает Руфина, обернувшись ко мне.
– Боже упаси! – в неподдельном ужасе воздеваю я руки, защищаясь и от Руфины, и от ее лаборанток до чего они мне надоели со своими мазками, хоть убегай из института – За мной дублеры, Куницына терзайте – у него главный экипаж.
Ребята улыбаются. Они еще не знают, кто пойдет в гермокамеру, а кто останется в зале. Сейчас они выйдут, помнутся перед люком, и Хлебников им всем объявит благодарность, а потом назовет фамилии основного экипажа. Не надо пока портить настроения. Самое смешное, что микробиологини делают двойную работу – половину то мазков выбросят. Но Мардер, отлично знающая, кто пойдет в гермокамеру, и бровью не повела: действуйте!
Испытатели в синих костюмах, слава богу, у каждого болтается по личному штекеру… Все же мешают они им, мешают.
Я, видимо, сделал попытку войти в бокс. И – напрасно.
– Александр Валерьевич, – грозно поблескивая очками, предупредила мой следующий шаг Мардер. – Я не имею уверенности, какая чистота вашего халата.
Я рассмеялся:
– Не прикоснусь. Готовы?
– Готовы, – доложил Михаил.
– Тогда – к камере.
Так мы и вышли: я, за мной пятеро испытателей, появление которых встретили жидкими аплодисментами, и последней, замыкающей, – Руфина. Парни, по-спортивному приветствуя, подняли руки, Михаил тоже помахал рукой, и они остановились перед люком.
Хлебников, выждав, когда в зале установится тишина, поднес к губам микрофон:
– Сегодня, товарищи, у нас знаменательный день. Сегодня мы начинаем новый этап исследований, который должен дать ответ на вопрос, поставленный перед нами создателями космической техники: устойчиво ли работоспособна наша система при длительных, практически не ограниченных сроках эксплуатации. От имени дирекции института разрешите вас, и особенно состав испытателей, поблагодарить за самоотверженный труд, который вы внесли в подготовку эксперимента.
Аплодисменты.
– Объявляю состав экипажа: врач – Куницын, командир; члены экипажа… – Чувствую, как замерли все – и испытатели, и те, кто пришел их проводить. – Хотунков – биолог, Старцев – техник-приборист.
Новый всплеск аплодисментов, теперь более дружный, приветствуют уже членов экипажа. Прощальный всплеск.
Михаил открывает люк гермокамеры, последний взгляд, еще раз, увидев меня, помахал рукой и скрылся. За ним торопливо, друг за другом, прошли в гермокамеру Старцев (как же он, бедняга, переживал в ожидании и как же просиял, когда услышал свою фамилию!) и тишайший Боря Хотунков – агроном, ботаник и биолог, руководитель группы фотосинтеза. На его долю достанется фитотрон.
А двое оставшихся плотно прикрыли за товарищами люк, так что заскрипело резиновое уплотнение, дождались, когда в динамике раздастся голос Михаила: «Камера закрыта», сбежали по стремянке и растворились в толпе болельщиков.
Я вынул из кармана шпагат, фанерку с пластилином, печать…
Привычные операции, сколько раз я уже опечатывал гермокамеру! И все же в этот раз было нечто особенное: впервые испытатели отрывались от мира земного в буквальном смысле слова: шторы задернуты, гермокамера покрыта звукоизоляцией, ни радио, ни телефона – только редкие минуты связи, доклады о самочувствии, контроль программы… «Запирали их в сурдокамерах, в бесконечности немоты»… Да, впервые мы испытателей запускали в сурдокамеру. И еще впервые мы их должны были основательно оторвать от земной атмосферы – три процента углекислоты!
– Камера опечатана!
Хлебников придвинул к себе журнал, глянул на часы, занес время, расписался и подал ручку Руфине. Потом расписался Боданцев и последним – я. Только после этой процедуры Хлебников уступил место у микрофона мне. Теперь за все, что может случиться, нес ответственность дежурный врач. И я – начальник лаборатории медико-биологических исследований.
– Доложите о готовности, – пригнулся я к микрофону.
– Телеметрия подключена, – ответил Михаил.
Я глянул на экран контрольного телевизора. Монитор телекамеры подвешен у них внутри так, чтобы видеть по возможности все помещение, как будто разглядываешь испытателей от пульта. Через иллюминатор. Все трое, откинувшись на спинку, сидели рядышком на диванчике, и от каждого тянулся кабель. На месте были и газовые маски – над головами. Сейчас к этим маскам был подключен кислород.
– Самописцы?
– Включены, – ответила Аллочка.
– Параметры по телеметрии?
Краешком глаза я видел, что кривые на самописцах как будто пишут норму. Но, как говорится, береженого бог бережет.
– В норме, – подтвердила Аллочка.
– Кислород?
– Готов, – откликнулся техник от пульта аварийных баллонов.
– Культиватор?
В динамике щелкнуло, и женский голос бойко отрапортовал:
– Все нормально, Александр Валерьевич. Насосы работают хорошо, хлорелла барботирует, кислород в гермокамеру поступает в норме.
Все это я видел у себя на пульте: зеленые транспаранты подтверждали, что культиватор вырабатывал кислород в достаточном количестве. На одного пока. Когда поднимем концентрацию углекислого газа, тогда, конечно, выработка кислорода должна увеличиться втрое…
– Кислород! – крикнула Аллочка. – Падает!
Смотри-ка! Вот это газоанализатор – пяти минут не прошло, а уже зафиксировал понижение концентрации кислорода – молодец Боданцев, отрегулировал аппаратуру «на ять»…
– Включить компенсатор кислорода.
Зашипел газ, чмокнул и захлюпал выравнивающий насос. Ну что же, можно начинать «подъем».
– Поехали, Анатолий Иванович.
Боданцев, не сводя глаз с манометра, стал осторожно отворачивать вентиль на первом баллоне. Одновременно на главном пульте вспыхнул красный транспарант: «Внимание! Гермокамеру не вскрывать! Неуравновешенная атмосфера!» Этот транспарант будет гореть до тех пор, пока не закончится эксперимент, пока мы не выровняем состав атмосферы гермокамеры с нашей, земной.
– Как самочувствие?
– Отличное.
Голос у Михаила спокойный – это хорошо. Сейчас очень многое зависит от него: от его выдержки, оптимизма, веселой шутки. Правильно ли подобрали команду? Доведись до меня, я бы, пожалуй, тоже остановился на этих парнях.
– В гермокамеру пущен углекислый газ. Дышите глубже. Если будете чувствовать удушье – сообщите: понизим температуру. Можете включить вентилятор.
У них над головами укреплен электрический вентилятор. Вообще на этот раз гермокамеру напичкали электроаппаратурой до предела. Слава богу, если что сломается, в составе экипажа Старцев – у этого парня золотые руки, исправит.
Капнограф стал осторожно задирать чернильную линию вверх: 0,3… 0,4… 0,6…
– «Площадка»!
Боданцев бросил взгляд на меня – понял. Закрутил вентиль и подошел к приборам телеметрии. Пока все в норме.
Я включил канал связи с гермокамерой.
– Как дела? Жары не ощущаете?
Все трое, как по команде, уставились в объектив монитора – с экрана смотрят на меня.
– Нормально. Все нормально, – ответил Михаил.
Он сидит слева – дальше всех от микрофона. Его голос глушится кондиционером. Надо бы микрофон в гермокамере сделать переносным. Или лучше поставить второй. Но теперь поздно.
Боданцев взъерошил свои и без того лохматые волосы, улыбнулся как-то растерянно, даже заискивающе, и сказал:
– Лучше самому быть там… – Не закончил, махнул рукой и опять полез пятерней в шевелюру: – Неужели, думаешь, симбиоз не состоится?
– Поживем – увидим. Давай, Толя, дальше. До процента.
Снова зашипел углекислый газ, и тотчас захлюпал выравнивающий насос.
В потрескивании, пощелкивании аппаратуры, в приглушенных голосах «дежурной команды» и еще не разошедшихся сотрудников отдела, в ровном, успокаивающем шелесте вентиляторов, перекачивающих воздух из гермокамеры в культиватор, в шуршании лентопротяжных механизмов самописцев я сейчас слышал только эти звуки – легкое шипение углекислого газа и хлюпанье выравнивающего насоса. Как они, наш первый экипаж, там себя чувствуют? Судя по изображению контрольного телевизора – неплохо. Но что может рассказать телевизионный экран? Что у них в душах творится?
Вообще, что мы знаем о других, если и себя толком не знаем…
Я люблю свою квартиру – тихую и всегда теплую. Главное достоинство этой квартиры, окнами в Ботанический сад, – тишина. «Сила шума, который может спокойно вынести человек, обратно пропорциональна его умственным способностям». Я бы это изречение Шопенгауэра вывесил над входной дверью… Позерство? Да, возможно; в каждом есть что-то такое, чего он стыдится, но ведь оно есть! И куда от него денешься…
Так же, как и от своего прошлого. Давно уже пора привыкнуть, четырнадцать лет. А вот закрою глаза и так явственно вижу девушку, входящую в воду, призрачные кустики тумана у самых ног… Прав был Сварог – тут уж точно прав: «Чтобы избежать страданий, нужно уметь соразмерять свои возможности с реальностью цели. Реализм состоит не в том, чтобы было на что ссылаться при неудачах, а в том, чтобы эти неудачи не допускать».
Я люблю свою квартиру: пришел, снял галстук, рухнул в кресло, вытянул ноги, закурил… Что-то вроде нирваны.
…Я хотел им тогда преподнести свадебный подарок, но в последний момент одумался, да и свадьба сама, как я узнал позже, была заменена скромным ужином в узком, как принято говорить, семейном кругу: мать Наташи, которую я так и не увидел, какой-то троюродный брат Михаила, – случайно оказавшийся в это время в городе, Наташина тетка с отцовской стороны, старая дева, о которой она рассказывала мне столько смешного, ну и сами молодожены. Да еще соседи по квартире… Почему все это запомнилось? Все эти тетки, троюродные братья?.. Почему все это вспоминается, когда думаешь, как бешено летит время, как мало успел…
«Достичь идеала невозможно, как невозможно постигнуть понятие бесконечности, – говорил Сварог, любивший иной раз изрекать «под Будду». – Но приблизиться можно, если последовательно подчинять главному то, что вульгаристы называют смыслом жизни, а я бы назвал духом человечества, – все стремления, быт, мысли, саму волю. Лишь на этом пути самоограничения можно добиться такой концентрации интеллекта, когда неизбежно вступает в силу закон перехода количества в качество и сознание начинает постигать Истину. Это и есть, если хотите, нирвана».
Нет, нирвана – это предзакатная тишина. Когда в природе и в самом тебе все успокаивается, все мелочи и суета уходят, как осадок, на дно, и ты остаешься один на один с тишиной. И в этой тишине вечернего, предзакатного успокоения, когда, кажется, от твоего бренного тела остается лишь некая условная оболочка, не требующая от тебя абсолютно ничего, ты слышишь серебряный клич трубы… Так осенью, вспомни, вдруг с неба донесется тихое курлыканье журавлей, прощающихся и с летом, и с полями, от которых они улетают. У каждого в жизни это было, и у каждого, наверное, курлыканье журавлей заставляло сердце сжиматься.
Ботанический сад института огромный – что-то около тридцати гектаров, и стоило отойти от лабораторного корпуса на сотню-другую метров, как оказывался в настоящей тайге. Специально около четверти парка у нас сохраняется в нетронутом виде – там не разрешается убирать даже сучья и листву. Но именно там, в заповедной части дендрария, и было особенно хорошо – тишина, покой и полное безлюдье. Конечно, и в других уголках можно было найти совершенно безлюдные места, куда редко заглядывают даже лесоведы. Но только здесь, где не было не то что дорожек – даже тропок нельзя было обнаружить, я чувствовал себя по-настоящему счастливым.
Я старался ходить бесшумно, не пугая птиц, а птиц тут было великое множество: вечно спешащие, перепрыгивающие с ветки на ветку славки-черноголовки, пестренькие овсянки, без особых церемоний строящие свои гнезда под кустами, прямо в траве, лесные коньки, камышевки, – но особенно много здесь было зябликов, Услышишь щегольскую трель с эдаким ухарским росчерком в конце – «фьюить!», и ноги сами ступают по листве и мелким сучьям осторожнее, мягче. Шаг за шагом, и вот он уже перед тобой – на ветке: напыжится, округлит лиловую грудку, распушит крылышки с белыми стрелками и – «фьюить!» Впрочем, может, он поет совсем иначе – передать птичьи песни звуками человеческой речи невозможно: одним слышится так, другим – эдак… А зяблик тем и хорош, что, как соловей, всегда вызывает удивление изменчивостью своих трелей. Вот и ходишь по дендрарию от одного зяблика к другому, пока где-нибудь не провалишься в болотнику и не соберешь на себя старую паутину.
Отдыхал я обычно у одной из таких болотинок: озерко не озерко, но блюдце чистой, прозрачной воды, и ива вперемежку с низкой плакучей березой создавали такой необыкновенный уют, что ощущение душевного покоя не могли нарушить даже комары, которых здесь было более чем достаточно.
Я натягивал на уши плащ, закутывался получше, заправлял брюки в носки и закуривал. Комары вились вокруг меня, но не кусали.
Солнце садилось за вершины сосен неторопливо, обстоятельно, словно хорошо исполнивший свой долг работник, и его желто-красные лучи, благословляя тишину и покой леса, окрашивали темно-зеленую хвою и листву в контрастные прощальные тона. Я подбирался к воде, раздвигал сухой веточкой мелкий мусор – желтые хвоинки, травинки, клейкие нити водорослей, пыльцу калины – и осторожно погружал в воду ладони. Так же осторожно, стараясь не расплескать ни капли, подносил я эту тепло-ласковую воду к лицу – она пахла травами и цветами калины, и умывался. Потом поднимался на пригорок, под крону развесистой, низкой и чуткой к малейшему дуновению воздуха березки, волновавшейся, казалось, даже не от ветра, а от человеческого голоса, и долго лежал, вглядываясь в причудливый рисунок на ее стволе: серебро с чернью, белый снег в трауре. Над самым лицом от неслышного и неощутимого дуновения воздуха шевелились ее тонкие и гибкие ветки и глянцевитые листья. Здесь, под березой, мне не докучали даже комары – они звенели где-то в стороне, над водой и выше, и здесь чаще всего меня посещали видения: черная, таинственная в глубине вода и белые кустики-призраки над ней, медленно вальсирующий зал или – рыжая белка: глаза-бусинки, на ушах кисточки…
Привычка – вторая, говорят, натура: к любой боли можно привыкнуть, притерпеться. Если уж нам суждено отдыхать в прошлом, то пусть это прошлое будет прекрасным! Искупаюсь я в тумане, зачерпну рукой росу…
Здесь, в этом тихом уголке земли, под плакучей березой на берегу озера, у меня проходили лучшие минуты жизни. Иногда мне казалось, что сюда, в глубину дендрария, я приходил на свидания с самим собой.
И вдруг однажды, в мае, когда пригорок под березой еще только-только покрывался изумрудно-зеленой травой, я увидел здесь девушку. Это была Тая…
Тая была любимицей Сварога. В сущности, она, числясь лаборанткой, выполняла обязанности его личного секретаря: записывала под диктовку статьи – сам он долго писать не мог; получала для него книги в библиотеках – читал Сварог много, жадно, и часто одновременно сразу две, а то и три книги; вела, наконец, обширную переписку и отвечала на все звонки – Сварог терпеть не мог телефона. Трудно было представить Сварога без Таи Сониной, и вдруг мы с удивлением узнаем, что он заставил ее поступить в медицинский институт. Ну, ладно бы на биофак – дело понятное. А то – медицинский. И как он будет работать без нее? Новая секретарша?
Со второй проблемой Сварог разделался очень просто: добился, чтобы ставка лаборантки была сохранена за студенткой Сониной. Надо признать, что этот шаг профессора Скорика в отделе простейших вызвал если не аплодисменты, то одобрение полное: семья у Сониных большая, сама Тая – старшая дочь, и переход ее с зарплаты на дохленькую стипендию, конечно, отразился бы на семейном бюджете значительно.
Несколько сложнее для Сварога оказалось решить вторую проблему – нового секретаря он заводить не пожелал. Поэтому Сониной пришлось работать и учиться в две смены: утром – в медицинском, а вторую половину дня – работать у симбиозников. И возвращалась она домой уже под ночь.
Я в то время тоже часто работал по вечерам. Квартиры мне еще не дали, а комнату я снимал в доме, где все почему-то делалось на крике, и приходить в такой дом не очень хотелось. Разорвать не разорвут, но и в покое не оставят. И я сидел до ночи в лаборатории. А когда надоедала эта бесконечная канитель с пробирками и чашками Петри (даже горячей воды тогда у нас не было!), уходил бродить по парку. Там-то все и случилось.
Не помню уж, что она делала на моем пригорке, кажется, готовилась к экзаменам, но у нее был такой отрешенный вид. Сидела под березой, откинув голову на ствол и подставив умиротворенное лицо вечернему солнцу. На ней была зеленая кофта, под цвет первой листвы, а безвольно опущенные руки казались ветвями самой березы…
Долго я стоял в оцепенении, боясь треском случайно раздавленного сучка или шорохом прошлогодней, сухой листвы испугать ее – мне казалось, что она спала. Но вдруг я услышал:
«Долго вы меня будете разглядывать?»
Ничего не изменилось ни в ее расслабленно-умиротворенной позе, ни в ее покойно-счастливом лице – ни один мускул не дрогнул. И все же это сказала она – кроме нас здесь, в этом глухом уголке, не было ни души.
Я подошел, сел рядом. Земля была уже теплой, хотя и чувствовалась еще весенняя сырость.
«А вы не простудитесь?»
Она улыбнулась и, не меняя позы, все так же, с закрытыми глазами, сказала:
«А я давно за вами наблюдаю: подойдете или нет? И не говорите, пожалуйста, банальностей. Хорошо здесь, верно? Я вторглась в ваш частный уголок? Но я этот уголок открыла раньше вас. А сегодня не думала, что вы тоже придете к озерку. Я сейчас уйду, нет сил подняться – так хорошо, верно?»
«Правда».
«Вы меня не прогоняете?»
«Нет, что вы!»
«Спасибо. Мне здесь хорошо. Давайте помолчим. Послушаем птиц».
Она так и сидела – откинувшись на ствол березы и уронив руки. И на меня не смотрела.
«Непонятный вы человек. Александр Валерьевич», – вдруг сама она нарушила молчание.
«Почему?»
«Да так. У вас что, нет никого близких? Почему вы все время проводите в парке?»
«А вы?»
«Я? – Она слабо улыбнулась. – Я отдыхаю. Если бы я могла уйти домой раньше…»
«Разве Сварог вас не отпускает?»
«Как я могу уйти? Андрей Михайлович наоборот – прогоняет меня. Вот я и хожу по парку. Похожу с полчасика, а потом вернусь. А он меня, знаю, ждет. И мы снова работаем. Почему вы его зовете Сварогом? Неприятно слышать».
«Его все так зовут».
«Все – может быть. Но к вам-то он относится иначе».
«Почему? Вы шутите… Да, по-моему, ему самому нравится, когда его называют Сварогом».
«Ничего вы не знаете. Все вам кажется…»
«А вы знаете?»
«Да. Знаю».
Она это сказала таким тоном, что разговор сразу иссяк.
«Мне пора, – сказала она, встряхнувшись. – Вы на меня не очень сердитесь?»
«За что?»
«За то, что я вторглась в вашу частную жизнь».
Я посмотрел на нее: смеется? Посмеивается.
«Это ведь ваш, оказывается, уголок. Значит, ваша, а не моя частная жизнь».
«Вы с этим согласны? – улыбнулась она, обрадовавшись. – Тогда я оставляю за собой право сохранить это озерко в своих частных владениях».
Она убежала легкой, танцующей походкой – словно поочередно кружась то с сосной, то с осинкой, то с березкой… Что же мне было делать? Искать себе другой уголок? Сознаньем я понимал, что так и надо сделать. Да, сознаньем я это понимал. А ноги… А ноги меня на следующий день сами привели к озерку. И опять я ее застал в прежней позе: голова запрокинута на ствол березы, руки опущены, на лице – безмятежность и покой.








