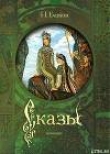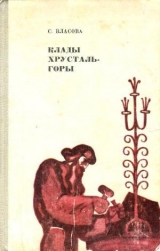
Текст книги "Клады Хрусталь-горы"
Автор книги: Серафима Власова
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
СКАЗЫ ОБ УМЕЛЬЦАХ
ГЕРЦОГИНЯ АКУЛЯ
Говорят, в Кыштыме эта каша заварилась. Долго, долго кипела она, оттого, что не простая была, из пшена или гречухи, а на человеческих муках и бедах замешанная. Все в ней было: светлая любовь, верность, ненависть, зависть, бескорыстие одних, жадность других. Одним словом, было в ней все то, что кому жить помогает, а кому все сердце дотла сжигает…
Заварилась эта каша не из-за простого люда, а из-за прихоти барской. И какие только ветры ни дули на эту кашу, но не смогли остудить. Значит, на большом жару человеческих страстей она закипела.
Жила, росла у отца с матерью дочь – красота ненаглядная. Акулей ее звали. На весь завод славилась. Родители у нее были вовсе не знатного рода. Да и откуда было взяться у нас знатным родам? При господах в те поры жили. Была эта девушка такой, о которых тогда говорили: про них сказки говорят и песни поют.
Немало таких, как Акуля, по заводам и по куреням таилось в те годы. Недаром издалека, через болота и леса, купцы сватов на Камень посылали. Другой не один год ждал, как подрастет да всей красотой земли такой самоцвет нальется. Прятали эти самоцветы по заводам те, кто похитрей был. В ту пору каждый свою выгоду соблюдал. Это, конечно, кто богатеньким был, а кто покупал эту красоту человеческую, опять же свою выгоду соблюдал, чтобы ему позавидовали: вот, мол, какую наш купец жену отхватил, покупочку сделал. Степенна, умна и собой хороша. Большая красота.
Правда, красота красоте рознь бывает. Одна та, что снаружи блестит, а другая изнутри светится. Акуля же всем брала. И лицом белым и чистым, и доброй улыбкой, но больше всего взглядом приветливым. Бывало, как поглядит – словно все горести и невзгоды с человека снимет. Покойней его сердце забьется.
Известно, что значит покой в жизни человека. Не безделие, а душевный покой. Правда, и покой в понятиях людских разный бывает. Один его видит в работе, другой – в песне, третий – в пути, а четвертый – на печи. А еще про покой говорится, что у малого дитя самая счастливая пора, когда он на груди у матери спит. У девушки с парнем – когда они, впервые взявшись за руки, пойдут. А у старого деда нет счастливей поры, когда ничто не тревожит его сердце.
Вот потому и говорили в старину, что наивернейшее средство от недугов – покой. И все это говорилось потому, что недоступен он был людям в те годы. Жизнь тех, кто лес рубил, чугун плавил, заводы ставил, – не им принадлежала, а господам и их семейству. Как хотели, так и измывались они над работными людьми. Где уж тут быть покою! Хоть бы до полувека дотянуть и под плеть не угодить…
Ну вот значит. Жила Акуля с отцом и с матерью в самом Кыштыме. Отец работал в заводе, а мать, как полагалось, домашности вела. Ро́стила детей, а в лето и осенней порой со всеми заводскими женками в лесу веники березовые вязала да хмель собирала.
Великое множество в те старые годы росло хмеля по горам и лесам. Пойдешь, бывало, в лес – не продерешься. Недаром наши уральские леса дремучими называли. Когда поспевал хмель, всеми заводами женки выходили в Урал, в горы. Ходили собирать хмель и девки. Вот где веселье было! По неделям в лесу жили.
Как только, бывало, забрезжит рассвет и птицы запоют, выходили все из балаганов. Девушки хмель рвали, а ребятишки за ними с корзинами шли. Больше все по медвежьим тропам ходили, легче было пробраться, да и хмель по краям легче рвать.
Рвут, бывало, девушки хмель, а сами душу отводят – песни поют. То проголосную заведут, то удалую – в голосов двадцать грянут. Далеко в горах отдавало. А когда в лесу темнело, с ближних куреней и томилок после работы приходили парни. Разводили костры, появлялись самоделки-дудки, то бубен, то скрипка, и до зари тогда песни будили горы…
Ох уж этот хмель! Это тебе не сон-трава. Много поколений на заводах Урала эта цепкая трава породнила. Ну, а кое-кого и разлучила. Многих же жить научила. Всякое бывало. На кругу, да еще при песнях, человеческий характер пуще раскрывался. Это тебе не посиделки в душной избе, а в лесу, когда над головой небо в звездах, а под ногами немятая трава, синие хребты и дали неоглядные… В такое время звонче песня, жарче и пламенней любовь.
Ходила и Акуля хмель рвать. Только горе было ей – песни не умела петь. Затянут подружки песню, а она молчком идет. Поначалу обижались девушки на нее, гордой считали. Ну, а когда узнали, что не туда ее песня тянет, шутили и смеялись.
– Спой, Акуля, песенку про дудочку берестяну, – скажут ей подружки, а она отшучивалась только.
Но если надо было подружке совет дать в нелегкой девичьей судьбе, Акуля была первой. Многим девушкам она совет дала, и такой, что те в лесу, во хмелю и в разных бедах головы не потеряли. Всегда спокойная, приветливая, любила Акуля на людях жить. Крепкого словца парней не чуралась, но вела себя среди них строго. Вот потому и была у всех на примете, хотя примерной и не старалась быть, не ужималась, а веселилась и жила, как и все. Да и на покосе ее литовка будто пела. В любой работе не скучали ее руки. Свое дело не забывала сделать, и на чужой двор успевала сбегать, где беда случалась или хворь соседку одолевала. Другой девчонке и слова не скажи. Сразу огрызнется, да еще такой туман напустит, что не рад будешь, что и связался. Говорили старики: «Акуля же кого спокойно урезонит, над кем посмеется в шутку и так, что человек сам поймет, если ошибался». Одним словом, добивалась Акуля своего, ежели нужда была в таком деле. У кого ведь на что дар бывает. Кто складно говорит, а кто песни поет звонко. Вот оно, дело-то, какое.
Как-то раз пошли девушки в лес хмель рвать. Из дома вышли по холодку, чтобы до жары добраться в лес. Вот и завод прошли. Не стало видно шапки Сугомака. Егоза пропала из глаз. Вышли на тракт. Веселее зашагали, оттого что бойкущие в те времена были эти места. Тут тебе веселуха-тропа на Тибук – большое село, а через него на Екатеринбург. Дорога на Казань – через горы и по Каме на Волгу.
Не успели девушки пройти и с версту, как вдруг – две тройки, одна за другой, навстречу девушкам показались. На козлах сидели жирные в черных кафтанах кучера. В колясках – господа. Девушки посторонились, сошли с дороги, остановились. В первой коляске – три барыни колыхались. На другой – сам хозяин завода Зотов с прихлебателями.
Как водилось тогда, девушки господам в пояс поклонились. Барыни прокатили и не оглянулись, а старик Зотов знающим глазом оглядел девичий цветник в домотканых сарафанах. Видать, цепкий взгляд был у старика, коли, как увидал девушек, тут же приказал кучеру остановить коней.
Вылез старик из коляски, за ним выпорхнули два молодых господина, опоздав Зотова поддержать.
Тройка тоже остановилась, и барыни, шурша шелками юбок, тоже выкатились из коляски. Медленно подошли к Зотову, разглядывавшему девушек, словно на базаре коней. Девушки же стояли стайкой вокруг Акули, будто она могла защитить их от барского взгляда.
А они, эти два выцветших, но еще не потерявших силы глаза, буравили девичьи лица. Только одна из них не сробела, не отвела свой взор от узеньких щелок, из которых на нее в упор два зрачка сверкали. Вначале они Акулю холодным блеском обдали, а потом вдруг в них что-то блеснуло раз, другой – и Зотов резко, как всегда, скороговоркой проговорил, обращаясь к молодым господам, одетым, словно петухи. На них были в клетку штаны, ярко-голубые жилеты и желтые шарфы.
– Милостивые господа! – сердито сказал Зотов «петухам». – Дозвольте вас спросить! Вы модель искали? Сколько вы истратили денег на поиски ее? А где были у вас глаза? Везде самому надо доглядеть. Иисусовы младенцы!
Молодые господа что-то невнятно бормотали, боясь поднять глаза на старика. А он, побагровев от ярости, кричал на них:
– Вот глядите на эту! – И, тыча хлыстом Акулю, зло сказал: – Чистая модель. Куда только вы глядели? Ну-ка идите все вперед! – приказал он девушкам. – А ты ступай назад, – кинул он Акуле. – Да смотри не оглядывайся. Слышишь?
Девушки как стояли стайкой, так и кинулись бежать, а Акуля, спокойно повернувшись спиной к господам, пошла назад. Только, видать, от гнева, сжавшего ее сердце на господ, разрумянилась еще пуще.
– Вот, матушки, глядите! – не отрывая глаз от идущей Акули, кричал Зотов на барынь. – Учитесь, как надо ходить. Чисто богиня идет эта девка! А вы – как откормленные утки!
– Что вы, папаша! – хотела было прервать отца его дочь – толстая, длинноносая дама, но он не дал ей договорить и еще тверже и сердитей проговорил:
– Богиня чисто! Ну и девка!
Хоть и говорится, что облака кладам не указчики, но, видать, в это утро только эти нежные белые облака, плывущие над горами, смогли открыть заводчику Зотову настоящий клад, который он здесь и не искал. В то утро ему шибко повезло. С Соймоновской долины работные ночью принесли ему весть, что найден самородок на пять фунтов весом, оттого и, хоть рань была, но весь господский дом был поднят на ноги (чтобы съездить на прииск и поглядеть на редкую находку, а потом взять самородок и спрятать за семипудовыми замками). А тут еще находка. Да где? Прямо на дороге.
– Нечего сказать, – шипел Зотов. – Тратили деньги. Искали. Заграничную жужелку привезли. А здесь на глазах богиня ходит!
– Далась ему какая-то богиня! – ворчала Зотиха себе под нос. – Сам, поди, ладом не знает, какие такие богини бывают.
Но промолчала – вслух не сказала, только губы еще крепче сжала да сердитей платочком замахала.
А Акуля все шла, как барин приказал. Все горело в ней, а сильней всего сердце ныло. Чуяла она, как рассматривали ее господа. Опять Зотов оглядел ее. Хлопнул по девичьей спине, на которой, как кора сосновая, красовалась коса, и долго задержал ладонь на Акулином плече, но, скосив глаза на стоящую тут же Зотиху, потушил в глазах у себя недобрый огонек и приказал помощникам своим: – Лепить Кузьке с этой девки! – и, круто повернувшись, зашагал к коляске. За ним последовали остальные.
Барыни, будто объевшись клюквы, уселись в экипаж… Гикнули кучера на коней, и только придорожная пыль обдала Акулю, все еще стоящую на дороге, да звон шеркунцов еще долго по лесу звенел…
Вернулись девушки обратно, окружили Акулю. Печально они глядели на подружку, чуя, что унесли тройки их покой, а больше всего покой Акули, и девичьим их радостям надолго пришел конец.
«Что теперь будет с Акулей?» – думала каждая из ее подружек. Только верченая Гранька, первая песельница на заводе и заводила на вечерках, вдруг проговорила:
– А я все знаю про жужелку, не сойти мне с этого места, знаю!
– Ежели знаешь, то расскажи, – просили девушки подружку.
– А чё рассказывать? Видела я ее. Черная такая. Позавчерась я в щелку подглядела, как она крутилась перед зеркалами. Ну, девоньки, я вам скажу – чистая модель, только суховата против наших заводских. И выписали ее правда для модели – статуи по ней в Каслях будут лепить, а потом отливать из чугуна – вроде как подсвечник чугунный.
– Из чугуна?
– Знамо, из чугуна.
– И откуда только ты все знаешь? Чистый веник ты, Гранька. Весь сор по заугольям выметаешь, – удивлялись подружки.
– Э! Глазок да язычок надо попроворней иметь, вот и все узнаешь! – отсыпала Гранька.
– А как ты в господский дом попала? – спросила Акуля.
– Эх! Акулечка, родная, догадливый человек всегда сумеет гору обойти. Да у меня ведь глаз кошачий, а кошачий глаз дыму не боится, – как всегда с умыслом, с шуткой отвечала Гранька.
– А ты, Гранюшка, без умысла расскажи про жужелку. Какая она – добрая или злая? – допытывались девушки.
– И вовсе она не злая, и жужелкой барин ее прозвал зря. Правда, она тонкая, худая, все плачет – видать, скучает. От добра бы не залетела в такую даль. И перед зеркалами кружиться ей надо. Какой-то танец учит. Гостей ждут господа. Для модели приехала сюда. Но только как барин поглядел на нее, тут же сказал:
– Ношенную одежду не надеваем. Не подойдет. И все тут.
– Вот и получается: как кукушка только по весне кукует, так и наша девичья красота рано увядает, – вставила Варвара, первая подружка Акули.
Хоть и с недоверием слушали девушки Граньку, но многое узнали – потом уж стороной, что верно плела Гранька. Узнали и о том, что барину срочно понадобилась модель для статуи – подсвечника редкой красоты.
Узнали и о том, что лепить статую должен Кузьма Паньков – наипервейший мастер в Каслях.
Так и вернулись в тот день девушки в завод без хмеля. Всю дорогу думала Акуля про себя – что-то будет с ней? Все мерещился барский кафтан и хитрые глаза хозяина, да на плече, где лежала барская рука, все еще будто кто-то горящей свечкой прижигал…
А утром к ним в избу уже пришел нарядчик. Разговор с ним был коротким.
– Акулину требуют в контору, – буркнул он. И уже у самого порога наказал отцу Акули: – Мотри, Игнат. Не придет Акулина – ты в ответе.
Не хотела Акуля подводить родителей под плеть, а потому, как только нарядчик ушел, стала собираться. Поклонилась образам, что в углу темнели, и сказала отцу:
– Не печальтесь, тятенька, по мне, можа, все обойдется. – И спокойно из избы пошла. На заводе все уж знали, что хозяина глаз остановился на Акуле и он потребовал ее в контору. Почти всем заводом вышли проводить Акулю, да нарядчики разогнали.
– Может, в последний раз голубушка идет по родной улочке, – вздыхала какая-то бабка, стоя у ворот.
– Будет тебе, баушка, причитать и заживо девку отпевать. Отцовская ведь она дочь, а не приблудная какая. Побоятся, поди, господа беззаконие какое над ней сотворить, – вставила какая-то молодайка.
– Э! Матушка! Видать, забыла ты про Марью Сидельникову. Будто она девок подбивала на работу не выходить. Принародно казнили девку. Барскую волю показали. И все оттого, что не хотела Марья терпеть барынины щипки и оплеухи. Мы, мол, господа, чего хотим, то и делаем над вами, – не унималась старуха.
– Да перестань ты, бабка. Сама не маленькая я: понимаю, чё к чему, – сказала на ходу молодайка, кинувшись вслед за Акулей.
Ох, и разговоров в заводе было! В открытую ругали Зотова, не боясь наушников и егерей. – У него каждая копейка рублевым гвоздем прибита, – сказал про Зотова какой-то старик, подбивая парней пойти в контору и требовать выпустить Акулю.
– Ишь чего захотел!
– Захотел засыпать колодец снегом. Требовать выпустить Акулину… Нет, брат, чё захочет барин, то и будет. У него ведь деньги, а деньги, говорится, могут и в камне провертеть дыру, а не только в человечьем сердце. Откупится хоть от кого он, – говорили мужики.
– Э! Не говори, бывает душа – покрепче камня – никакому миллионщику не купить…
Зотов увидел в окошке, как люди собирались у церкви. Приказал лакею немедленно выйти на площадь и барскую волю объявить. Дескать, Акулине ничего не будет, и потребовал ее барин для того, чтобы с нее лепить модель.
– Так и скажи: радуйтесь за девку – барин честь ей оказал. Пущай расходятся по избам. Навадились табуниться.
Как приказывал Зотов, так и обсказал лакей народу, только об одном он умолчал, не выдал барской тайны: отчего вдруг барин подобрел. Знал окаянный лакей-хитрюга, что деньги, лежащие у господ за семипудовыми замками, не светом грели, а человеческой кровью пропитались, и настолько от них тяжелый дух пошел, что до самого Петербурга донесло…
Заговорили там даже те о зотовских бесчинствах, кто раньше на них закрывал глаза. Многое стало всплывать. Известно, рыба живет в воде, а воду мутит. Пришлось кровавой кыштымской мутью заняться тем, кто этой мутью сам питался. Была назначена комиссия сверху для проверки дел на заводах Кыштыма.
Вот и забегали мурашки по широкой зотовской спине. Знал он, как по спинам работных гуляли его плети. Сам не раз людей стегал, когда в бешенстве бывал на непокорных работных. Вот и полетели взятки от него в Екатеринбург горному начальству. Но там, видать, показалось кое-кому мало иль уже было поздно и невозможно замазать следы тяжких преступлений. Пришлось тогда Зотову готовить подарки повыше – в Петербург. А кому? Самому Строганову. К нему все ниточки о зотовских делах тянулись.
Надумал он, пока было не поздно, купить графа Строганова редкостным подарком. Знал, что с черного хода требуется к сердцам вельмож подходить. К тому же всем было известно, что Строганов был большим любителем редкостных вещей. И даже в Петербурге имел дворец, в котором хранились эти редкие поделки. То из бронзы или из серебра, то ковры какой-то дивной расцветки. Одним словом, в строгановском дворце выставлялось все, что очень дорого ценилось.
Пытался было зять Зотова отговорить старика от этой затеи. Бесполезно, мол, все это будет. Но не шибко слушал Зотов зятя, оттого что зять был в глазах Зотова небольшой находкой…
Да, высок Сугомак, да шапки перед ним не ломают. Не мог Зотов сломить у работных людей волю, как и не сняли перед ним шапки те, кто был повыше его…
Оттого пришлось Зотову большим заходом свою шкуру спасать.
Пал хозяйский выбор Строганову подношение изготовить – чугунную богиню – на Кузьму, прозванного Соболенком. Уж больно чернобровый парень был да собой пригожий. И мастер отменный. Говорят, такие решетки отделывал – одно заглядение. Каждая весом в семь или восемь фунтов, а длиной, как полагалось, в полтора аршина между столбами. Прочности и ажура отменных.
Для модели была выписана чужестранка. Только как поглядел на нее Кузя – наотрез отказался светильник делать.
– Чего хотите, то и делайте со мной, ваше степенство, – говорил Кузя управителю завода. – Хоть сейчас под плети, а формовки не будет. – Чуть не заикаясь, повторял одно и то же парень: – Нет в ней, в этой натуре, силы, чтобы подставку со свечами удержать. Да и с лица она, нечего сказать, вроде красивенькой куклы, только помята шибко. – И, поглядев еще раз на чужестранку, Кузя добавил: – Тощевата и красоты человеческой, что от сердца идет, в ней не светится.
Вот тогда и принялись натуру искать для Кузи. Не одну заводскую красавицу приводили для мастера. Привозили из Екатеринбурга, но Кузя только головой качал. То ноги толстоваты, то в плечах худовата, хоть девчонки были словно на подбор: молодые, будто елочки в бору. Говорят, все искал осанку и чтобы линии были все на месте.
А в это время, будто на зотовскую беду, из Екатеринбурга вершним приказчик прискакал. Недобрую весть привез он старику. Видать, шибко недобрая она была, коли, как услыхал ее Зотов, заметался и принялся торопить с литьем. «Добиться бы подарком отсрочки следствия, и я спасен», – думал про себя старик, как думают те, кто печку строит, когда захочет пирогов. Вот уж дело-то куда клонило.
Готова уже была чугунная беседка, словно из редких шелковых кружев свитая. Внутри ее была сделана ниша для статуи богини огня.
Итак, подошла Акуля для модели. Принялся Кузя за работу. Нарядили Акулю в древние одежды греческих богинь, и она еще краше стала.
Отвели Кузе каморку в подвале господского дома, чтобы при догляде он лепил свою модель. А как он увидел Акулю в нежном белом одеянии, с поднятой кверху рукой, аж в пот ударило парня. Такой человеческой красоты он не видал.
Лепил Кузя день, другой. Форма и линии были все на месте, как он говорил. Глаз с Акули не сводил. И она не волновалась, потому спорилась работа в Кузиных руках. Парень Кузя совестливым был, про девичий стыд не забывал. К девушке не прикасался…
И вдруг у него какая-то заминка вышла. То ли жилка оказалась одна толстовата, то ли ткань одеяния не воздушной получалась, а может быть, не мог парень передать в глине ту самую красоту, которая в Акуле светилась изнутри, – от сердца идущая…
Потемнел Кузя. Чуть было вовсе не остыл. Увидала такое Акуля. Сошла с положенного места, положила руку на его плечо и тихонько сказала:
– Дозволь, Кузьма Игнатыч, слово тебе сказать?
Будто ото сна очнулся Кузя, поднял голову, поглядел на Акулю:
– Говори, Акуля, говори!
– Вот ты бьешься, как я погляжу, а дело не получается, как хочешь, у тебя.
– Верно, – ответил Кузя. – И понять не могу, в чем заминка.
– А пошто ты у людей не спросишь? Ведь не один ты у нас мастер.
И, как могла, Акуля рассказала парню, о чем думалось ей тогда. Главное же, что мешало ему, – о самом святом для мастера: о точности чувства – той ниточке, которая идет от сердца мастера к поделке.
– На решетках ты, Кузьма Игнатыч, наторел. Ничего не скажешь, – говорила Акуля. – Только ты не сердись, о чем дальше я тебе скажу.
– Говори, Акуля, не таись.
– Вот, по-моему, ты возгордился малость, Кузьма Игнатыч. Дескать, вровень с мастерами я стал. Верно? А какой старый мастер отступался от своей поделки? Дедушка Торокин еще отцу говорил не раз: «Мастер, да еще добрый – только по первопутку ходит». А это, Кузьма Игнатыч, уж дорога, и большая! Это тебе не чугунок отлить. У вас в Каслях чугунок или сковородку любой мастерко сформует и отольет, а человека вылепить – это не каждому под силу. Значит, надо со старыми мастерами поговорить. Моего деда не обойди. Знаешь Вихляева-Клубничку?
– Знаю.
– Вот и обскажи ему. Так, мол, и так. Подсоби, дедушка, – урезонивала Акуля Кузю. И ведь урезонила.
Пошел он к старому мастеру Вихляеву – деду Акули, прозванному Клубничкой за то, что до старости у него румянец на щеках играл.
Обрадовался приходу Кузи старый мастер, аж слезу смахнул, оттого что парень совета у него запросил. Пошел с Кузей в мастерскую, где работал Кузя. Долго-долго глядел, как лепил парень, а потом сказал:
– Много нашего брата в каждую поделку свою жизнь вдохнуло, пока до самой тайности дошли. А у тебя пока только глина. Отпросись на день, на два у приказчика, да вместе с Акулиной по лесу походи. На озера подайтесь, а то на Сугомак заберись, а Акуле прикажи постоять на другой горе – ну хоть на Егозе. Одним словом, на живую девку посмотри. А то стоит она и вправду, чисто статуй. Живой кровинки ты и не видишь… Ну, а за то, что послушался Акулину, – в добрый ей час. Мастера в тебе она углядела, а может, ты у нее в сердце занозился? И так бывает. Дело молодое. Оба вы в цвету, на славе. А где две славы – там и третьей не миновать. Значит, добрая семья родится.
С хитринкой в глазах косился Клубничка на Кузю…
Говорят, маленькая ранка – и то к сердцу, а попробуй пересиль себя, когда в сердце любовь занозится. Трудно угомонить его. Да и к чему? От этого сердце не стареет. Вот и не смогли Кузя с Акулей пересилить свою любовь. А когда она зацвела в их сердцах, они и сами не знали. То ли на Сугомак-горе, когда стояли и глядели на озера и дальние хребты. То ли когда друг дружке в глаза глядели да бегали в лесу… Не прятали они своей любви, да и к чему было прятаться, коли пришла для них самая пора свить свое гнездо…
Стояла в ту пору весенняя пора, когда каждая почка на березах распускалась, в озерах заиграла рыба, по зорям нежней запели птицы. И только бы расцвести Кузиной любви с Акулей, как налетела на них гроза, и не с Сугомак-горы, а из хозяйского дома ее принесли злые люди. Все разметала эта гроза в их короткой жизни, и случилось это сразу же, как только Кузя сдал свою чугунную богиню огня: подсвечник чуть ли не в полный человеческий рост с лицом Акуля и такой красоты – не опишешь…
Будто в воду глядел старый мастер Клубничка. Еще пока кончал поделку Кузя, сговорились они с Акулей о свадьбе. И за неделю до нее это горе с ними приключилось.
Уже шумели на обоих заводах сваты. Шутка ли сказать – два завода роднились. С той и другой стороны родня старалась. Как никак, в Каслях гордились мастером Кузей Соболенком, а в Кыштыме – первой умницей Акулей. Говорят, одних пельменей было настряпано с тыщу и спущено в погреба. Отгуляли уж девичник, и вечером перед свадьбой парни и девушки ватагой пошли на озера. Шли они зорю провожать. Подошли к самому краю горы и долго глядели, как темнел закат на вершинах сопок, как сумерки спускались на землю…
Потихоньку разошлись парами. Говорят, в такую пору вдвоем все видней. Остались одни и Кузя с Акулей. Рядышком стояли. И вдруг увидали, как два лебедя у самого берега играют – крыльями широко взмахнут и над водой круг дадут. И надо же такое: птицы, а поняли, что не обидят их те двое, что стояли над обрывом. У самих любовь была.
Не слыхали ни лебеди, ни лес, ни сопки, о чем говорили Акуля с Кузей, да и нам неведомо такое. Только и услыхали, когда Акуля, раскрыв руки, словно птица крылья, в своих белоснежных рукавах сарафана, крикнула лебедям:
– Птицы вы мои, лебеди гордые! Стерегите вы мое счастье девичье от всяких бед: от темной ночи, от злых ветров и от худого глаза. Сберегите моего милого от черных сил. – И, сдернув с головы платок, кинула его на воду…
Но не смогли лебеди сберечь Акулино счастье. Не было силы у этой птицы светлой против человеческого зла. Не знали ни Кузя, ни Акуля об этом, как не ведали они и о том, что это был последний вечер в их жизни, когда они женихом и невестой стояли перед родными горами и в верности клялись.
На другой день с раннего утра в Каслях и в Кыштыме поднялось такое, будто нежданно Мамай пришел. Барский приказ был таков: «Немедля всю чугунную беседку, вместе с Кузиной богиней, спешно отправить в Париж. Два короба с мелкими поделками – разными крохотными рыбками из чугуна, птицами и самой тонкой работы поделками… Подарками для тех, кто будет обозревать беседку».
Не знали в заводах люди, что время поджимало Зотова с подарками Строганову: уж весть и до Кыштыма дошла, что проверять заводы будет сам хозяин. Вот потому так спешно и были снаряжены подводы с подарками и отправлены в Париж… А вместе с беседкой из чугуна и разными поделками были отправлены мастера, среди которых был и Кузя. Вот как все оборотилось. И как ни просил Кузя приказчика и управителя не посылать его в Париж, дескать, невеста ждет и свадьба наготове, – куда там. Не любил управитель менять свое слово. Как сказал, так и должно быть. Сказал, будто отрубил…
Но зря торопился Зотов с подарком для Строганова: граф сам выехал из Петербурга на Урал для ревизии Кыштымских заводов. Немало он покопался в зотовских делах, даже, говорят, был спущен пруд в заводе и на дне его были найдены кости людей… Не спас заводчика Зотова подарок, одного только он добился: вместо того, чтобы пройти сквозь строй за свои злодеяния и быть битым батогами, он был сослан с Урала…
С Кузей же дальше вот что приключилось.
Долго ехали посланцы с Урала в Париж, где Строганов еще задолго до поездки в Кыштым собирался в одном из дворцов выставить для парижской знати свои редкие поделки. Широко задумал Строганов ошеломить тогдашних любителей редкостных изделий, а потому подарок Зотова пришелся к месту…
Подводы с беседкой и всеми остальными поделками прибыли в Париж, и, пока в Кыштыме ревизия шла, Кузя вместе с другими парнями собирал чугунную беседку и устанавливал свою богиню. Немало потрудились парни, собирая беседку, а когда Кузя установил в ней богиню из чугуна и зажег в ее руке свечи, то чугун словно замерцал синевой, а чугунные кружева стали еще тоньше и нежней, богиня же, казалось, вот-вот сойдет с места…
Позднее, когда гостям был показан зал, где стояла ажурная беседка и в ней богиня огня с зажженными свечами в поднятой руке, а у входа в беседку два парня в кумачовых рубахах, плисовых штанах и в лаковых сапогах, – гости все ахнули от восхищения. В руках парни держали бархатные подушечки, а на них лежали крохотные окуньки, лебеди и слоны из чугуна. Были они меньше булавочной головки.
Восхищались гости: кто кружевами из чугуна, кто окуньками, а больше всего богиней огня. Но нашлись и такие, которых восхитили парни – красота несказанная…
Целый месяц стояли парни поочередно у входа в беседку и подавали гостям подарки на подушечках. Кто чего из гостей выбирал.
Но вот стал примечать Кузя, что одна важная красивая барыня чаще других подходила за подарком. Приходила она не одна, а с какой-то старухой в большущем чепце и широком платье.
Одета была барыня отменно. Все на ней сияло. Богатые уборы из самоцветов, на плечах – белая шаль из каких-то перьев. Богатое шелковое платье. Одним словом, в глазах Кузи и остальных парней эта дама – будто королевна…
И вот как-то раз приказчик, посланный с парнями в Париж, приказал Кузе во дворец этой знатной барыни-герцогини (такой титул она имела) явиться.
Пошел Кузя к герцогине, как приказано было. Кое-как нашел этот дворец. Сразу парня туда впустили – значит, ждали. Как полагалось – в пояс барыне поклонился, когда ввели его в большую камору. Там в большом кресле сидела герцогиня. Тут же старуха в чепце находилась. Стала барыня Кузе предлагать, чтобы остался он в Париже. Лопочет по-своему, а старуха, как переводчица, Кузе все передает.
– Вольную ты получишь, – говорила герцогиня. – Будешь жить богаче управителя. Только отлей не одну такую же статую, какую привез.
Сказала так герцогиня и встала с кресла. Раскрыла руки и к Кузе подошла. Близко-близко. И такой от нее дух нежный пошел, что у Кузи аж голову закружило… И показалось ему, что не барыня перед ним стояла, а Акуля к нему близко-близко подошла… Но сумел пересилить себя Кузя. Опять барыне поклонился и сказал:
– Благодарствуем, ваша светлость! Только работать тутотка нам несподручно. Не те глины для формовки, а насчет прочего… – и он замолчал. Поклонился низко в пояс и к двери пошел.
Видать, крепко зацепилась в голове у герцогини мысль о бесценной красоте уральского чугуна, а главное, большие деньги. Ох, большие капиталы могло принести оно, это литье. Сколько бы можно было покрыть долгов… Герцогиня приказала вернуть мастера.
Какие деньги она парню предлагала! Просила хоть рассказать о тайне литья, говоря: – Я к тебе приставлю самого лучшего мастера по литью бронзы и серебра. Дам лучших кузнецов, а ты им расскажешь, как отлить статую! Говорила и с жадностью глядела на сказочную красоту парня… И она барыню манила…
Побледнел даже от таких слов парень. Сроду не доводилось ему слыхать такое. И он поначалу даже растерялся от таких барских предложений, но, поняв, куда клонит она, – осердился. «Ишь какая, работного так можно купить. Да знала бы важная госпожа, что не для господ стараемся, а за честь мастера стоим!» – подумал он про себя. А потому сразу нашел ответ:
– Еще раз благодарствуем, ваша светлость. Но такое не продаем! – сказал и, круто повернувшись, вышел.
Герцогиня же бессильно опустилась в кресло…
Когда Кузя воротился в камору, где они, все парни, жили под дворцом, и рассказал друзьям про то, что с ним приключилось в барском дворце, Ваньша Поздняков – мастер из мастеров по мелкой чеканке – тут же сказал:
– Эх, Кузьма, Кузьма! Ровно ты не знаешь, что возле добрых дел всегда черти водятся. Вот и оборотилась нечистая сила этой самой барыней, чтобы обмануть тебя – мастера испортить. А, можа, и вправду бабочка обзарилась на тебя, а более того на твою богиню. Чугунок-то наш хоть кого приманит…