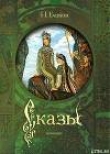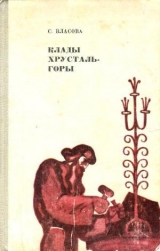
Текст книги "Клады Хрусталь-горы"
Автор книги: Серафима Власова
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Враз заарканили ее конники бая и к нему потащили ее. Долго там пытали. Кирей требовал ответа: сколько она видела войск у Грязнова? Большой ли стан? Главное же, чтобы отреклась от Касьяна – от сына и от русского конца на озере «Семь ветров», в аул бы воротилась, где родилась. Но не покорилась Зузелка баю. Озверел Кирей. Приказал ее в яму бросить и медведя спустить туда.
Сказка есть сказка: чего и не было, а в сказке есть. Вот и говорится дальше, что донесли Грязнову те, кто про свою жизнь у бая говорил: «Не вода страшна, страшны омуты. Не работа страшна, страшны плети».
Байские пастухи тайно послали толмача и гонца в стан Грязнова. А пока Кирей от радости руки тер и скреб бороденку, что отомстил Зузелке, отряд грязновских молодцов уже приближался к Киреевой кибитке. Услышал бай ржание коней и крики. Выскочил из кибитки и тут же замертво упал. Кругом целая войнишка уж кипела.
Увидев мертвым Кирея, его лучники и вся стража тут же оружие побросали и всем отрядом к Грязнову перешли. Освободили Зузелку, цепи сняли с нее…
И снова из века в век прошли годы. Говорят, всякое дело человеком ставится, всякое дело человеком славится. И хоть удалось в те времена царским войскам взять верх над восставшими и их кровью реки окрасить, добрая молва и слава о Пугачеве и его верном атамане Грязнове не умерла и до нас дошла.
Не потухла память и о Зузелке. В одной песне о ней поется, будто, когда поправилась она от пыток бая, в одежду воина оделась и вместе с сыном в отряде Грязнова в поход пошла. Под Каслинским заводом погиб Касьян – названый сын, рядом сраженная казачьей саблей упала Зузелка…
Потом много лет спустя, какой-то беглый пугачевец – крепостной живописец – по памяти нарисовал ее портрет. И висит он ныне то ли в Тюмени, то ли в Тобольске. Как он туда попал? Не знаю. Все говорят, что с портрета глядит красавица ордынка, про которую сказки сказывают.
А еще добавляют: будто из ямы, где томилась Зузелка, вскоре небольшой ключик забил. Родничок в речку превратился, и назвали ее Зузелкой в память о храброй и светлой ордынке. Давно в те места, где Зузелка жила, большая жизнь пришла. Появились города, поселки. Только речка Зузелка все бежит и бежит и сказку про ордынку говорит.
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
В старые годы это было. Один раз собралось начальство в клуб. Новый год встречать. Пришлось пойти туда и Кузнецову.
В главной конторе чертежником у нас работал. Не парень, а соловей. Вот за голос его и взяли в хор. А парень только что женился. Жену взял из рабочих, а ее в клуб не пускали – одно начальство с женами там гуляло. Кипело сердце у Кузнецова от обиды, и решил он господам отместку устроить.
Управитель, надзиратели, смотрители, словом все начальство было уже навеселе. Кузнецов возьми да и шепни, так, будто невзначай, Позднякову, что на Верхнем заводе сегодня кто-то самородок видел большой. В третьей шахте его нашли, и жила новая обозначилась.
– А видел самородок и жилу Немешаев, приказчик с Верхнего, – говорил Кузнецов.
Немешаев был тут же и сильно выпивший. Поздняков кинулся к Немешаеву, тот спьяна и давай хвастать про самородок, да так загнул, что всех зависть взяла. Известно, как золото господский глаз резало, родную мать за него продадут и не выкупят. Враз один занемог на вечеру, за ним другой с женой зал покинул, – на коня да на Верхний айда. Так один за другим клуб все и оставили.
Первым, конечно, на Верхний прискакал управитель. Караульным был Трошков-Кашинский, баламут известный. Как увидал он управителя возле шахты, от удивления аж лоб перекрестил, хоть сроду не молился.
Ну вот, смотрит Трошков на управителя, а тот с санок соскочил да на Кашинского:
– Сказывай, где седни работали люди? Где новую жилу нашли?
Смекнул старик, знал про дела, когда рабочие в отместку начальству разные шутки подкладывали, а уж Самойлову надо было на особицу подкатить. Любил управитель в шахтах рабочих по морде бить. Как зайдет, бывало, к рабочим, непременно кого-нибудь да треснет.
Бежит, значит, Самойлов по шахте, а за ним караульный с лампешкой в руке семенит, сам думает про себя: «Погоди ужо, поздравлю я тебя с новой жилой седни».
– Ваше степенство, – кричит управителю Трошков. – Не туды след направили. – И, будто ничего не понимая, добавляет: – Доведу я вас, ваше степенство, до ствола, а там, как сами знаете – хоть убейте меня, хоть засеките, дале не пойду. Боязно. Неладно там с утра. Как жила-то обозначилась, народ сказывал, морок появился – знать, жилу отдать не хочет. Весь в белом – в саване бродит.
– Какой там черт морок, сам ты морок, болван старый, выжил совсем из ума, – закричал в ответ управитель. Выхватил он лампу у старика да в забой.
А тут еще забрякали у шахты колокольцы под дугой.
«Ну и взяло их, брат, – один за другим подкатывают. Спятили с ума знать-то», – подумал про себя Трошков, а сам глядит, что будет делать управитель.
Пробежал весь главный ствол управитель и в сторону свернул, как караульный показывал, а там темень кругом – известно, под землей. Бежит управитель, в руке лампа маячит, и вдруг как заорет на всю шахту – перед ним в забое самонастоящий мертвяк в белом саване колыбается. Высокущий такой. Уставился управитель на мертвяка, и хмель от страха прошел. Стоит управитель и орет благим матом, а потом как кинется бежать обратно, сбил с ног старика, сам об крепь морду разбил и все бежит и орет. А навстречу остальное начальство несется.
Столкнулись лоб в лоб с управителем, видят – дело неладное да обратно. И тоже орут. Подумали обвал в шахте. Выскочили из шахты за управителем, а мороз был большой. Сгребся молча Самойлов, да на коней и обратно в завод. За ним остальные. Только было хотели гнать, а Трошков поглядел на небо будто звезды подсчитал, да к кошевкам подошел, на которых господа уселись, и давай их поздравлять. Дескать, с новым годом, вас.
Наутре, говорят, управитель встал, и будто кто ему мукой голову обсыпал. Долго смеялись рабочие над ним – так, между собой. Не мертвяк в шахте был, а старая крепь, вся, как инеем, грибком белым покрылась, а в темноте и впрямь за мертвяка принять можно.
Сроду больше не ездил Самойлов на Верхний по ночам.
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Недавно мне довелось на золотой шахтерской свадьбе побывать и на свадьбе той любопытный сказ услыхать. Рассказывала мать «молодой», старая девяностолетняя бабка Федосья:
– Вот гляжу я на эти подарки, шелка да бархат: что тебе, моя дочь, надарили, и вспоминаю, каким подарком мой дед мать наградил, когда она замуж выходила; интересный подарок он ей подарил в день ее свадьбы!
– Расскажи, бабушка, расскажи! – все в зале вдруг зашумели.
– Что же, можно и рассказать. Только, когда надоест слушать, и перестать можно.
Давно это было. В ту пору на господ еще робили. Мой дед – отец матери, горщиком был. В земле рылся. Шурфы бил, крепи ставил, самоцветы искал.
Жил он вдовцом, с дочкой, – это с матерью-то моей. Одна она радость была в его жизни вдовьей. Мать мою Парасковьей звали. Пришло время дочь замуж выдавать. От сватов – хоть ворота забивай. Люди говорили, будто мать была собой хороша, всем взяла и красотой и приветом. Высокая, статная, она и в шурфах хозяйкой была, одним словом: на работе – метелка, на кругу – соловей. Сколько не отнекивался дед от сватов, а пришлось с дочкой расстаться.
Выдал дед дочку замуж. За чужим добром не погнался. Отдал за такого же горщика – судьбою горького, каким был и сам. Думал ровня будет. Не обидят его дочь. А вышло все по-другому. Тоже, конечно, свадьба была. По бедности в церкву пешком шли. Тоже подарков им надарили. Старинный обычай. Хоть веник, а подарок. Подарили им три медных креста да два медных кольца, новые лапти и рубаху из холста. Для потехи, кто ухват принес, кто скобу от ворот. Но больше всех распотешил подарком своим дед – невестин отец.
Подарил он дочке полено от крепи. Дарил, а сам говорил при народе: «Пущай твоя жизнь будет так же крепка, как эта крепь от ствола!»
А один на один он дочке сказал:
– Вот, дочь моя. Знаю я бабью жизнь. Когда будет тебе невмоготу: беда ль присучится, аль горе возьмет, достань это полено, поплачь над ним и тебе легче станет. Оно никому ничего не расскажет. Никто о твоих слезах не узнает!
Завернула мать полено в тряпицу. Положила в свой рундучок, от глаз родни спрятала. А новой родни было много. Шестой снохой в дом мужа входила.
Прошел год, а может, и меньше. Явился отец дочь попроведать. Видит – осунулась вся. Стал он спрашивать ее:
– Как живется? Как сама?
А мать ему одно отвечает:
– Хорошо, тятенька, хорошо, родимый!
Прошло еще немного время. Видит дед – совсем потухла, как свечка, дочь. А уже я у нее родилась. Куда ее красота девалась!
Опять спросил он ее:
– Чем заскудалась? Аль обижают тебя?
А мать молчит, только часто портяным платочком холодный пот с лица утирает.
– А ну-ка достань полено, покажи мне его.
Достала она полешко из рундука. Развернула тряпицу, а в ней одна трухлядь лежала. От слез полено все развалилось. Тут только отец ее – это дед-то мой – все и узнал, отчего сохла мать.
Скотине в те поры и то отдых был в хозяйстве, а бабе отдых не полагался, да и свекор попался ей киль-килой, а свекровка смола-смолой. Вот и съели мать. Так мне потом люди говорили.
Вот она, жизнь-то бабья, какая была в старое время.
На этом, добрые люди, и сказу конец, только добавлю от себя маленько.
Хоть и старая я, а понимаю, что к чему делается. Про старую жизнь да про теперешнюю недавно сосед Егор Фомич Нефедов – тоже старый шахтер – сказал:
– Ране-то и на горе было темно, а теперь и в забое светло!
Верно он говорит: светло да хорошо житься стало!
СКАЗЫ О КАМНЕ
ЗАВЕТНЫЙ РОДНИК
Мой дедушка говорил: на Верхнем заводе не сразу золото обозначилось. Долго работали люди, по золоту ходили, а сами не знали, что под ногами у них оно лежит, в песке по ручьям прячется. Может, и не натакались, да горная матка помогла.
А дело было так:
Жил на Верхнем заводе старик с внуком. Старый-престарый дедушка был. Звали его Герасим, внука-сироту – Кольшей, Николаем, значит. Изба у них за рекой была, хуже бани другой. Вся в землю вросла, на одно оконце. По миру ходил Герасим, у церквей стоял по воскресным дням.
Один раз пришел к деду сосед Гаврила – славный мужик был. Жалел деда, а особенно внука. Пришел и говорит:
– Отпусти, дедушка, Кольшу ко мне на покос. Пущай к делу привыкает. Какую копейку заробит.
Отпустил старик Кольшу с Гаврилой на покос, а парнишке лет двенадцать миновало.
У Гаврилы была жена, Дарьей звали, жадней да ехидней бабенки не найти. Как ни ругалась Дарья на мужа, зачем, мол, парнишку берешь, лишний рот, – а все же настоял Гаврила, взял Кольшу.
Дал Гаврила литовку ему, как траву косить показал. Плачет парнишка. Махнет литовкой, а она из рук валится.
Две недели пробыли на покосе. Лето жаркое стояло, травы повысохли, одна осока осталась. По болотам косить начали. Обессилел парнишка, а тут еще Дарья гоняет: «Кольша, сюды, Кольша, туды!»
Под конец совсем слег парень.
Один раз под воскресенье ушли все с покоса в завод, не знали люди, что от жары лес начал гореть недалеко. Остался один Кольша сено у Гаврилы караулить. Залез в балаган, прилег на старый тулупчик и задремал. Вдруг слышит сквозь сон, кто-то идет к нему. Приподнялся парнишка с земли, поглядел сквозь балаган, ничего не видать: дым из леса, с дальних полос стелется по елани.
Только хотел было он снова прилечь, видит, идет к балагану девка и в руке у нее огонек горит. Подошла девка к балагану, на Кольшу так весело поглядела. Сама в красном сарафане и в красном платке, а от сарафана искорки в разные стороны сыплются.
Зашла она в балаган и спрашивает Кольшу:
– Боязно, поди, одному?
– А как же! Знамо боязно, исть охота. Тетка Дарья ушла и куска хлеба не оставила! – говорит Кольша девке. Поставила девка огонек на пол, с другой руки туесок сняла, достала шанег, молока, квасу и принялась кормить Кольшу. Ест Кольша, а сам удивляется: «Чья же девка?» А как наелся, девка ему и говорит:
– Скоро утро, вишь, уж светает. Пойдем я тебе один родник покажу. Для тебя с дедом он будет заветным. Золото там есть. Смотри только никому не говори, а то отымут у тебя золото, сызнова по миру пойдешь!
Пошла она с Кольшей по лесу, а лес стена стеной. Дошли они до родника, что под старой сосенкой бежал. Почерпнула девка ладошкой около родника песок, а уж светло стало. Сплеснула воду и Кольше ладонь раскрыла, а на ладони пять горошин золота лежало.
– Достань-ка сам попробуй!
Наклонился парнишка, почерпнул песок со дна ямки у родника, стал водой промывать. Пока промывал, девка ушла, а куда – он и не приметил.
Воротился Кольша в балаган, спрятал золотые горошины в портянки, покрепче лапти привязал, лег опять. И такой навалил на него сон, что сам не помнит, сколько проспал. Воротился когда в завод, первым долгом Кольша – к деду. Все обсказал: как девка его к роднику водила, как золото дала.
Открыл тогда старик внуку тайность про горную матку-огневицу. Будто она во время лесного пожара в горы прилетает.
Горит лес кругом. Зверь убегает, и вдруг поднимается ураган, ветер сосны, как ветки, шатает – гудит земля. Ежели близко стоять, где матка пролетает, – не устоять человеку, завертит и сожжет. Видать, это и была матка, – она часто девкой оборачивается, когда с гор вылетает. Пожалела сироту!
Ушел Кольша от Гаврилы. На золото они с дедом избу поправили и одежонку кое-какую завели. Хотел было парнишка в завод Верх-Сысертский поступить, как вдруг беда с ним приключилась.
Стала Дарья за дедом и Кольшей примечать – близкие соседи были: откуда, дескать, достаток у старика пришел? Уж не клад ли нашел?
Глаз не спускала с дедовой избы.
Вот раз заприметила Дарья, что Кольша в лес побежал, а дело было поздней осенью.
«Что ему в лесу надо? Зачем он в храпы[2]2
Храпы – дремучий лес на Урале.
[Закрыть] пошел?» – шипела про себя Дарья и живо за парнем вслед побежала.
Пришел Кольша к заветному роднику, намыл золота с золотник и обратно в завод подался.
Хотел щегерю золотник отдать, чтобы в завод работать принял. Было это до «воли».
Дома сели с дедом они ужинать – и вдруг надзиратель. Успела Дарья сбегать к нему и все обсказать. Так, мол, и так. Внук деда Герасима золото моет.
Коршуном напал надзиратель на старика и мальчонку. А когда Кольша по-ребячьи все от чистого сердца рассказал и про красную девку, что золото ему показала, и про родник, надзиратель про себя тут же решил отобрать золотую жилу. Себе присвоить.
Приказал он старика отодрать, Кольшу в Гумешки отправить, в шахты, а сам золотом овладел.
Открыли рудник в том месте и Дарью близко не подпустили. Дед Герасим после плетей помер. Добрые люди его схоронили, избенку ихнюю заколотили.
Прошло несколько лет. Вырос Кольша в Гумешках, в шахтах. Наступила для парня самая пора: восемнадцать годов миновало. Только не жилец он был уж: шахта без света, вечно в сырой воде, часто голодный – чахотка его и ела.
Перед смертью отпустили его в завод и то потому, что народ зашумел, жалея парня.
Пришел Кольша еле-еле домой, а жить нечем.
Пошел он к роднику. Кое-как дотащился.
Пришел на то место, где родник из горы бежал, и не узнал его.
Копошились люди в земле, целый рудник увидел. Трех сосенок, что у старой трухлявой сосны росли, уж не было, пеньки чернели и от двух белых берез, что по ту сторону родника качались, и люди будто чужие.
Забыли уж о нем в заводе, а кто помнил, тот не узнал.
Сел Кольша на пенек. Поглядел на разработки и шурфы и тихонько побрел обратно в завод.
Дня через два скончался.
Не пошло впрок Кольшино золото и надзирателю Темереву. Отобрал у него рудник сам управитель.
Потом там вдруг золото все пропало, как в землю ушло, да вот до самой Советской власти рудник и не работал.
МАЛАНЬИН СПОР
В дремучих лесах уральских, на высоких горах, возле озера Тургояк, когда-то девка одна жила. Маланьей ее звали.
Никто не ведал, какого роду и племени она была. Много народу всякого в те поры на камень бежало, от неволи царской спасалось.
Редкого ума Маланья была, смелая, ловкая, любой работы не чуралась и красоты была несказанной.
Славили люди ее. Кто за ум, кто за смелость, а больше всего любили ее за привет к людям и за то, что верной дочкой отцу с матерью была.
А Маланья любила свой рудник и горы – то синие, синие, что тургоякская волна перед рассветом, то хмурые, будто ночь в непогоду, а больше всего ее зори манили.
Говорят, что заря от зари отличается сильно: вечерняя к отдыху зовет, а утренняя к труду поднимает. Маланье же обе сестры-зори сродни были. Вместе с народом трудилась она, в земле рылась, где люди медную руду добывали, а потом эту руду купцам продавали.
И чем больше Маланья трудилась и красота ее сильней цвела, тем больше слава о ней по свету бежала.
То ли купцы ее разнесли, то ли ветер, что гулял над горами, только много женихов стало свататься к ней.
Были сваты и от бояр знатных, и от купцов из ближних и дальних стран, и от богатырей-воинов смелых. Но никого из них не любила Маланья – всем отказывала, сердце свое она давно отдала простому парню из рудника.
И вот как-то раз вздумал на Маланью поглядеть и самый могучий богатырь во всем свете. Временем его звали. Сел он на коня, что летит быстрее эха, и помчался на Урал, на горы-камень. У рудника, где работала девка, он остановился, подошел к народу и спросил:
– Где тут, люди добрые, Маланья живет?
А она в это время из шурфа выходила и большой кусок медной руды несла.
Люди ответили ему:
– Вон она, разве не видишь?
Посмотрел Время-богатырь на Маланью и ахнул. «Вот это красота!» – подумал он про себя и пошел к девке.
А Маланья, перекинув свою косу тяжелую с плеча на спину, положила руду на землю, распрямилась и весело на богатыря посмотрела, будто искорками его обдала.
«Не зря, выходит, люди про нее говорят: «Нашу Маланью по утрам солнышко целует», – усмехнулся про себя Время-богатырь.
– Тебе ли, Маланья, с такой красотой в земле рыться? Тебе в золоте только ходить, во дворцах богатых жить! – сказал ей он, низко в пояс кланяясь.
– Не ты первый про это мне говоришь, не ты первый золото сулишь, – ответила ему девка. – Только не надо мне этих богатств, я и без них проживу, а вот без родной земли, без этих гор и лесов зачахну я!
Удивился Время-богатырь, но не отступился. Отстегнул с пояса саблю, самоцветами украшенную, и Маланье ее в руки подал.
– Погляди в рукоять моей сабли. Видишь, в ней камешек горит?
Взяла Маланья в руки саблю, поглядела на редкий изумруд и сказала:
– Вижу!
– Да ты пуще посмотри, может, что и увидишь в камне! – настаивал богатырь.
Пригляделась Маланья в камень, а он заиграл, запереливался, чисто живой, в ее ладони. Далекие страны увидала в нем, белокаменные дворцы, моря и океаны.
Долго любовалась Маланья изумрудом. Весело смеялась над игрушкой и над тем, как знатные вельможи в собольих шубах, шапках с перьями кланялись ей из камня… Но вдруг бархатные брови в одно крыло слились у нее, на глаза печаль легла.
– А кто этот чудесный камень гранил, чьи руки такую красоту земли открыли? – у богатыря Маланья спросила. Вспомнились ей люди, что день и ночь в своих землянках при лучине камни такие гранили.
– Зачем тебе, Маланья, знать про это. Будешь и ты носить такие камни. А хочешь, подарю тебе я ключ от кладовки, где самоцветы горами лежат.
Покачала головой Маланья и богатырю обратно саблю отдала.
– Пойми, богатырь, меня. Мои еще деды говорили: «Дым родной избы светлей чужого огонька». И отвернувшись от богатыря, Маланья бровью повела.
Удивился Время-богатырь, но не отступился.
– Ты так же прекрасна, как и бабка твоя была! – сказал ей Время-богатырь. – Откуда же берется ваша красота?
– Откуда наша красота, говоришь, берется! – улыбнулась в ответ ему Маланья. – Когда пьешь воду из родника, ты думаешь, откуда он берет начало? Так вот пойдем. Покажу тебе я этот родник!
И они пошли. Долго, долго они по шахтам, рудникам и дудкам бродили. Видели, как трудились люди, как руду и самоцветы добывали, как работали в лесу.
– Кто ж они? – спросил Маланью богатырь.
– Это мой народ. У нас с ним один отец. Трудом его зовут. А теперь пойдем – поглядишь на мать.
И опять они пошли. Поднялись на середину самого хребта, на вершину высокую, что с незапамятных времен Юрмой зовется. Зашли.
Поклонились речушкам, горам и долинам, поклонились солнцу, ветрам, заре, спустившейся на землю, и людям, что копались в земле. Полюбовались дальними кострами по берегам озер и рек, лесами – зелеными, как море, и воскликнул Время-богатырь:
– Ежели бы ты и не сказала, кто твоя мать, все равно бы я догадался. Ее зовут жизнь.
– Верно, богатырь, ты угадал. Жизнь – наша мать. Теперь ты понял, где родник красоты человечьей?
Ничего не ответил богатырь. Только снова, как и прежде, с пояса он меч отцепил и Маланье в руки его отдал.
– Проспорил я, Маланья, а потому остаюсь с тобой. Я буду работать с вами!
И остался навсегда…