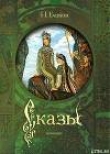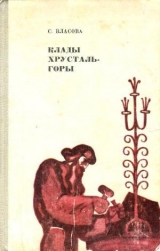
Текст книги "Клады Хрусталь-горы"
Автор книги: Серафима Власова
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
ПУШОК И ДУШОК
Я еще в бабки играл да змейки пускал, когда сказку эту про Пушка да Душка слыхал. Теперь мне годов под сто, а деду, который сказку сказывал, за сто. Вот и посчитай, когда это было.
В те поры старшим щегерем был у нас Епифан, а по прозвищу Лихоманка. Уж до того он с виду страшный был – все его боялись. Ростом оглобля, спина крючком, ноги кривые, оттого что много на коне гонял. С лица рябой и с козлиной бородкой. А уж злющий был. Сам про себя говорил, когда добрый стих находил: «В Христов день до обеда отходчив я».
Привяжется, бывало, к рабочим: «Это не так, это не эдак». Часами стоит возле человека. А уж говорить начнет – слюной забрызжет. По всей морде красные пятна пойдут. Сам трясется. Оттого и прозвали его Лихоманкой-трясучкой.
До страсти не любил Епифан козлов, а они у нас в заводе табуном ходили. Оттого он их не любил, что сам на козла походил. Был среди козлиного племени в заводе один такой козел, что люди сказку про него сложили да складно так ее говорили. Знать-то, мне и не рассказать, как дед. Но попытаюсь.
С виду этот козел был, как все остальные: весь в репье, кудели, лохматый, а уж душной – сил не было близко стоять возле него, с души воротило.
Пришел один раз Епифан на конный двор, а козлов на дворе больше коней оказалось. Только стал было щегерь во двор заходить – козел ему навстречу. Прошли друг возле друга они. Своротил нос Епифан и кричит конюхам, что есть духу:
– Язви вас, окаянные. Чего вы тут такую душину развели? Не ровен час, задохнуться можно.
А старший конюх Андрей Феофанов – ехидный был такой мужичонка – Епифану в ответ, не сходя с места:
– Што вы, Епифан Наркисыч. Это душок, а не душина. От ласки, зверка, значит. Пользительно для коней.
– Ну и душок. Провалились бы вы вместе с этим душком, – проворчал Епифан и пошел дальше.
С той поры и прозвали козла Душок, ради потехи над Епифаном. А козел был хитрущий, одним словом, из всех козлов козел. Придет к кому-нибудь ко двору, просунет голову в калитку и давай трясти бородой. Люди в насмешку козлу:
– Проходите, Душок Наркисыч. Милости просим.
Хохочут. А он пуще того старается, всяко изгибается. Ровно понимает, что про него говорят.
Один раз в субботу пошел Епифан в церковь ко всенощной, нарядился, как под венец: сапоги лаком блестят, волосы и борода лампадным маслом светятся. А всенощная-то уж началась. Опоздал Епифан: видать, долго прихорашивался. А тут еще у церковных ворот задержался: увидал кто-то его. Пока смотрел в сторону да картуз снимал, Душок из Базаренки как выскочит!
А за козлом здоровущий кобель бежал. Козел туда и сюда от собаки. Некуда податься, кроме как в ворота, а в воротах Епифан стоял, с лица пот вытирал. Не видать ему сзади, что делается. Тогда Душок решил между Епифановых ног проскочить – они ведь кривые были у него.
Шмыгнул козел и застрял в ногах Епифана. От кобеля рванулся он да Епифана поднял на себя, а тот как заорет.
От испуга обезумели и такой рев подняли все трое – Епифан, козел и кобель, что всенощную остановили.
Выскочили люди во двор и удивились – скачет по ограде козел, на козле Епифан болтается, а сзади за лытки кобель козла хватает. Озверел Душок, сбросил с себя Епифана, кинулся на пса. Кое-как разогнали. Ну какое после такого представления моление? Так все и разошлись, а уж смеялись над Лихоманкой люди – с год поминали. Другой бы на его месте со стыда ушел с завода, а Лихоманке – и горя мало. Только злей стал да трястись больше начал.
Жил на конном дворе недоумок Пушок – Ваня. Были у парня волосы белые, мягкие, словно пух, вот и прозвали Ивана Пушком, за волосы-то.
С малолетства он недоумком был. На его глазах отца с матерью в пожарке плетями до смерти засекли. Оттого парнишка тронулся умом – не вовсе дураком стал, а так, видать, жердочки в чердаке не хватало.
Рос Иван на миру, как говорят. Кто сироте одежонку старую даст, кто покормит. Как подрос Пушок, стал по людям ходить – кому дрова переколет, кому воды принесет. В страду траву накосит. С ребятами сидел, домовничал. Охотно люди брали Пушка – честный парень, ребят любил, с ними все больше возился. Так и жил Иван. Как лето придет – пойдут Душок и Пушок в лес, как дружки. Иван ягоды рвал, а козел свежей травой лакомился.
После церковного приключения Епифан строго всем наказал не пускать по заводу козлов, а с конного вовсе всех козлов выгнать. Дело было осенью, как говорят, земля скучать начала, снега просила.
Выгнали Душка вместе с другими козлами с конного. Вместе с ним ушел и Пушок. Один не остался. Бродяжили день-другой. Ночевали в бане холодной. Загорюнился Иван. Хоть и недоумок был, а понимал, что холодно, не то, что у коней в конюшне. На третий день пал такой снег – никто и не ждал. Совсем окоченел Иван. Жмется к козлу в огороде, а сам плачет, плачет.
Вдруг козел стал Ивана теребить, за штанину тянуть. Мотает головой, а сам парня тянет куда-то: иди, мол, за мной. Заругался Иван: «И без тебя тошно». А козел никак не отстает, тянет и только. Ровно зовет куда-то. Пошел Иван за козлом, а тот сразу в лес подался, Иван за ним. Дошел Пушок за козлом до своротка на Полевской тракт, свернул козел в сторонку, еще прошел и у старой-престарой шахты остановился. Сроду бы ее не нашел. Кругом болото, пеньки, молодой пихтач и две старых, трухлявых березы. Толкнул рогами Ивана козел: в шахту лезь, мол.
Полез Иван в шахту, а там вода. Идет по шахте, козел сзади будто его подгоняет. Прошел шагов десять, остановился. Поглядел, в потемках ничего не видать. Провел рукой – ничего кругом нет, только в воде под ногой что-то заболталось. Толкнул он еще раз ногой, нагнулся, пошарил рукой, вроде как чугунок обозначился. Поднял из воды чугунок Иван и пошел обратно, Душок за ним. Вышел из шахты на свет Пушок, глянул в чугунок, в нем самородки одни золотые лежат.
Обомлел недоумок, слыхал сказки про клады, оттого и догадался, с чем чугунок. От радости заплясал и давай из чугуна золото выгребать – те самородки, что поменьше, в картуз ложить, а побольше – за пазуху прятать.
Сколько мог – нагреб, обратно чугунок унес, поставил на старое место и айда с козлом в завод. Знал парень, что с золотом сделать.
Правда, и до этого его редко кто обижал. Жалели: что, мол, с него возьмешь, с божьего человека. Когда же Иван с золотом из леса в завод прибежал, да от радости всем сразу рассказал, как Душок его до старой шахты довел и где он клад нашел, многие обзарились на Иваново золото. Тут же нашлись благодетели, не побрезговали, что парень с душным козлом возился, одели, обули Ивана, хоть про себя думали: «Ишь ты, не зря говорят, что дуракам счастье».
Приголубили Ивана с козлом нерастанным и все расспрашивали:
– Где ты, Иван, клад-то нашел? Поди, не с неба он к тебе в штанину спустился?
Не таился Иван, рассказал, как все было. Верят люди ему и не верят, а про себя каждый наветку взял: сходить непременно в ту шахту.
Говорят, многие бегали в лес искать клад. Бегали ночью, днем, копались, передрались и в конце концов порешили – самого Ивана на место сводить. Каждому мерещился клад-то, да вышло так, что без Ивана его не взять.
Как решили, так и сделали. Привели Ивана в лес. Сразу он шахту нашел. Прошел по воде до того, места, где должен был чугунок стоять. Шарил, шарил, а чугунка как не бывало. Козел тут же стоит и головой вертит – будто сказать хочет: «Не найдешь чугунок. Спрятал его я от людей завистливых. Тебе одному показал».
Так и пропал клад, а по заводу хуже, чем на базаре, – только и разговору у всех про Иванов клад. Звон без колоколов пошел по всей округе.
Дошел слух и до управителя. Снарядил он щегеря Епифана дознаться. А Епифана только понукни. Последние волосенки в бороденке оторвет, а начальству потрафит. Начал допрос Епифан, когда Ивана к нему привели. Так, мол, и так. Ты клад находил? Сказывай добром, а то пороть буду.
Уперся Иван. Помнил он, как отца и мать засекли. Людям не соскряжничал – без утайки все рассказал, а вот Лихоманке никак.
Как ни бился Епифан над Иваном: и ругал, и сласти сулил, и одежду новую – молчал Иван, будто воды в рот набрал.
Так и не дознался Епифан, куда клад девался. Сгреб тогда парня с собой Епифан, в тарантас посадил и поехал на место. Что было там – никто не знает. Без свидетелей ездили. Сгинул только Иван. Говорили бабенки, будто кто-то видал, как Епифан его с горы толкнул. С того дня не стало и козла Душка, тоже как в воду канул.
Прошло года два. Забыли все о Пушке и Душке. До них ли было заводским? Лютовал Епифан. Жал народ немилосердно, а заработок резал. Заводы встали – какая-то неурядица у господ пошла.
Один раз осенью вздумал Епифан на охоту поехать. Кучеру велел коня запрячь. Поехали в лес с обеда, к вечеру, чтобы наутре, на заре, поохотиться. Выбрали место. Кучер Алексей развел костер. Сел ужинать Епифан. Говорят, на охоте всегда отмякал. Дал он Алексею чарку походную вина, всякой снеди. Сытно наелся Алексей господских харчей и тут же задремал. Недалеко конь на елани боталом брякал. Над головой комары тучей летали…
Когда приехали на охоту, то не заприметили, что болотце кругом, кочки. С болота потянулся туман. Сидит у костра Епифан, большой веткой комаров отгоняет. Вдруг из тумана на свету от костра ясно ему показалось, что на пеньке, возле кочки, золото лежит. Протер глаза Епифан. Еще раз посмотрел, подбежал к пеньку, потом к кочке. На кочке нет ничего, а на пеньке самородки. Не блестят ярко, а видать хорошо, что золото.
Кинулся к золоту Епифан и давай сгребать, а сам думает про себя: «Хорошо бы Алексей не проснулся». А тот с господских харчей храпит – лес дрожит. Гребет Епифан, косится, радуется, а самого трясет. «Вот оно где золото-то было, само обозначилось. В какой глухомани…»
Последний самородок схватил, глаза опять на Алексея скосил, голову поднял, а перед ним близко-близко козлиная голова бородой трясет, черненькими глазками на Епифана уставилась.
Будто кто ножами Епифана резнул. Не может он от козла глаза отвести, а козел подался вперед – рогами прямо на Епифана – да как заревет на весь лес.
Бросился от страха бежать Епифан, а козел за ним. Проснулся Алексей и понять ничего не может спросонья: кружит вокруг пенька Епифан, а за ним козел. Перепугался насмерть Алексей, вскочил на коня и айда в завод.
Без остановки скакал до завода, а как маленько от страха отошел да в себя пришел, рассказал всем про Епифана.
– Гляжу это я на козла – чисто Душок, только здоровущий он такой стал, с медведя мне показался.
– Ну уж с медведя! Может, с быка, – пошутил кто-то.
– А что? Будет и с быка – черный, громадный, и рога, что есть у быка.
– Ну и врать ты мастак, – сказал старик Сабуров.
– Вот провалиться мне на этом месте, лопни мои глаза, – вскипел Алексей, – был этот козел чисто зверь.
Спорили, спорили и порешили поехать самим щегеря поискать, а то дознается управитель, замучает вовсе. Крутились люди в лесу, и там и сям искали. Много народу в лесах рыскало, да уж под вечер на потухший костер натакались. Возле костра Епифан лежал. Застыл уж вовсе. Едва признали его: был он без бороды – она тут же лежала на кочке. Мочалкой измытой на ветру трепыхалась. Рядом с Епифановой бороденкой клок козлиной шерсти лежал – ровно кто этот клок обрезал – волосок к волоску, а на нем два самородка большеньких лежало.
– Ишь ты. Верно Алексей плел, и впрямь Душок тут был: его шерсть и дух козлиный. Знак по себе оставил…
ПОЮТ КАМНИ
На высоких горах, в дремучих лесах, в далекие-предалекие времена стоял дворец каменный, а за ним огромная крепость возвышалась. В три аршина толщиной были ее стены. Каменные своды были выложены без единого куска железа и дерева.
Люди об этой крепости и дворце молву такую хранят. Будто жил в ней коварный и злой хан Тура, и было это тогда, когда на Камне-горах не росло ни одной березы, только сосна с елью в обнимку с кедрачом стояли.
Большое войско было у Тура-хана. Много визирей и слуг охраняли покои его. Но мрачен был дворец. Не горели в нем огни, не пылал свет очага для приезжих, возле которого путник бы мог обогреться и слова приветствия сказать в знак уважения к хану и его визирям. Не заходил во дворец из страны далекой скиталец вселенной – джихан или аксакал веселый и тем более мудрец седобородый и не вел беседы с Тура-ханом.
Непроходимые леса, топи и болота окружали дворец и крепость. Черной громадой высилась она над обрывом. Страшно было и посмотреть на крепость.
Был Тура-хан маленького роста, но силы непомерной. Когда-то был и красив, да с годами заплыл жиром и, будто мохом, оброс бородой. С годами глаза его стали уже и хитрей. Своим наушникам он приказывал распускать слухи про него по всей округе, что волшебник он и чародей. Что ежели Тура-хан захочет – грозу накличет, молнии в руки соберет и тех, кто ему непокорен будет, молниями примется хлестать. Захочет – у всех людей скот погубит, напустит мор на людей.
Тех наушников, которые о чародействе хана слухи распускали, награждал Тура-хан. Тех же, кто правду о нем в народе говорил, в подземельях гноил. Выходит, верно тогда люди шептали между собой: «Говорящий правду редко своей смертью умирал».
Никто не знал, что с наступлением ночи, когда на семь замков запиралась крепость и, как в бой, выходила охрана, в стене дворца в одном окошке башни до свету огонь горел, а Тура-хан, зарывшись в перины от страха, всю ночь дрожал. Всего он боялся: и своих визирей, и заговора их, и грозы, и молнии, и мышей.
Наутро же, как всегда, выходил к послам важный и спокойный. Принимал гонцов, беседовал с купцами.
В стороне от Тура-ханова дворца, на самом перевале Камня, где много дорог сходилось, стояла кузница одна, а за ней, как три сестры – три избы. Жили в них три богатыря-кузнеца: Ермила, Вавила и самый молодой из них Арал. Какого племени и роду был Арал, никто не знал. Подростком малым он был, когда его кузнецы на дороге почти мертвого подобрали. Не мог рассказать парень про себя, почему на дорогу угадал.
С малых лет охотничал он с отцом, рыбачил и собирал дикий мед. Говорят, рос не по летам, а потому к десяти годам стал чисто великан. Лицом белый, чернобровый, взор мужественный и смелый. Домотканая рубаха и штаны, азямишко отцовский, лисья шапка – вот и весь наряд Арала. Таким он и у кузнецов ходил, и все же не было красивей парня во всей округе, чем Арал.
Десять годов ему было, когда он онемел. В тот год напал на его народ Тура-хан с войском. Многих в плен он взял и продал в дальние страны. Многих просто перебил. На глазах Арала конники хана отцу и матери Арала хребты переломали. И все за неповиновение хану. Затравленным медведем кричал Арал, когда он все это увидал. Конник хана ударил по голове Арала, свалил его с ног, и он упал. В груди у Арала что-то заклокотало, язык отяжелел, и с тех пор речи он лишился.
Выходили кузнецы парнишку, когда нашли его на дороге. Как родного брата приняли к себе. Даже избу ему помогли срубить, когда вырос. Научили шорному мастерству и кузнечному делу.
Жили они дружно, одной семьей. С жаром принялся парень за работу. Ковать подковы и кинжалы, шить сбруи.
Хорошо было Аралу у кузнецов, даже улыбаться стал, особенно когда Вавила за шутки принимался. Веселый был мужик Вавила. На присказульках жил. Что ни слово у него, то шутка. Бывает же такой человек! Возьмется за починку сбруи для коня, непременно проезжему скажет: «Шлея да узда – самая конская краса». Заблудившемуся путнику в лесу тоже пошутит: «Эх, и дурень! Плыли, плыли и доплыли. По бокам трясина, посередке омут». А то загадку загадает, которую и самому не отгадать: «У меня в руке метла и скоба. Кто за скобу возьмется, тот ума рехнется».
Ермила же был песельник отменный. Подпевал и Вавила ему. Ладно у них вдвоем получалось.
Все слыхал Арал, только не говорил, а если бы мог сказать, как бы рассказал про думки свои и куда его Ермилины песни зовут.
Много приходило народу к ним в кузницу. Кто просто на перепутье завернет, хоть и дальняя тропа, кто – подковать коня, кто поделку попросит сделать. Раньше-то кузнецы на все руки мастера были: они тебе и топор, и нож, и саблю, а при нужде и сбрую сошьют, чересседельник сделают.
Появились у Вавилы и Ермилы и подруги. Из дальних початков мужики жен себе привели. По веселым кузнецам и бабочки угадали. На улыбочках больше все жили. Не на печи лежали. Статные, белотелые, крепкие, они и в простых косоклинных сарафанах заглядением были.
Только одно горе было у всех – когда ханские сборщики за кинжалами да саблями наезжали. Этим и откупались кузнецы от хана, а то бы давно сгремели, на чужую землю в цепях пошли.
Стал подумывать и о своем гнезде Арал, когда двадцатая весна над его головой прошумела. Цвести бы его красоте много лет, да шайтан Тура-хан опять на его дороге встал. В одночасье все приключилось.
Становился Тура-хан год от года злее. Недобрые вести ему наушники приносили. Не один аул, не одно кочевье, а целыми ватагами снимались люди в лесах и уходили в степи. Ни страшные расправы, ни посулы ханские, ни речи сладкие визирей о милостях Аллаха и хана – ничто не помогало. Сборщиков мехов от хана в аулах и кочевьях убивали, отказывались дань платить хану. Богатые баи и тарханы бежали в крепость к Тура-хану просить защиты от гнева пастухов. Вот тогда и началось. Запылали кочевья и аулы. Засвистели еще больше плети, загудели горы.
Сели на коней и кузнецы. То одному селению помогут отбить скот, угоняемый конниками хана, то отстоят от огня кочевье и леса. Известно, на перевале жили, как говорят, все ветры обдувают, все вести несут.
Больше же других Аралу доводилось встречаться с лучниками хана. У Вавилы и Ермилы жены, и обе были на тех порах, Арал же один и силой крепче, хоть кузнецы по силе медведям под стать. Да и сердце у Арала рвалось больше на поединок с самим Тура-ханом, отомстить хотел за отца и мать, за бесчестие всего племени и рода своего.
Как-то раз все трое – Вавила, Ермила и Арал – собрались вечером у кузницы совет держать: как быть? Ведь гонцы хана требуют все больше и больше сабель и кинжалов. А тут вокруг перевала новые и новые кочевья поднимаются против хана. Им тоже оружие надо.
Развел костер Арал, подсели други, любили они у костра сидеть. И не знали, что беда была не за горами уж. Хорошо, что о ней люди подали весть. Принес ее старый аксакал Фархутдин.
Не заметили кузнецы, как он подошел к костру, и только когда услыхали: «Птице полет, хозяевам почет, а джигиту дорога!», оглянулись. Перед ними стоял аксакал, одетый в старый малахай и широкий пояс. В одной руке у него был посох, в другой – курай.
Приветливо встретили кузнецы гостя, накормили, угостили его хозяйки чем могли, а потом и расспросили, кто он, куда путь его.
– В царственной Бухаре люди меня путником земли называют, в других краях – аксакалом-певцом, в ваших же горах и перед вами просто человек, чье сердце отобрать хан задумал. Вырезать его. Запрет он наложить на мои песни приказал.
И дальше отвечал пришелец:
– Не только одежа моя проста, просты и мои песни. Я славлю хозяев дома и прошу Аллаха отвести шайтана – его тень от крыши этого дома. И да не падет гнев всемогущего на вас за то, что не о милости его будет мой разговор.
– О чем же, мудрый Фархутдин, будет твоя речь? – спросил Ермила.
– Велика и бескрайня земля, а еще шире и больше власть Тура-хана, – начал аксакал свой рассказ.
И чем дальше он говорил, тем суровей и строже становился взгляд у всех. Давно уж погасла заря за горами, давно остыл ужин на столе, а гость все говорил и говорил о людском горе и о богатствах хана. Когда же месяц разорвал тьму ночи, достал гость из халата курай, спрятанный им. И заиграл для хозяев песни, то нежную, как девичья любовь, то печальную, тоскливую, как материнская слеза о потерянном сыне, то гневную, полную, ненависти к хану.
До рассвета просидел гость у кузнецов, а когда ушел, всем стыдно стало за то, что они оружие для войска Тура-хана ковали.
– Этими же мечами, саблями и кинжалами они нам голову отсекут, – сказал Вавила и тут же поклялся не ковать оружие для Тура-хана.
Когда же вновь наступила ночь, сели все трое кузнецов на коней и повезли оружие туда, куда сказал Фархутдин, а не в крепость.
С того дня Арал больше не сходил со своего коня белого. От кочевья до кочевья, от улуса до улуса был его путь.
Давно наушники Тура-хана доносили ему о великане немом Арале и о вероломстве кузнецов с перевала. Перестали они ковать оружие для хана.
Давно он знал, что неспокойно в улусах и аулах, малых и больших становищах. И вот решил Тура-хан расправиться со всеми. Куда и страх пропал.
В один из дней, когда стояла полуденная жара, открылись ворота крепости и дворца. На лесные дороги и тропы полились черной рекой войска Тура-хана. Сам он тоже на вороном коне, в одежде богатой, из черного шелка, надетой поверх кольчуги дорогой, в шапке с алмазом, выехал впереди войска и поскакал на дальний перевал, откуда начинались земли тех, кто не хотел повиноваться хану.
Туда, где в небе горела самая яркая звезда над головой, где была самая середина Камня-гор – земля, хранившая несметные богатства и редкие клады многих и многих племен, поскакал Тура-хан.
Не радовали его ни жирные спины подвластных баев, лежащих перед ним на земле, в знак повиновения перед властью. Ни черногривые скакуны отменной красоты, подаренные ему в пути тарханами в улусах, ни самые редкие самоцветы. Ничто не веселило Тура-хана. Его лицо темнело.
Потемнело и небо. Тяжелые тучи закрыли солнце. Страшная темнота черным одеянием затянула леса и горы.
Говорят, что большой лед на воде начинается с малых льдин. И верно. Не враз застывает река.
Не сразу поднялись кочевья против хана. Постепенно разгорались огоньки ненависти, сливаясь в один большой пожар, пострашней лесного. Трудно такой пожар остановить. Быстро его разносит ветер.
Потому и не знал Тура-хан, что большой пожар морем разливался перед ним.
А еще говорят, что кедр никогда не гнется, только в бурю сломиться может. Но не сломились люди из кочевьев и улусов перед ханом, значит, крепче кедров они были.
Не знал Тура-хан и о том, что Арал не дремал. Далеко в лесах только и ждали люди его знака, чтобы подняться на Тура-хана. Из степей Фархутдин донес с гонцами, что и там готовы люди. И вот началось.
В ту ночь уже с вечера было душно. По всему клонило – быть грозе. Тяжелые, черные тучи придавили горы. Ударил первый гром, за ним другой. Далеким эхом ответили хребты.
Лазутчики Арала, Вавилы и Ермилы донесли, что Тура-хан идет на перевал.
Ермила и Вавила пошли в далекий обход крепости Тура-хана, а конники Арала в лесу спрятались. Соскочил с коня Арал и быстро пошел на самый высокий шихан. Поглядеть перед боем еще раз на родные горы и на грозу. На молнии, как огненные змеи, на черное одеяло туч. И вдруг он увидал, как во время всполохов молний, освещающих землю, черная река Тура-хановых конников по хребту ползла. Сдавил его сердце гнев на врага, который хотел отнять у него и у всех людей эти горы, небо… Арал вздохнул и, как десять зим назад, когда погибли его отец и мать, от злобы на Тура-хана в его груди что-то заклокотало, точно вспенилась вся в ней кровь. Он собрал в себе силы и прокричал на весь Камень-горы:
– Есть ли в горах жив-человек? Откликнитесь, батыри!
Могучим эхом ответили ему горы.
Услыхали его люди.
– Кычкара Арал, заговорил Арал! – радовались люди, покидая становища и кочевья.
Большой рекой, а не ручейками пошли люди на зов Арала, и хоть было нелегко воевать пиками и дрекольями, а то просто батогами, люди не отступились, а все шли и шли в войска Арала.

Осатанел Тура-хан при виде Араловых войск. Забыл и про свою трусость, видать, и в нем вскипела кровь. Приказал он своим конникам отступать в крепость. Ведь легче из-за каменных стен встречать врага. Араловы же джигиты и народ окружили крепость. Тура-хан приказал на них лить горячую смолу, бросать камни с самой высокой башни. Три дня и три ночи не утихал бой. Такая сеча была, что Тура-хан ночью тайно покинул крепость и скрылся в степи, как в море.
Но опять лазутчики Арала донесли ему об этом, и он начал преследовать Тура-хана. На четвертый день джигиты Арала вместе с ним догнали конников Тура-хана. И снова такая сеча была, что у Тура-хана осталось всего три воина, а Арал и тех потерял. Но не отступился Арал, хоть рана, и не одна, все больше раскрывалась на его теле и бока у коня закровянились. Он коршуном кинулся на всех четверых. Воинов троих поддел на пику и поочередно через плечо перекидал. Потом за Тура-хана принялся. Тот к озеру пустился. Думал хан, что раненому Аралу его не догнать в воде. Но ошибся Тура-хан. Арал последовал и в озеро за ним.
Не выплыли они оба. А сколько-то время спустя рыбаки на берегу увидали, как вдруг из воды огромный белоснежный лебедь поднялся. Полетел он на север к Камню-горам. Долго-долго слышали рыбаки радостный крик лебедя над водой…
И опять сколько-то время спустя видели люди в горах и над озерами двух дивных лебедей. Может быть, это был Арал с подругой, которую нашел в полете? Кто знает? Так в сказках говорится.
Вавила и Ермила домой тоже не воротились, в бою под Тура-хановой крепостью погибли. Прикрыли своей грудью многих джигитов Арала.
Дворец и крепость с той поры опустели. Дремучими лесами заросли к ним дороги. По сей день эти развалины люди «Шайтановым городищем» называют. А когда по ночам между развалин гуляет ветер, то будто поют камни. О славном богатыре Арале поют они.