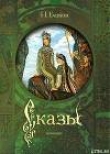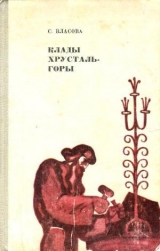
Текст книги "Клады Хрусталь-горы"
Автор книги: Серафима Власова
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Только кто отливал цепочку, кто свое сердце и душу в чугун вдохнул – ни одна газета и единым словом не обмолвилась.
Не рассказали газеты и о том, как после разговора с Карпинским Афанасий Широков, придя домой, к большому удивлению жены, тут же заставил ее вязать из ниток плетешок. Жена вязала, а Афанасий глядел.
Не положено было в те времена жене спрашивать мужа о его делах. Но не удержалась она, уж очень странным все ей показалось, и она спросила:
– А зачем тебе это нужно, Афанасий?
– Да вот собираюсь, Маша, такой плетешок из чугуна сплести…
И ведь сплел – всем на диво.
* * *
На Урале что ни гора – то и сказка. Что ни озеро – то и легенда, что ни поделка – то и предание.
И, может быть, не вспомнился бы мне этот сказ о чугунной цепочке, если бы не довелось побывать в музее Каслинского ремесленного училища, где рядом с непревзойденными изделиями Клодта, Баха, Торокина я увидела скромный бюст девушки с умными и пытливыми глазами. За какой подвиг увековечена она в литье?
И узнала я там уже не сказку, а самую настоящую быль.
Жила и училась в ремесленном училище в Каслях девушка одна – Лена Самоделкина. В ту пору были еще живы рабочие, помнившие Карпинского и время, когда трудились подневольно. Подолгу глядела Лена, как работают старые мастера и какая красота из рук их выходила. Слушала их, боясь проронить слово, старалась понять тайны художественного литья и чеканки.
– Когда трудишься – формуешь ли, чеканишь ли – помни: ты поешь самую хорошую песню на земле. Доброе литье – большой праздник! – так говорил дедушка Глухов Михаил – самый в те годы мастер из мастеров в Каслях.
И тогда, словно живые, вставали перед Леной творцы, которые первыми отлили ажур из чугуна. Видела она и крохотную вагранку, а около нее Никиту Теплякова, огромными своими ручищами несущего в ложечке расплавленный чугун. Ложечка крохотная, меньше чайной. Отверстие в опоке глазом не увидать. Чугунная нить – тоньше волоска…
А дедушка Глухов продолжал свой сказ.
– Когда человек, глядя на озеро, видит лужу, а в дремучем лесу только пеньки примечает, такому лучше и не подходить к литью. Все равно ничего не выйдет. А вот когда сумеешь увидеть вместо озера – море, и поманит оно тебя – смело берись за дело! – говорил он. – В старое время крепки были у нас, мастеров, руки, только связывали их господа.
И, вспоминая старину и молодость свою, дед Михаил поведал о несбывшейся своей мечте:
– В молодых годах думал я отлить фигуру рабочего во весь рост с протянутой вперед рукой. А на ладони у него – орел-птица вольная. Глядите, мол, люди: простой рабочий, а хочет летать высоко-высоко. На деле же в ту пору мы пудовые царские бюсты отливали да мертвяков – двуглавых птиц под короной. Редко доводилось по душе что-нибудь отлить…
И вот во время этих задушевных разговоров пришла к Лене мечта: легенду о чугунной цепочке претворить в явь.
В один из летних дней по заводу разнеслась весть, что ученица ремесленного училища Самоделкина начала формовку и литье чугунной цепочки для часов.
Больше месяца трудилась Лена, обжигая руки, придавая цепочке гибкость. И добилась своего. Повторила дедовское мастерство. Отлила ложечкой – звено в звено, да так, что ни одно из них не приварилось к другому. Словно из старинной сказки явилась чугунная цепочка…
Вот за это-то и отлили бюст Лены Самоделкиной. Пусть знают люди, что не потеряно мастерство старых уральских мастеров-умельцев.
И казалась мне волшебной эта цепочка. Как отдельные звенья в ней переплелись друг с другом, так и поколения мастеров породнились. Чудесны творения каслинских мастеров – тех, кто в сказках прославлен, и тех, кто ныне трудится в Каслях.
Радуются люди, глядя на работы Александра Гилева, Сергея Манаенкова, Александра Вихляева. Да разве всех перечислишь! Цепочка та могуча, и нет ей конца…
ВАСЯТКИН САПОЖОК
Про наше каслинское литье да его мастеров, что своим умом и смекалкой до большого дела в литье доходили, как из чугуна не только сковородки отлить, а самонастоящие кружева сплести или такую красоту в поделке смастерить, что диво людей брало, – слава по всему миру давным-давно гуляет. К примеру сказать, ежели конь с седоком отлит, то все как живое в литье. И седок-воин или просто наездник лихой – тоже будто живой человек. И шапка на нем, и бешмет, вглядись – и пуговки даже чернеют. Кудри из-под шапки на голове видны, и улыбочка на губах играет. Да что там кудри, если чугунный наездник от беды скачет, то весь он на своем чугунном коне точно встревожен чем-то. На лице не улыбка тогда, а забота видна. Об волшебниках же, что эти поделки отливают, сказки в народе живут…
Про Васяткин сапожок тоже не одна сказка сложена. Кто говорит, будто в революцию в таком сапожке парнишка Васятка в цеха тайные бумаги носил… От большевиков к рабочим были эти бумаги, на бои с хозяевами заводов рабочие поднимались. А рождение этого чугунного сапожка вот каково:
…В старое, престарое время в дремучих лесах на горах Уральских затерялся заводишко один – Каслинским его назвали. Жил в нем вместе с другими крепостными людьми и Михаил Торокин. Какой он был из себя, не донесло до нас время, а вот то, что он мастерко был отменный по чугуну – это известно давно. Говорят, от деда он еще слыхал, как их весь род в кузнецах век коротал, на огненной работе горел. Все редкостные кинжалы ковали, а один в их Торокинском роду отменным кольчужником был. Вот куда их родовая-то уходила. «Не проволоку тянул», – хвастал дед Михаилу, когда тот подрос да в цех угодил, душной низенький сарай с пристройками.
Любил Михаил слушать дедовы сказки про кольчужников в их роду. И про то, как дед говорил:
– Слава-то про кузнецов издалека ведется, чисто великаны кузнецы. Они тебе и кинжал откуют, и кольчужную рубаху сплетут. Только сноровку надо иметь.
Но не хитроумное кольчужное мастерство занимало Михаила, с другой думой он не расставался: не чугунок для щей или топор изладить, а настоящую поделку – вроде кречета в небе или подсвечника на столе. Не враз пришло умение к Михаилу, не сразу он модель орла вылепил, а потом и отлил по этой модели птицу и такую, что сам управитель принялся пот с макушки вытирать от радости при виде такого чуда. Это тебе не из глины или воска штучка, а из чугуна отлитая. Долговекая красота. Покрыло время, как снегом запорошило, тайну мастерства и умения Михаила Торокина, как он первым в чугун жизнь вдохнул, как в его руках чугун человеческой силой заиграл и как его орлы и кречеты в полете – вот-вот улетят.
Большие деньги Демидовы загребали от уральского железа, немало получал доходов заводчик и от литья каслинского. Во дворцы каслинские поделки князьями и графами покупались, ну а Михайловы – на особицу.
Год от года росло мастерство Михаила, только жизнь оставалась такой же голодной и тяжелой, какой она была у прадедов и дедов его. Известно, в крепости жили. Да и не по душе было Михаилу разных драконов лепить и русалок отливать, что приказывали хозяева. К другому его сердце тянуло – что кругом в жизни было. И хотел он это в чугуне на века показать.

И вот как-то раз занемог Михаил. Ну жена, как полагалось, натопила печку в избе пожарче – дело зимой было, – залез Михаил на печку, укрылся тулупом покрепче и уснул. Сколько времени проспал, неведомо нам, только вдруг среди ночи проснулся. А ночь месяшная выдалась… Проснулся Михаил, весь в поту лежит и по избе глазами шарит. Хорошо все видать. Тут полати, и на них сын и дочь спят. Тут жена у печки сидит, согнулась у каганца, лен теребит. На залавке чернеют модели новых поделок, приказчиков наряд: для господского дворца в самом Петербурге вылепить и отлить два чудища-льва, диковинных зверя с человечьим обличьем.
Не по душе эти поделки мастерку.
«То ли дело отлить коней на скаку. Как живые, они бы стали возле дворца», – думает Михаил, но не силен он пересилить своей думой хозяйскую прихоть.
Лежал-лежал Михаил так, думал и вдруг его взгляд на старые сапожишки сына упал. У порога они стояли. Низенькие, с петельками и заплатами на боках. Защемило сердце у Михаила. Вся его горестная жизнь ровно в этих сапожишках вызвездилась, с ее нуждой, горем и болезнями. Закипело сердце у Михаила, и подумал он: «Погоди, Васятка, – так сына звали, – увековечу я нашу жизнь, всю ее в твоем сапожишке покажу». И показал.
Когда выздоровел, говорят, первым делом за сапожишко чугунный принялся. Отлил такой, как настоящий Васяткин сапожок. Низенький, весь в складочках, морщинках от долгой службы. Широконосый, с тремя петельками: одна позади и две по бокам. Двумя заплатками – одна на носке, а другая на голенище. Хорошо их видать, ведь отец сам их латал. Носок сапожка кверху поднялся, ну все как есть, и вправду, на сапоге.
Любовались люди поделкой, сразу признав Васяткин сапожок. Только приказчику не поглянулась. Кричать поднялся на Михаила, как увидал поделку. Дескать, что это за работа – насмешка одна? Увидят господа – борони бог! Разве дозволено с простого сапога украшение отливать, хоть и сделана она руками, как полагается?
Шумел, кричал приказчик за сапожок и строго-настрого запретил чугун на безделушки переводить.
Думал Михаил отлить поделки о живых людях: как сено мужики из леса возят, как лихая тройка скачет по полю зимой, а за ней бегут вдогонку волки – уж совсем настигают. Только так и не довелось ему «лбом камень прошибить», любимые поделки сделать. Не хотел под плеть ложиться, да и сиротами сынов оставлять.
Много лет спустя его племянник, тоже Василий, когда уж в силу входил как мастер по чугуну, вынул из горки сапожок и задумался. Понял, какая думка была у дяди, когда тот лепил сапожишко. Понял и в цех взял поделку. Как есть повторил из чугуна сапожок и отдал его людям.
Не только поколения Торокиных и его внуков, но и умельцы Каслей Широковы и Вихляевы, Глуховы и Гилевы – все, все сумели правду про свою жизнь через чугун рассказать. Тем и славится уменье каслинских мастеров, что своей живой кровинкой сумели чугун оживить, на века его сделать…
ЕФИМКИН ГОЛУБЬ
В старые годы у нас, на Урале, в куренях жил мастер отменный по камням и хрусталю – Ефим Федотыч Печерский. Видно, мастером был он большим, коли народ про него сказ сложил.
Хочу и я этот сказ рассказать, да маленько вернусь назад, нельзя об Ефиме сказывать, не помянув стариков – его дедов-мастеров.
Люди говорили, что заветная ниточка, из мастерства да уменья свитая, от дедов к внукам тянется: «Не узнаешь старого, трудно новое понять».
Сам Соломирский, владелец заводов, вывез Григория – Ефимова деда. Насулил золота груды за то, что Григорий умел камень гранить да всякие диковинки из него делать.
К слову сказать, это уменье на Печоре-реке и в Устюжанах крепкие корни имело, в седые века упиралось. Для церквей и барских хором умельцы разные украшения делали.
На Урал Григорий пришел не один, а с семьей – шесть сыновей привел да три дочки на выданье. Сыновья у отца переняли уменье, с мужьями сестер секрет разделили. Так и родилась Пеньковка. Все печорские там жили, друг возле друга, где первый Григорий избу срубил и уральскому камню сердце отдал…
Один из сыновей Григория тоже в Пеньковке жил, дедовским ремеслом занимался – камнерезом первым был. То ли фартовым уродился, то ли камень умел видеть насквозь – его вазы, подсвечники только во дворцы вывозились. Когда он парнишкой был, Федюньшей звали, а вырос, мастером стал – дядей Федотом величали. Жил Федот с женой и с сыном. Дружно, согласно жили они.
Его жена Аграфена веселая была. Как говорится, всем взяла: красотой, ровно цветок Марьин корень, и ласковым нравом, а песни пела – всем сердце грела, душу веселила, радость несла.
Сын подрастал, красотой весь в мать уродился: черные глаза, да кудри материнские, рост богатырский – в отца. Григорий по приказу управителя то дрова рубил, то камень гранил. Так и жили они в нужде да согласии, от горя сторонились и в богатство не лезли. Но недаром старики поговорку сложили: «Ты от беды в ворота, а она к тебе в щелку».
Не знал Федот, где на беду придется наткнуться, знал бы – стороной обошел.
Нежданно-негаданно в завод сам хозяин Соломирский приехал.
Говорили, все Соломирские на одном были помешаны – птиц шибко любили, везде их ловили да чучела из них делали. Известно, не сами, а на эти дела своих мастеров имели, да к тому же народ Соломирского и не знал. Все по заграницам барин болтался, отцовское добро проживал, да на теплых водах от дури лечился. Вслед за ним потянулась ватага всякого сброду: певицы-синицы прискакали, музыканты с инструментом понаехали. Разные учителя и танцоры приехали. Осела эта ватага в заводе, новые нравы пошли в господском доме.
Только один из приезжих по душе простому народу пришелся. Обходительный такой, хоть и веры не нашей. Видно, из небогатеньких был, оттого к крестьянскому да заводскому люду жалость имел. Учителем пенья нанялся он в Париже к Соломирскому.
Часто по праздничным дням учитель-француз к плотине на пруд ходил, где после обедни народ собирался: деды там старинку вспоминали, бабки сказки сказывали, а девки и парни новые были плели, песни хороводные пели. Придет, бывало, учитель к плотине, сядет в сторонке и слушать начнет, как люди поют. Крепко его сердце жгла русская песня.
На первых порах молодяжник, особенно девки, сторонились француза: как можно, хоть и добрый, но барин, а потом привыкли к нему, даже шутки шутить с ним стали. В глаза барином звали, а за глаза по-русски «Петро», оттого что по-ихнему, по-французски, звали его Пьером.
Пожил Соломирский с месяц в заводе и опять в скуку впал. Известно, от безделья одуреть можно, и всякая дурь в ум полезет. Вот и придумал он театр открыть, на манер домашних театров, какие были тогда в господских усадьбах. Дал приказанье – для хора набрать певцов из заводских. Много взяли и особенно девок – тех, кто петь умел и в плясках отличку имел.
Будто на Федотову беду, во время прогулки у пруда управитель услыхал пение Федотовой жены – Аграфены. Полощет Аграфена белье, а сама поет-разливается, ровно с птицами спор ведет: кто лучше поет. Удивился барин, аж руками развел. Подошел поближе. Спросил Аграфену, чья она, где живет.
А дня через два за ней послали нарочного. Аграфену в господский дом потребовали. Немного же дней спустя совсем забрали. Хористкой сделали.
В три ручья плакала баба. Валялась в барских ногах. Ничего не помогло. Сгубили бабу так ни за что, ни про что.
В ярко-кумачовый сарафан нарядили, в бисером шитый убор голову обрядили, а сердце будто вынули. Стала сохнуть она, как осенняя трава в поле. Только и радости было у нее, когда на часок домой, как и всех, по праздничным дням отпускали. Прибежит домой она, припадет головой к сыну, бьется от горя, слезы рекой разливаются. Но как говорят: «Всех слез не выплакать, всех горестей не пережить». Не смогла вынести Аграфена разлуки с сыном и мужем, и когда ветер осенний в Урале песни запел, хмурое небо дождем плакать стало, она, как в старину говорили, богу представилась…
Угрюмо и молча Федот смерть жены переносил, зато часто на свежей могиле плакал Ефимка, так звали сына ее.
Да еще одному человеку смерть камнем на сердце легла. Ведь на глазах у Пьера сохла она.
Как он просил Соломирского отпустить Аграфену к мужу и сыну. Куда тут! Недаром говорится, как в зимнюю стужу в лесу свежий груздь не сорвешь, так и у бессовестного человека правды не вымолишь.
Про Соломирских сказывали, будто богатство тем и нажили, что кривдой жили. На конном дворе да в пожарке плети без малого каждый день песни страшные пели, а в горе гнили люди.
Захотел Пьер, чтобы барское сердце по-хорошему, по-человечьи забилось, да не зря говорится: легче лед весной в половодье на реке задержать, чем в барском сердце совесть отыскать.
Так получилось и у Пьера.
Наотрез отказался выполнить просьбу Пьерову барин. Потому стал ненавидеть Пьер Соломирского, происходили у него стычки с управителем и все из-за людей, за которых Пьер заступался.
Совсем впал он в немилость после случая одного и все из-за хористок. Жили хористки в подвале господского дома. Подвал был сырой и холодный. Харч ничтожный. Одним словом, гибель для девок и баб. Болеть они стали. Кто послабее – слегли, кто посильнее – в бега подались. А француз в ответе. Он учитель – с него спрос.
Тут, как на грех, один из господских гостей для потехи во время спевки подкрался сзади к девке одной и незаметно косу обрезал. Девка была ухарь, не из слабых. Повернулась она к нему да как принялась долдонить его, едва оттащили, а на утро убежала, как в землю провалилась. А в те поры привычка такая была: считалось, что девка без косы навек бесчестна. Вот и получилось: барину – потеха, а девке – беда.
Пошел Пьер к Соломирскому, Какие он вел с ним разговоры – неизвестно. Не по-русски они выражались. Только, видать, крупный был разговор: барин кричал, ногами топал, а Пьер белее бумаги стоял. Потом Пьер просил отпустить его обратно в Париж, да Соломирский уперся. Не потому, что жалел Пьера, а дурной молвы боялся. Узнают еще, что на заводах творится…
Стал Соломирский Пьера со всех сторон обходить. Как прежде в Париже, вечерами петь у него учился, на скрипке играть, а мысль злую лелеял.
Пьер тоже не спал. В зимние ночи все чаще план свой обдумывал, а вечерами в избах простых, на посиделках, задушевные песни пел, с верными людьми советовался.
Пригрел сироту Аграфены Ефимку. Учить его грамоте стал, волшебные сказки про дальние страны рассказывал. Дружбу завел с бывалыми людьми и исподтишка узнавал, кто из беглых когда и как бежал.
Не враз родилась и окрепла дружба у Пьера с Ефимом. Часто так получается: с капли дождь начинается, да с ливнем кончается. Так и у Пьера с Ефимом. Хоть и различка была у них в годах – Пьеру двадцать первый пошел, когда он на Урал приехал, а Ефимке – четырнадцать миновало, когда сиротой он остался, – а теплей да отрадней становилось у Пьера на сердце от дружбы с Ефимкой.
Жил Пьер в ограде господского дома, во флигельке. Частенько Ефимка у него оставался. Чем больше Пьер парня узнавал, тем больше к нему привыкал… И вдруг как обрезал парнишка. Ходить перестал, точно дорогу ему кто заказал.
Не сразу Пьер узнал, что на плечи Ефимки беда свой тулупчик накинула.
Не успели бураны студеные отгреметь и цветы в полях зацвести, как Федот привел в дом молодую жену – сыну мачеху.
Не больно желанной была Федоту она, да не смел он перечить родне – старшему брату, а брату напела жена, в сродстве была она с вдовой молодой.
Известно, как затевались в те поры свадьбы такие: ты вдовец и она вдова – по дому хозяйка нужна; молодую взять – из дома глядеть станет, старую в дом ввести – на сына ворчать будет.
Суды да пересуды – всучили мужику женушку.
У нее свой сын был. С первых дней взъелась новая жена на Ефимку. Стала кипеть в ней злость на него за то, что был он парень проворный, к отцовскому делу приважен – камень умел понимать. Родной сын у нее был до того ленив, что своей головы не причешет.
Как ввел Федот жену в дом, так обоих парней за дело посадил.
Только различка большая у них получилась. У Ефимки любая поделка – картинка, а у Санко не подсвечник, а ухват, не брошь, а корыто. Насмерть невзлюбила Ефима мачеха злая, только дня ждала, чтоб от него избавиться.
Как-то раз поздней осенью, когда Федот был в отлучке, заскудался головой Ефим. В клетушке, где парень работал, от спертого воздуха голову кружить стало. Возьми да выйди он к воротам постоять, ветерком обдуться.
А мачеха уже тут как тут и давай кричать:
– Объедало проклятый. Вишь, космы-то распустил, бездельник ты окаянный. Пропасти на тебя нет. Весь в мать уродился. Упрямый, как бык. Нечего тебе дома сидеть, отца объедать да ворота подпирать. Иди куда хошь.
Не постыдилась дурная, что парню только пятнадцать годов время отбило, схватила полено и давай понужать Ефима.
От горькой обиды хотел было парень стукнуть бабу, да не тот характер имел – рука не поднялась, хотя обида сердце жгла.
На крик сбежались соседи. Вступиться за парня хотели, жалеючи его, и Аграфену-покойницу все любили. Обезумел Ефим, весь посинел, а как кинулась мачеха с поленом – бросился бежать… В чем был, в том и ушел из дома. Унес он с собой думу нелегкую, обиду невысказанную на отца и на мачеху да еще унес печаль о любимой матери.
Бежал, бежал он, покуда не обессилел и не упал в траву по-осеннему сухую и жесткую. Чего-чего не вспомнил он, лежа в траве; мать вспомнил, как тепло было в зимнюю стужу на печке, отца – ион был другим…
В горах и в лесу быстро темнеет. Не приметил Ефимка, как последний луч солнца с вершинок сосен сбежал и за дальней горой скрылся. На лес пал туман. Первая звезда в небе зажглась.
«Куда же податься? К кому пойти? До солнышка прохожу, а пригреет, пойду в Кыштым – к деду. Стараться в горах с ним буду. Не прогонит поди. Пожалеет».
Холодно стало. Темень кругом. Встал с земли, опять пошел, чтоб согреться. Прошел с полверсты и остановился. Дрожь взяла. На дальнем своротке волки завыли.
Не из робких парень был. С двенадцати годов на охоту один ходил, а тут вот жутко стало.
Шел он по лесу и слушал, как филин ухал на мохнатой сосне, как сыч плакал, будто малый ребенок, как в еланях ветер гулял, с сосенками спорил…
Прибавил Ефимка шаг и очнулся: далеко-далеко меж сосен огонек замелькал. Обрадовался. Побежал, будто его там ждали. Видит: еланка в лесу небольшая, а за ней избушка стоит. Поглядел в оконце, где огонек светится, и увидел: сидит мужик у печки и руками чего-то перебирает. Услыхал мужик шаги за окном, оглянулся. Встал, сдернул азямчик с полатей, на плечи накинул и вышел во двор.
В амбарушке, у стойки, зарычали собаки.
– Кого бог послал? – спросил он и увидел Ефимку.
Страшно было смотреть на парня. Будто лишился он ума: без шапки, в рубахе одной. У Матвея (так мужика звали) на что крепкое сердце и то заныло…
– Дяденька. Дяденька. Я… Я… – только мог сказать Ефимка и тут же у порога упал.
Поднял парня Матвей, внес в избушку, положил на залавке, азямом и полушубком накрыл.
Подбросил дров в печку, согрел кипяток, достал рыбы и хлеба. Когда парень в себя пришел, накормил его. А потом расспросил.
Без утайки рассказал Матвею Ефимка, да как бы невзначай проронил:
– Куды податься и сам в толк не возьму, в омут броситься, знать-то.
Не хотел и думать Ефимка так, да от горечи в сердце само это слово на язык подвернулось.
– Неладное дело задумал ты, парень, – сказал Матвей. – Не было у Печорских такого в роду. Знаю я твоего отца, знал и мать. Веселуха первая в заводе была покойница. Жить тебе надо, хоть и немудрящее дело наше, житьишко. Посчитай, у господ скотине лучше бывает. Вон, говорят, на конном дворе барские кони чё выделывают. В такой неге стоят, подойдешь, а он, жеребец-то, глаз косит: ты, мол, в портяной рубахе, и давай лягать, что есть духу. Лакеев, дескать, подайте – сам барин ездит на нас. Вот и возьми ты ее, скотина – а все понимает. Ну, да я про скотину ни к чему разговор-то завел. Свет-то клином не сошелся. Ты и сам скоро работать будешь. Парень большой. К делу привыкнешь. К жизни приглядываться станешь. Живу же я бобыль бобылем, а с избушкой своей, как с любимой женой, расстаться жалко.
Матвей помолчал и добавил:
– Не все ведь на улке осень да ненастье, бывает и ведро. Солнце проглянет, земля зацветет, и человеку легче станет.
Отогрелось сердце у парня. Спокойно уснул на заре Ефим, а проснулся, у Матвея навовсе остался.
– Идти тебе все равно некуда, и никому ты не нужен. За избой осень. В бега с ватажкой податься не время. Ватаги прошли, как птицы отлетные, все улетели, на место до студеного времени уселись, – говорил Матвей Ефиму. – Харчей хватит. Не пропадем. К делу привыкнешь и сам заробишь. На первых порах углежогом работай – надзиратель не тронет, к отцу не вернет. Сам работник, сам и в ответе.
Остался Ефимка у Матвея, будто век жил с ним. И Матвей при Ефимке разговорился – значит, парень до сердца дошел. Кто его знает. Вышло только одно: нашел под старость Матвей богоданного сына.
Когда же совсем прижился Ефим у мужика, Матвей ему рассказал про свою заветную думу: «Вот соберу я всех сортов, сколько есть в нашей заводской даче, камней-самоцветов, по цвету их подберу, в котомку положу и айда в город к людям ученым, вот, мол, глядите, какой камень в уральской земельке хранится. Пущай народу мой камень кажут, людям и нашей земле польза».
– Дядя Матвей, а рази есть такой город, где камни кажут? – спросил Ефимка.
– А как же, есть беспременно. В Екатеринбурге такая контора на манер нашей заводской есть, там и камни кажут, только различка против моих большая. То ли мастерки с умыслом грань так положили, то ли камень, вправду, им никудышный достался – мертвяками лежат на суконках, не поглянулись они мне.
– Значит, ты не для корысти камень любишь, дядя Матвей? – спросил Ефимка Матвея.
– Знамо, не для корысти. Погаси лучину в избе – шибко станет человеку тоскливо. Так и без душевного дела невесело жить. Взять, к слову, меня: лес жгу, уголь сторожу – все для брюха, а самоцвет ищу, в земле роюсь – для души, для радости и утехи. Потянуло меня к камням с измалетства. Через них и бобылем остался.
Еще одна радость была у Матвея – до старости любил голубей. Другой отец за малым дитем так не ходит, как Матвей холил своих голубей.
– Чистая птица, – говорил он.
В непролазном лесу жил Матвей, в куренях, и проходила возле избушки его тропа одна, для многих людей совсем известная, для других крепко заветная. В стужу, в буран, в полночь или ночь любой землепроходец иль беглый находил приют у Матвея. Тайное слово ему пришельцы тогда говорили, и он знал его, с ним только в избу пускал, а потом с добрым словом провожал нежданного гостя…
Ладно зажили два друга, старый да малый – Матвей да Ефимка.
Помогал парень Матвею уголь томить, по дому хозяйничать, печку топить, воду носить, шахты бить, камень искать в горе, да в земле рыться, а когда зима свои скатерти по земле расстелила, занесло все кругом, оба стали вечера коротать возле печки.
Матвей топазы гранил, а Ефимка из хрусталя бусы точил – для продажи на пропитание.
От углежогов узнал Пьер о Ефимке. Живо собрался на охоту. Добрые люди, верные друзья показали дорогу к избушке Матвея.
У старика слеза на глаз накатилась, когда увидел, как Пьер с Ефимкой встретились.
Два дня прожил Пьер у Матвея, не расставаясь с Ефимкой, а потом зачастил. Нет-нет и путь ему в курени подвернется, как в родной дом.
Раза два приходил до распутицы отец Ефимки – Федот, от объездчиков узнал он про сына. Наотрез отказался Ефим вернуться домой. Хотел было силой взять его Федот, да Матвея побоялся.
«В добрых руках парень оказался, пущай живет – не пропадет. К делу привыкнет», – подумал он и уехал на завод.
Весело работалось двоим, хоть по ночам вокруг избы метели да вьюги плясали, вековые сосны стонали. А когда студеный декабрь пришел, голубей в избу взяли. В сенках холодно стало.
С голубями в избе им еще веселее стало. Ефим над хрусталем трудится, а голуби будто его понимают: то головой повертят, то на него поглядят, то промеж собой проворкуют что-то.
Как-то глядел, глядел Ефим на голубей и задумался: «Что если из горного хрусталя голубя сделать?».
Подумал, подумал и стал просить Матвея:
– Дядя Матвей, дозволь кусок хрусталя мне попортить – хочу голубя сделать. Пасха не скоро, игрушек успею наделать, а бус и так полно. Дозволь, дядя Матвей. Охота пришла.
– Попытай, если хочешь, дело хорошее. К пасхе смастеришь, пустим в продажу – одежонку справим.
И еще сказал:
– Вишь, какая штука – голубя из хрусталя. Занятное дело. Делай, делай, хоть голубка, хоть голубку, только на птицу было бы похоже, твой камень – старайся…
Взялся Ефимка за дело. Ночи не спал, а к пасхе голубя первого сделал.
Долго рассматривал Матвей поделку, а потом говорит:
– Хороша птичка, ничего не скажу, а вот красоты голубиной нету. Статуй, а не вольная птаха.
Не сробел Ефим, вновь за работу принялся.
В голубце у Матвея долго ящик стоял с разным отбросом: цветной галькой, сердоликами, аметистами мутного цвета. Порылся Ефимка там, нашел сердолик красный, как кровь. Просидел еще с месяц, другой и нового голубя сделал: точь-в-точь как любимый Соколок и с настоящим птичьим сердцем.
Сердолик красной алмазной гранью отблеск давал, оттого весь голубь будто живой сверкал – и луч шел не снаружи, как бывает в стекле, а с нутра, с самой глубины камня, оттого весь голубь разным огнем переливался.
Говорили люди, будто увидел Ефимкина голубя из хрусталя мастер по камню – Спиридон Печерский. В силу он тогда входил, шапку снял перед голубем и долго молча стоял, не спускал глаз с поделки.
Не гляди, что простой да неученый народ тогда был, толк понимал – где талант, а где безделушка. Этим умельцам грамоты бы дать, науки послушать – не то бы еще смастерили…
– Ну вот ты и мастером стал, – сказал Матвей Ефимке. – Помни только: камень не человек, а совесть любит. В чистых руках красоту земли покажет, а у кого на совести грязь налипла, – в таких руках беспременно камень темнеет. Старики такой сказ говорили…
Весной, когда солнце стало припекать и земля оттаивать, горы молодеть, а озера ледяную одежду скидывать, по первому пути отправился Ефимка в завод.
Сдал в контору поделки свои – бусы, две хрустальные чашки и разную мелочь, – купил одежонку и харч, дяде Матвею подарок справил: кумачу на рубаху и двух голубей. У плотины на молодежь поглядел, девичьи песни послушал, мимо родного дома прошел, о матери вспомнил и зашагал в господский дом попроведать Пьера.
Не узнал Ефимка друга – от хвори весь почернел, а сам в печали.
До темна просидели они. Разузнал Ефимка все от Пьера.
– Хозяин в Париж уезжает. Надоел ему завод, а мне сулит суд. Будто я украл табакерку какую-то. Ее нашли у меня. Кто подложил, след не оставил. Надо ж такую гадость сделать…
Помолчал, а потом снова говорит:
– Кто же все это подстроил?
– Сдается мне, – ответил Ефимка, – дело это управителя. Он подложил табакерку, он. Перед хозяином выслуживается, скотина. Ненароком люди про него говорят: «Ночевали мы у вас – шуба потерялась». Не тужите только. На нас положитесь. Мы вам с дядей Матвеем поможем. Скорей собирайтесь да тайком, чтобы вас никто не видал, – к нам в курени, а мы дорогу укажем, как с завода бежать. Бегите, беспременно бегите.
На том и расстались.
В воскресенье поутру колокольный звон по заводу раздался. Согнали народ господ провожать. Шум на площади поднялся. Прощанье. Слезы. Не по господам, конечно, а по своим заводским парням, что взял барин за границу.
Проводили. Одни со слезой пошли домой, другие от радости песни запели.