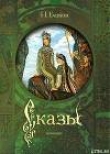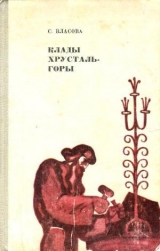
Текст книги "Клады Хрусталь-горы"
Автор книги: Серафима Власова
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
ГАБИЕВКА
Говорят, с незапамятных времен на горе Дедюрихе лес не растет, зато на перевале великое множество людей проходило.
Гора Дедюриха не простая гора, а с зацепочкой. Потому что много дорог через нее пролегло. Тут тебе и на Карабаш, на «Черный камень», тут и тропа к веселой и буйной Сак-Ядге, и на Осиновый шихан. Недалеко и сама Юрма, «Не ходи туда». И на Кресты, откуда дороги на Пермь, Уфу и Оренбург, а дальше тракт на Златоуст и в Зауралье.
Деды в старину молву плели про Дедюриху-гору. Будто многих Дедюриха на перевале свела, многим голову кружила. Заводчика Демидова с Шайтаном свела. Помогла Демидову так припугнуть Шайтана, что тот от всех горных богатств отступился. И Данилку Семигорка увела, когда еще девкой была и Дедюркой звалась. Самонаилучшего рудознатца так околдовала, что и по сей день незнамо куда девался парень.
Свела Дедюриха и Радиона с Габием, лет за сто до «воли».
Разный люд шел в те времена на Урал. Беглых, как и много лет назад, ловили на бойких местах, где мог пройти человек. Для приискового и заводского начальства было все равно: беглый или бродяга. Лишь бы узду на него надеть и в шахту отправить. Поднимай руду, а не будешь – плеть, розги, а то и цепь к тачке и в землю, в шахты. Не видать тогда человеку леса, солнца и жизни. Верно ведь тогда говорилось: «Паук паутину плел, смотритель штрафную библию завел». Все туда заносил.
И про погонял не одна побасенка среди рудничных ходила, вроде такой: «Погоняла был у нас проворный, сам у себя жилу украл». Ну а больше всего про свою судьбу рабочие да рудничные говорили: «Хитрое золото. Кому кудри завьет, кому в кандалы ноги закует…»
Был Радион рудничным. Характером степенный, веселый человек. Лицом видный, глаз добрый, волос русый. На работе исправный. Вперед не лез, и в обиду не давал себя. Откуда он пришел на рудник, никто не знал. Только одно хорошо было известно всем – принес Радион в лохмотьях гусли, как комок родной земли, и сроду с ними не расставался. Песельник был он отменный.
Сгоношил он себе землянку с печкой и оконцем. Своего пока гнезда не свил. Жил бобылем, оттого что заноза, которую он любил, в два сердца входила. И заноза-то была небольшая – девчонка неказистая такая. Рудничные девки на подбор. Любому парню под стать. Крепкие, румяные богатырши, одна к одной. Красотой и характером – шиповник во цвету. Радионова же заноза – долгонькая, тонкая, волосом сбела, одними глазами за душу хватала – больно жарко на парней глядела. Тем и Радионово сердце взяла. И все же не с Радионом жизнь свела, а за богатством она погналась. Своя изба, а не то, что у Радиона землянка, ветром сколоченная, снегом конопаченная.
А народ на заводы и рудники все гнали. Обживался горный край, где в лесах и тропы путней не найдешь.
В тот день, когда этот брат названый объявился у Радиона, Дедюриха словно провалилась, такая метель была. Застонали вековые сосны, завыли поземки на земле, как голодные волки. Жутко было тогда человеку одному в лесу оставаться.
Вот потому и не имел Радион привычки такой: не пустить пришлого человека, да еще в непогоду. На краю рудника стояла его землянка-балагуша.
Когда пришелец постучался в дверь Радионовой землянки, живо соскочил Радион с печки, поглядел в оконце, хоть ничего не увидал, так замело все кругом. Вышел он на мороз, и в страхе отшатнулся. Человек едва на ногах держался. Застыл весь, от мороза опух.
Живо подкинул Радион дров в печурку, помог гостю снять с себя лохмотья. Дал ему тулупчик, пимы и еды.
Долго прохворал пришелец, а когда в себя пришел, навовсе у Радиона остался. И раньше в ненастье иль от хвори в пути многие к Радионовой землянке дорогу находили. Придут, бывало, отдохнут дня два и уйдут опять. Редко кто долго жил. А когда пойдут, то кто доброе слово скажет, кто молчком поглядит в глаза Радиона и словно искорками обдаст. И уйдут туда, куда уходили другие. В далекий край, что Сибирью зовется.
Но Радиона сразу к себе Габий, так пришельца звали, привязал. А чем? За что по-родному крепко стал дорог?
Не мало и теперь хранит народ сказок и легенд о дружбе Радиона с Габием. И молва говорит, будто Радионова песня их сдружила.
Хоть и в долгом был пути Габий, но не огрубел от недобрых ветров и варнаков, как из дальних степей бежал.
Никто из рудничных не знал, когда Радион с Габием в одну из ночей за Дедюриху ушли. Не вздохнул даже Радион, когда землянку свою покидал, только одни гусли взял и тулупчиком у сердца покрепче их прижал.
Если бы не штейгер Назарыч, не шагать бы Радиону с Габием за перевал. Не все ведь из рудничного начальства были такие, как Проня Темерев – хуже пса цепного. На весь Урал гремел своим зверством.
Были и такие, как Назарыч. Чуть не с первых дней, как стал он на руднике работать, приисковщине к сердцу пришелся. А приисковой голытьбе поглянуться было нелегко. Одного человека, известно, можно обмануть, а всех – трудновато. Все равно кто-нибудь да догадался – где в человеке правда, а где он кривдой живет.
Видать, умел Назарыч понимать, у кого ледок и корысть в сердце, а у кого оно человеческим теплом горит. Вот и почуял Назарыч, что Радион добрый человек, а как узнал, что он пригрел беглеца-башкирина Габия, такого же судьбою горького, каким был и сам, вовсе потянулся к Радиону. Верил ему на каждом слове. А когда от приказчика услыхал, что за Габием вот-вот из Чебаркульской крепости стражники приедут, немедля улучил минуту и Радиону подсказал, куда им обоим податься. Ведь вместе с Габием за одну веревочку потянут и Радиона, как беглеца. Душой пожалел Назарыч обоих, и Радиона и Габия.
И верно, не успели они от Дедюрихи и верст сорок отойти, как уже молодой офицерик, поглаживая беспрерывно усишки и шмыгая носом (видать, простыл давно), уже проверял в конторе списки рудничных мужиков и по казармам шарил со стражниками, искали беглеца. Уже много времени спустя, когда Радиона и Габия волна житейского моря прибила в Сысертский завод и они стали работать углежогами в лесу, стороной узнал Радион, что из-за них Назарыч покинул рудник. Как всегда, нашлись у него недруги из заводской сошки и нашептали офицерику из Чебаркуля обо всем.
Говорят, мартовский снег все недуги съедает в человеке. Видать, помог он и Габию, когда они в дремучих лесах, недалеко от безымянной реки, остановились. Огляделись. И попали в курени. Недалеко курились томилки. Приказчик беглецов оглядел, «вид на жительство» не спросил и надзирателю приказал внести обоих в список, который никогда горному начальству не объявлялся. Сами за себя оба отвечай. Таких в заводе не значилось… Радовались Радион с Габием, что от погони ушли. И балаган-землянку у самой реки поставили они. Долго ли двоим? По ночам, после работы, строили они свои «хоромы». По неписаным законам куреней – все работные помогали: кто доски тесал для пола, кто кирпич клал – печку делал. Так и осели они здесь, возле Сысерти…
Еще там, на руднике, когда раны стали на Габии подживать, после работы брал Радион гусли и тихонько пел ему свои песни. Пел он про родные места, про девку у плетня, что на заре парня провожала, а больше всего про то, о чем пел не один Радион – про волю. Самой дорогой песней она была. На глазах тогда менялся Габий. Он весь в Радионову песню уходил. Словно через песню видел парень свои родные места – без края степь и яркое голубое небо, табуны коней и жаворонков в выси. Не мог тогда Габий отличить, кто лучше пел. Жаворонок или Радион?
Рассказал раз о себе Габий Радиону, как умел:
– Большой улус, где моя кибитка был. Тархан богатый. Табун коней, большой такой, что всех джигитов посади, останется еще не один табун без седоков. Один раз черный, шибко черный разбойник приходил. Нас, табунщиков, черный разбойник связал, собак резал и коней брал. Гнал табун далеко. Ой, далеко! Сек тархан. Ой! Как сек! Плакал табунщик! – и Габий рубаху поднял.
На спине Габия и на груди двумя крестами рубцы кровоточили. Еще гневней зазвенела Радионова песня, еще печальней стали глаза у Габия.
Прошла весна, миновало лето с того дня, как Радион с другом ушли с того рудника и стали в куренях работать. Страшна была работа у «огня» в домне, но еще тяжелее на томилках. Зато заработок больше. Вот и сумели они кое-что из одежонки справить через год. Купили на базаре по портяной рубахе. Габий – себе малахай, а Радион – добрые сапоги и азям на плечи.
Повеселели у Радиона песни. Не раз он шутил над Габием, глядя в глаза его.
– Ну не боишься, брат, Шайтана-тархана? Не узнал бы он тебя – вишь, как раздобрел! Небось подумал бы, что ты джигитом богатым стал! Бешмет как влитой сидит на тебе!
– Брат Радион! И ты шибко баской стал! Сохатый! Девку любить надо! Песню петь шибче надо! – улыбаясь, говорил Габий.
И снова бураны над Уралом отшумели. Унеслись метели в дальние края. Засиял на солнце снег в марте, зашумели на горах леса.
Как-то Габий сохатого убил, много лисьих шкурок набрали, продали купцу, купили по тулупу и пимам, а Радион подарил Габию кумача на рубаху и сапоги.
Ну, а потом новая весна Радиону любовь и радость принесла.
Какое девичье сердце выдюжит от таких песен, какие пел на посиделках в заводе Радион. Стал он похаживать туда еще с зимы.
Не выдержало сердце и у Васены Бякишевой, дочки уставщика Афанасия…
Только жить бы да радоваться Радиону и Габию, глядя на тихую и работящую Васену. И собой девка была под стать Радиону, словно елочка возле доброго кедра. Весело глядел Габий на Васену, как мелькал ее сарафан по новой избе, которую они срубили и поставили на месте старой балагуши-землянки. Когда же через год Афанасию Бякишеву дочь внука показала, а названому брату Радиона Габию вроде как племянника принесла, совсем светло стало в их избе.
Не дивились углежоги такому делу, говоря про Радиона и Габия. Не в диковинку им это было. Мало ли русский с башкирином, как с родным жили.
На крестины Радиону с Васеной подарков люди надарили. Кто холста принес, кто медный крестик, кто половичок на пол постелил, а кто просто пятачок медный в глиняную чашку положил.
Гуляли тут же на елани, где и жили. Под вечер развели костер и старинные уральские песни пели. А потом Радион взял гусли и заиграл. Сроду так не пел, как в тот вечер.
Спел Радион любимую народом песню про Разина и беглеца Корнея, отдавшего жизнь за волю. И вдруг оборвал песню. Будто испугался Радион. Поглядел на черные стены бора, на дымок в куренях, на Васену и запел удалую песню рудницкой голытьбы. Но и она оборвалась…
Словно чуял Радион, что недолго радоваться ему. Что беда на пороге новой избы стояла. И пришла она такая страшная, жестокая, что люди потом долго не могли забыть ее.
И принес ее не ветер или люди, а сама хозяйка завода Турчаниниха, Так за глаза народ ее звал.
И все из-за барских собачонок получилось. Не они, окаянные, может, и беды не было б вовсе.
Была Турчаниниха из какого-то знатного рода, а про знатность в те годы простые люди частенько так говорили: чем знатней, тем страшней. Дурели господа от знатности и от безделья, вот и развлекались чужим горем.
Турчаниниха была умна, хитра и своевольна. Боялась бунтов рабочих и держала целый выводок наушников и приживалок, выспрашивая их, о чем думают и говорят люди в заводе. От моды не отступала и целую свору собак имела. Одна из них в особой неге всегда жила и спала, как полагалось, на бархатной подушке в спальне.
В те времена, когда Васена Радиону сына принесла, у любимой собачки этой щенки родились. Весь господский дом был на ноги поднят. Шутка ли сказать: пять щенков. Забегали, засуетились слуги, подавая молоко, подушечки, грелки.
Любовалась барыня щенками, любовались ими и гости из Екатеринбурга. А барыня вдруг как закричит, затопает ногами – и гостей не постыдилась.
Кричит, а люди понять не могут, чего надо ей. Только когда отвизжалась она, перестала ногами топать, поняли слуги: кормилица нужна.
– Разве может такая крошка выкормить пятерых щенят? – кричала Турчаниниха на весь дом.
– Крошки все передохнут, – вторили ей приживалки и гости.
Кто-то вспомнил, кто-то подсказал, что дочь уставщика Афанасия кормит сына.
И вот завертелось все, закрутилось, как крутит ветер перед грозой на дороге пыль. Без малого чуть не силком привели Васену на конный двор, в дальнюю стайку ее закрыли, подложив к ней щенят. Сама Турчаниниха, проводив гостей, явилась со всей ватагой приживалок смотреть, не обманет ли баба, и будут ли щенки сыты.
Ползала в ногах у барыни Васена, но Турчаниниха неумолима была. Без памяти свалилась Васена, а щенки уцепились за ее грудь, прильнув к ней, как к собачонке…
Вдруг за конюшней раздались крики и, расталкивая народ, в стайку Радион ворвался. Подскочил к Васене и, увидев щенят у ее груди, что есть силы схватил их и швырнул в угол. Один щенок упал на камень, от удара завизжал, других кинулись приживалки поднимать.
Со всего завода сбежались люди. Откуда ни возьмись надсмотрщики и погонялы появились. Принялись они разгонять народ. Потом связали Радиона и Васену.
Господское решение было страшно: Васену высечь принародно, Радиона – на Богословские рудники навечно. Туда, откуда никто еще никогда не ворочался. Избу сжечь.
На диво в тот год жаркое лето выдалось. Словно в кричне, солнце пекло. Жгло оно и в тот день, когда на площадь с раннего утра начали народ сгонять. Погонялы, стражники, надзиратели окружили площадь, на которой деревянный помост стоял. На помосте тот, кто должен был сечь, в плисовых черных штанах и в желтой рубахе. В руках у него двухвостая плеть трепыхалась.
Над площадью гул, пар и причитания. Кто-то крикнул: «Везут!», барабанная дробь рассыпалась над головами людей. К помосту подъехала телега, а в ней связанная Васена. Как была в кубовом сарафанишке, когда привели ее кормить щенят, так и в том привезли. На сарафане кровь запеклась, видать, шибко ее били. Лицо белее снега. На голове черный платок. Единым вздохом простонал народ, когда увидал Васену. Слезла она с телеги и на помост поднялась, чуть живая. Подошел к ней палач, но его остановил приказчик. Он развернул бумагу, на которой красная, как кровь, сургучовая печать алела. Прочитал он решение барское и махнул рукой.
Сдернул палач с Васены платок, и пригнул ее к скамейке. Привязал ремнями к доске и засвистела плеть, жутким воем запела.
Сколько бил палач Васену – не считалось, только когда с помоста кровь потекла, всего раз застонала Васена, и голова ее еще ниже наклонилась.
Никто ее стонов не слыхал, оттого что гул человеческих голосов нарастал все больше. Уже нельзя было разобрать, кто и чего кричал, только волной рев гнева людского поднимался. На помост вскочил Габий. Что-то кричал, проклиная господ. Два здоровенных погонялы тут же схватили его, кто-то кинулся отнимать, началась свалка… И снова на помосте человек оказался. Какой-то парень это был.
– Душегубы! Кровопийцы! – кричал он, тряся кулаком перед приказчиком.
– Добрые люди! – повернувшись к народу, парень прокричал: – Радиона тоже нет в живых! На конном его засекли! Не давался он цепи на себя надеть, вот и прикончили!
Парень кричал еще что-то, но его не слушал уже никто. Все кинулись на конный двор, а отец Васены поднялся на помост и наклонился над дочкой. Палач было хотел его отстранить, да Афанасий пошел прямо на него и, если бы тот не отскочил, столкнул бы его старик прямо в разъяренную толпу.
Поднял Бакишев дочь и зашагал на конный. Враз наступила такая тишина, будто никого людей на площади не было. Расступились все перед Афанасием-отцом, который нес в своих руках мертвую дочь к мертвому мужу.
И чем дальше он шел, тем больше народу шло за ним. Молча шли. Только легкий ветер и солнце играли в волосах старика. Он будто вырос и окаменел.
На конном Афанасий положил Васену рядом с мужем.
К ночи тишина покрыла весь завод, хотя, говорят, никто не спал в эту ночь. Скорбь и тревога зашли в каждый дом.
Темнел господский дом, не светилось ни одно окошко. Только рвал тишину в заводе в эту ночь стук колотушек ночных сторожей и печальный звон часовых переборов на башне.
Всем заводом хоронили Радиона и Васену. Господа скрылись давно уж в Екатеринбурге. А когда поднялся бунт после похорон в заводе, то, видать, Турчаниниха поняла, что такое бунт работных. Недаром в Пермскую Берг-коллегию понеслось одно донесение за другим о бунте в Сысертском заводе. Понадобились казаки и солдаты для усмирения людей. Не скоро задымили трубы в заводе, не скоро пришел в себя народ после расправы над Радионом и Васеной.
Долгих двадцать лет прошло с того дня, когда казнили Васену. И однажды заводские на улице увидали седого незнакомого башкира.
Никто не узнал в нем Габия. Как удалось ему с рудников сбежать, не спрашивали люди. Кто-то приютил его, накормил, помог балагушу на безымянной речушке, где когда-то их балаган стоял, поставить. Кто-то принес Габию Радионовы гусли. Сумели сохранить.
Не ведали люди, как все эти двадцать лет тосковал Габий о друге. Ведь всего было двадцать лет парню, когда на нем цепи загремели и потерял он Радиона.
Никто не видел в тот вечер, холодный и печальный, как вспоминал он про свою встречу с Радионом возле Дедюрихи и как он взял в руки Радионовы гусли и стал их перебирать. А потом запел любимую Радионову песню о воле и про их нелегкую долю…
Как сложилась у него песня про Радиона и Васену, он и сам не знал, но, видать, таким гневом он ее напоил, что потом, как огня, боялись господа Габиевых песен.
В песнях – сила. Самоцветная россыпь в них. Камешек самоцвет, как огонек, глаз развеселит. Так в старину говорили, а еще добавляли: «За светлой же и доброй песней пойдешь, непременно до Габия дойдешь!».
До глубокой старости дожил Габий, одряхлел и занемог. Тогда люди его ближе к заводу перенесли. На Бесеновой горе вырыли ему землянку, а женки работных носили ему еду. Как за родным отцом ходили. Когда же навек закрылись его глаза и Радионовы гусли вновь осиротели, в память о Габии, а вместе с ним и о Радионе, речку, возле которой Габий жил, Габиевкой назвали.
Пытались господа позднее эту речку назвать по-другому, чтобы люди позабыли про Габия и Радиона. Называли Светлой, Черемшанкой и еще как-то, но не получилось ничего.
Там же, где засекли Радиона, кто-то две елочки посадил. Теперь они старые, обросшие мохом, обнявшись стоят, а вокруг них по берегу пруда, на месте конного двора, огромный детский парк шумит.
СТАРИННОЕ ПОВЕРЬЕ
В старое время на уральских заводах много было разных поверий. Известно – глухомань. Кто чего плел. Правда, работный человек, что возле кричны иль в забое потел, тот не шибко верил в эти запуги и между собой свое говорил – то, чего видел и примечал, вроде такого: «Не тем он фартовым был, что в рубашке родился, а тем, что с народом удачей делился».
А то, бывало, и про нарядчиков отсыпят: «Доверился нарядчику – остался без лаптей». Жизнь тогдашняя не ранним белым снежком усыпана была. Выглянуло солнышко – и растаял снег. Темно и тоскливо жилось народу. Оттого и побасенки невеселыми были. Одним словом, как говорилось тогда: «Иван в шурфе горб набил, а щегерь Епифан капитал нажил». Вот так-то.
Ну, а старикам да молодайкам разную небывальщину плести мужики не мешали. На то, мол, и даден язык человеку, чтобы им говорить. Кто в дело, а кто и без него. Каждому в утеху.
Только одно поверье без малого на всех старых заводах в память людскую въелось. Будто при постройке на заводах плотин непременно голова человеческая клалась. А это уж любопытно, как ни говори. И было ли на самом деле такое? Впрочем, послушайте лучше о таком поверье сказ.
Не много, не мало, а годов двести назад это дело приключилось. В те поры обживался наш край. Кто в лесах оседал, кто в степи пробивался. Больше у воды все гнездились…
И вот как-то раз ватажка беглых вышла на Каму-реку. За рекой люди горушку увидали, малый заливчик. С горушки две речушки бежали. Приглянулись места новоселам. Срубили они куренную избу, потом другую и назвали свой курень Морянкой. Так одну девку среди беглых звали. Видать, была она из-за большой реки, которая, как море без берегов, по весне разливалась. Ну, а поскольку Морянка всех мужиков обшивала, кормила, за ними ходила, стали девку Добрянкой звать за ее добро к людям.
Помаленьку огляделись люди, пообстроились. Прижились в здешних местах, хоть и глухо было кругом. Зверья полно было, рыбы хоть ведром черпай. Грибов и ягод на весь год заготовляли. Тропы торили, куда можно было поделки свои сбывать.
Только одного не усмотрели люди: земля-то была графа Строганова. Тут и получилась у новоселов осечка. Как прослышал Строганов про Добрянский курень да про то, что там медную руду добывают, сразу решил прибрать народ к своим рукам. И медеплавильный завод поставить. Задумано – сделано. Пригнали еще работных людей. Стали они завод ставить, но свое ремесло не забывали. Медную посуду изготовляли – рукомойники, кувшины. Вот и говорят, что от дедов у нас, заводских, любовь к медной посуде идет.
Перво-наперво прислал Строганов управителя и приказчиков, про которых потом говорили: «До воли приказчик, после воли – подрячик». Заложили завод, поставили церквушку, казенку – кабак. Еще прислали народу. На горушках еще появились избы. Только не хватало, воды для завода. К осени плотину изладили. Только по весне как пошли вешние воды, так от этой плотины и щепок не осталось. Опять к осени новую плотину поставили, а весной такая вода пошла – сроду люди такой воды не видали. Опять все смыло, а плотину по бревешку унесло, хоть и лес на нее был поставлен самый кондовый. Принялись тогда люди в третий раз копошиться, но пришла вода по весенней поре и все унесла…
Говорили тогда: «Сыч стонет в лесу, а работный в дудке». Застонал вскоре народ от этой беды, потому что донес управитель Строганову: «Так, мол, и так, сносит плотину. Речки здесь по весне бурливы да снега большие. А может, плотинный подводит, и людишки плохо робят. Недовольство между ними большое, вот и подливают деготь в мед, где могут».
Прискакал вскоре нарочный от Строганова. Страшную весть он привез: «С виновных строго взыскать. На завод помощника из чужестранцев прислать. Разобрать дело, виновных наказать нещадно».
Началась расправа. Много работных было исполосовано розгами и плетями. Отхаживали бабы измордованных мужей и сыновей ранними березовыми вениками в жарких банях. Разнотравными настоями отпаивали. К ранам мази на Марьином корню и липовом цвету сваренные привязывали. И все же, хоть самый крупный и сильный народ на плотине работал (каждый мужик иль парень не в обхват в плечах бабьим рукам), многих не отходили, на погост снесли, а остальные, как были исхлестанные да обиженные, робить пошли…
Говорят, что и в потухшем костре угли разгораются, а у добрянских работных ненависть и не утихала, после же расправы господской пуще того в сердцах работных закипела, забурлила, словно пена в крепком квасу…
А тут еще, как назло, утром плотинный мужикам сказал:
– Как же нам с вами, добрые люди-труднички, избыть с водой напасть? Как укрепить плотину против воды? – Помолчал, бороденку свою пятерней расчесал и добавил: – Можа, етта беда-то неизбывная от того нехристя бритоуса, что в приказной избе сидит, невесть на чё обретается. Можа, – умствует, – все наше горе ему на руку? Вот и вредит он.
Молчали мужики, только вздыхали. Откуда было им знать, раз плотинный не знает. А он все говорил и говорил. Знать-то, прорвало его терпение:
– Как хлестали людей, он, бритоус, тут же стоял и на мирскую маяту глядел. Только нет-нет да и отвернется в сторону рылом-то. Это-де вам, сиволапым, в науку, – говорил бритоус. – О! О! – И, подняв свой палец кверху, закатил глаза. – Это-де не вашего ума дело – плотины строить… Потом еще чё-то он лопотал, – злобно говорил плотинный. И, повернувшись к одному из мужиков, сказал:
– Твой-то Митрий, младшой, тутотка стоял. Всех пригнали с горы на маяту народную глядеть для устрашения.
– Ну вот от таких слов бритоуса, видать, не стерпел Митяй-то твой, индо затрясся. Да и хвать нехристя за грудки. Тряхнул раз, другой. Не подумал парень сгоряча, что и его тут же на бревнах могут отходить за самоуправство. Приподнял Митяй нехристя за камзольчик, аж оборочки кружевны на ем хрустнули. Держит Митьша бритоуса на весу да потряхивает. Известно, не обидел боженька парня силой. Трясет он бритоуса да приговаривает: «Говори по-нашему, коль тебе ведано, как робить надо для дела, а не изгаляйся над народом». – Ну, а тот, видать, с перепугу, поджал кривы ножки в белых чулочках и заморских обутках с пряжечками, да ими туда-сюда болтает. Руки в желтых перчаточках разметались и хватались за бел свет что есть мочи. Глаза у его закатились. Шепчет он по-своему, видать, с белым светом прощается…
Замерли все от страха, а Митьша знай трясет нехристя и приговаривает: «Будешь говорить аль нет?» Тот с перепугу возьми, дело не в дело, и бухни: «Голёва́ нужен». Вот чё отсыпал окаянный.
Переглянулись мужики. Мальцам кое-кто подзатыльник дал, чтобы тут не крутились да больших не слушали.
Кто чего говорил. Кто, не поняв смысла слов чужестранца, дознаться хотел, зачем он про голову сказал. И чья, дескать, нужна голова? Но пойди дознайся. Убежал этот нехристь в приказную избу, как Митрий его отпустил, на все засовы заперся, а потом тайком без ума с завода сбежал…
Призадумались мужики. И не столько над тем, чья нужна голова, а над тем, как дальше быть. Невмоготу жизнь-то была. Есть над чем задуматься.
Увидал плотинный, что оторопели мужики, затуманились. Принялся он тогда вроде как успокаивать их. Поворошил плотинный на голове шапку, сдвинул ее на ухо и проговорил приунывшим работным людям:
– А Митрий-то у нас чисто иголкой шьет – топором-то. На срубах вырезает шибко ладно пазы в заугольях. Сноровистый парень, ничего не скажешь. Я вот одинова на спор ходил со свояком. Гляди, мол, говорю я ему, пятерню свою на колоду положу. Сказал и положил, да растопырил пальцы-то я свои на колоде. «Не робей!» – говорю я ему. Свояк снял шапку, перекрестился – и за топор. Тяп! Тяп! А рука – вот она – целехонька!
И плотинный перед мужиками рукой повертел. Качали мужики головами. Посмеялись над плотинным, а кто-то сказал, поняв замысел плотинного (успокоить мужиков он задумал):
– Откуль только у тебя такая сила взялась? – пошутил он над сказкой плотинного. А тот оглядел всех. Кажись, маленько отошли, духом заворошились, спокойней заговорили. Поднялся плотинный тогда с бревен и сказал:
– Ну, ребятушки, с богом за работушку.
Пойти-то все пошли, только один замешкался. Остановился он и сказал:
– Робить – это полдела, как не робить, а вот как же насчет зуботычин да битья нещадного. Как же, плотинный? А?
– Опосля поговорим, – только и смог ответить плотинный. И тоже пошел в гору, где пилили дрова. Шел и думал про себя: «Пошто я не сказал народу про то, что еще бритоус говорил? Про то, что каки-то турки на нас войной идут. Медь нужна будет, чтобы не с голиком врага встретить. Далась нам эта голова, все из ума вышибла. Слушать не хотят, что мозговать надо, как лучше изладить плотину, а не рубить чью-то голову да в паз ложить. Бабьи запуги», – ворчал он про себя.
Много народу пришло вечером послушать плотинного. Слух о войне и о голове всех поднял в заводе. Только не пришли те, кто в лесу работал: на томилках да кто лес рубил. А были это те, кто свой черед отбывал: парни и девушки больше всего там свой урок отрабатывали.
Отрабатывала в лесу и дочь плотинного Федосья. Не знала она, как и остальные, про вести недобрые про войну и про голову молву. И все же дошел слух об этом. Донесли его не мужики иль какая-нибудь бабочка, нетерпеливая на язык, а пострашней. Старухи-кликуши – прицерковная плесень. Вечно они ржавчиной возле людей, особенно молодых, гнездились. Как-никак – доход себе добывали. Вот эти-то старушонки и донесли до томилок, порешив между собой, что непременно человеческая голова нужна, и девичья наособицу. Свои-то головы кликуши больше всего берегли.
А тут еще на Федосьину беду дьячок ей подсыпал. Давно старичонко на ее красоту зарился, в жены себе сватал, как овдовел, да Федосья только ахнула, как он посмел ей такое сказать.
Не знала девушка, что завистливых людей будто черт на плохое подбивает, как в старину говорили. Вот и принялся дьячок мутить девичий ум, зная, что не может такая красота ему достаться. Пусть никому не достается. Ведь раньше часто такое бывало.
Вот этот самый дьякон и сказал Федосье: «Вот, дочь моя! Скорблю я по тебе. Лучше бы ты отдала свою красоту на пользу народа. Может, оттого и плотина не может устоять перед водой, что нет в ней головы честной девицы. Запорошила ты все глаза своей красотой, Федосьюшка. Да и людей запорют, как весна придет, и плотину снова снесет…»
И кликуши все шептали, шептали Федосье про то же. И ведь нашептали. Плакала девушка с горя своего неизбывного. На свою красоту обижалась, а больше того от дум невеселых, что и правда погибель ждет верная всех заводских, ежели не устоит плотина перед водой. Да и про войну слушала. «Видать, судьба моя такая, – думала она про себя. – Послужу лучше миру народному, помогу, раз могу».
Хоть и дремуч был в те поры лес за Добрянским заводом, а все же слухи будто ветры приносили. Войной враг идет, говорили люди…
И вот думала, думала Федосья – красота девичья. И надумала. Один раз, как домой уж из леса воротилась, встала утром рано, умылась, косу заплела и пошла на работу. Нарядчик всем приказал выходить на плотину. Отца Федосьи дома не было. Управитель послал его на соседний завод, посмотреть, как там плотина излажена. Был бы дома, так рассказал бы дочке, что не человечья нужна была голова, а додумать надо то, чего ни он, ни управитель не могли уразуметь, отчего сносит плотину.
Пошла Федосья на работу, будто даже повеселев. Мать, глядя на дочь, обрадовалась. Кто навстречу Федосье попадал: бабка ль, молодица с ведрами, иль мужики с водопоя коней вели – всех Федосья поклоном встречала, и на ее приветствие «Здорово живете» хорошей да приветливой улыбкой отвечали. Как всегда, шли люди и дивовались, глядя на Федосьюшку. Уродится же такая красота. Глаза – что голубая вода в светлом роднике-ключе, посмотрит – прямо в душу западет ее взгляд. «Хороша будет хозяйка в дому, приветливо смотрит она на людей, глаз не отведет», – думал каждый о ней, А она шла в своем домотканом кубовом сарафане с рукавами белыми из холста тонкотканого. Коса ниже пояса. Косоплетка и поясок радужной расцветки. В лапотцы обуты ноги. В руках еда в узелке для брата малого.
Шла она и на плотину глядела, а там кто по колено в воде стоял, кто сваи забивал, кто листвяные и смоляные брусья укладывал. Дошла она до места, с народом поравнялась, кто в ночь робил, поклонилась, как полагалось тогда, и сказала: «Бог в помощь!»