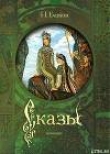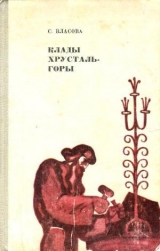
Текст книги "Клады Хрусталь-горы"
Автор книги: Серафима Власова
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
УЛЬКИНА СЛЕЗА
Может, и не так это, но люди на Урале говорят: «Река иль гора – не человек, а след свой оставляет, да еще и подарки людям дарит, только шибко надо искать эти подарки – не враз они людям обозначаются».
Видать, крепко люди эти следы гор и рек примечали, коли сказки про них сказывали…
В одной из них так говорилось: будто внучка могучего Тобола-реки, дочь Уя, махонькая, тихая, как утренний ветерок в лесу, Санарка такой людям подарок дала, что славу об Урале по всему свету пронесла, и все через Улькину слезу получилось.
Была Улька, как все девчонки другие. С малых лет отцу с матерью золото мыть помогала. Известно, в старое время ребятишки в горщицких семьях заправскими работниками считались, наравне с отцами рабочую жизнь хлебали.
Помахай-ка весь день от зари до зари лопатой песок с земли в вашегерд (это в десять годов-то, а бывало и меньше!), когда солнце нещадно палит иль ненастье навалит.
Редко отдых ребятам выдавался… Ну, а когда праздник придет или свадьба наступит в семье, бежали ребятишки на речку, купались, играли, а то на берегу цветные камешки искали, а потом домой ворочались и, будто заветный клад, свои туески с камешками несли.
Не раз подкатывали скупщики к ребятишкам – на их камешки поглядеть. Знали окаянные торгаши, что среди цветной гальки на дне туеска нет-нет, да вдруг самоцвет обозначится: то турмалин блеснет, то розовый или с дымкой топаз улыбнется, а то кристаллик граната будто рассмеется.
Любила и Улька камни на берегу Санарки перебирать.
То ли характером она была неразговорчивая, то ли понимала, хотя и маленькая, что не из видных на свет уродилась – тоненькая, как травинка засушливым летом в лесу, с косицей в три рыжих волоска и длинными не по туловищу руками, только часто чуралась она ребятишек.
Говорят, редкий человек совсем некрасивым родится – и правда, что-нибудь да есть в нем такое, – поглядишь и обрадуешься.
Редкие глаза были у девчонки. Часто бывают люди с голубыми глазами, у одних то ссиня, как в зимнюю пору под вечер, то сголуба, точно весенняя вода в половодье. Улька же имела голубые, ясные и с таким блеском, будто луч солнца в глаза ее заглянул и навовсе в них остался.
Недаром отец часто ей говорил:
– Эх, Улька, ну и глаза у тебя, чисто хрупики вставлены.
– Тять, а тять! Рази есть такой камень! – спрашивала Улька. – Намедни Феклушка говорила, будто у отца она видала. В старой шахте обозначился!
– Нет, Улька, никто не видал у нас на прииске хрупик, – отвечал ей отец.
– Тять, а можа, доведется тебе натакаться, покажешь мне?
– Знамо покажу. А вот вырастешь до девок и сама найдешь, ежели по моей тропе горщицкой пойдешь да с кайлой дружбу заведешь, – шутил, бывало, над Улькой отец.
Как-то раз она сидела на берегу у старой подмытой водой березы и гальку перебирала – красивенькие, обкатанные сердолики среди нее не попадутся ли ей.
Говорят, нет границ ребячьей думке, и верно, будто наяву все Ульке представлялось, о чем ей тогда думалось.
Вот видит она, как по спокойной глади реки золотая лодка плывет. Тихо, тихо кругом. Ни единый листок на березах и черемушке не шевелится.
Лодка ближе и ближе к ней подплывает, а в лодке той девица-красавица поет.
Трудно Ульке на нее глядеть. Глаза режет блеск ее сарафана. А сарафан тот весь из каменьев дорогих. И лента в косе яхонтом отливает.
Вдруг девица в лодке поднялась на берег, камень голубой как кинет, а за ним другой.
Сбрякали камешки о гальку и… проснулась Улька.
«Ох! Как крепко я спала. А я думала, все это правда», – удивилась Улька и уставилась на речку: не увидит ли она опять ту же лодку золотую?
Но кругом еще тише стало. Из-за дальних сопок сумерки пришли, туман с реки по еланям лентами пополз.
«Побегу домой, а то мамка ругаться будет!» – решила Улька и зачерпнула напоследок песок с мелкой галькой в ладонь. Тряхнула раз-другой и замерла на месте: на ладошке ее сверкнул камень голубой, потом еще.
В сумерках камешки живым огоньком горели. От радости Улька обомлела. Камешек, что поменьше был, кинула в туесок, а который побольше, в кулак зажала и ветром домой понеслась.
Вот уже и сопка, где прииск притулился, вот и дедову копушку увидала, а за ней – родная изба, что из земли одним глазком на свет глядела.
Вдруг за спиной у Ульки зазвенели колокольцы. Оглянулась она, и ноги у нее от страха подкосились: во весь мах по дороге тройка лошадей неслась. На козлах маячил кучер в петушиной шапке.
Вот уж кони совсем близко. Еще ближе.
– Дави! Дави! Ха-ха! Червяка! – орал хозяин прииска, тыча жирным пальцем на девчонку, но враз глаза его остекленели. Увидал он в руках у Ульки туесок.
– Стой! – крикнул хозяин кучеру. – Кажись, еще забава! Отыму у девки туесок.
Шаром выкатился с коробка и кинулся он к Ульке. Уцепился за туесок, но девчонка его еще крепче к груди прижала. Видать, решила ни за что его хозяину не отдать.
Дальше все приключилось скорее, чем эхо долетело до гор и обратно: вырвал хозяин у Ульки туесок. Пнул ногой в грудь, в то самое место, где ее сердце билось. Резанул Улькин голос тишину и где-то совсем близко замер.
А тройка была уже далеко, и пьяные крики господ за сопку унеслись.
Сбежались люди. Смотрят на канаву, а в ней Улька лежит – без кровинки в лице. Только большая, как самая чистая вода, слеза из-под ее закрытых век скатилась и застыла на щеке.
Крепко стиснул зубы отец Ульки. Поднял с земли дочку и припал к ее маленькой груди, но сердце уже не жило. Он еще пуще дочку к своему большому сердцу прижал, и в это время у нее кулачок разжался и на землю камешек упал. Кто-то поднял его, поглядел в потемках и тихонько прошептал:
– Ни дать, ни взять, как Улькина слеза, – чистехонькая, окаменелая.
Но не до камней было людям. Такая злоба поднялась на хозяина у всех, что попадись он в ту пору – несдобровать бы варнаку!
– Проклятый! Кровопиец окаянный! – кричали они, неистовствуя.
Но потихоньку разошлись люди. Затих крик и плач матери и родных убитой Ульки.
Откуда ни возьмись – ветер поднялся. Туча черная небо все закрыла. Пошел дождь. Будто хотел смыть он с земли слезы и кровь маленькой Ульки, что первая нашла редкий камень – хрупик, или, как ученые его называют, эвклаз – один из самых редких самоцветов. Только в двух местах во всем свете был найден этот камень – у нас, на Санарке-реке, да в далекой Бразильской земле…
АНДРЕЙ ЛОБАЧЕВ
– Горщик горщику – рознь, – начал свой рассказ Михаил Дмитриевич Лобачев, прославленный на Урале горщик. – «Пошел в гору – знай приметы камня да иди в горы без корысти», – так нам еще деды говорили.
Коршунами кружились скупщики вокруг рудознатцев, ну а настоящий горщик или старатель дедовы наказы не забывал, крепко их помнил. Других в пример приводить не буду, а о брате расскажу. Редкостный талант брат Андрей имел на камни. Только вот грамотешки ему не хватало, как и я, самоуком до всего доходил.
Как сейчас помню. Малым я еще был, а Андрейка еще меньше. У соседа-лавочника парнишка рос – погодок со мной. Дурной такой парень был, ну чисто пенек. Примется книжкой вертеть перед Андрейкой. Вертит, а сам наговаривает: «Вот дашь светлый камень – дам книжку почитать!»
Андрей-то уж в то время вовсю работал в горах. Лет десять ему было. До страсти любил он камень, ну а книга тоже манила. Ежели, бывало, дорвется он до нее, будто самоцвет в руках держал.
Часто он отца просил купить книгу – да куда тут. Бедность нас шибко ела. Хоть и с малых лет терли бока возле камня, а от бедности, как от дождя осенью, не могли отвязаться.
Страшно вспомнить, как жили. Изба на боку. Одежа – одни ремки. Сбруи путней у лошаденки сроду не бывало, а отец покойный из копушек не выходил.
– Душу заложу, а до жилы дойду! – клялся он. – Ничего не пожалею. Жизнь отдам, а до доброго камня дойду.
Не на ветер старый горщик слова кидал. Не такой характер имел. Потверже гранита, посчитай, характеры-то были у рудознатцев.
Пошли мы, значит, с измалетства с Андреем по дедовой да отцовской тропе. Вместо книжек – кайла, вместо бумаги – горы.
Сколь хошь пиши да разгадывай знаки камня, леса и гор. Все ведь в единой силе рождено бывает. Потом уж много лет спустя довелось брату у самого Ферсмана поучиться. С ним работал Андрей. Александр Евгеньевич хвалил брата. «Неутихомирный ты наблюдатель, Андрей!» – говорил Ферсман, как сейчас помню слова эти.
Сойдутся, бывало, будто век не видались. Говорят, говорят и все о камнях. А то уйдут к самым дальним копушкам. Уйдут на день, и проходят неделю. Голодные, а довольные воротятся назад. Идут веселехонькие, только в котомках камни брякают.
Хороший был человек Ферсман. Хоть и ученый большой, а понимал мужицкую душу. Да еще как понимал!
Часто я глядел на них: на брата и Александра Евгеньевича. Один – большой ученый, а другой – босяк босяком, холщовая рубаха на нем, из понитка штаны, волосы на голове чисто помельник. А стоят эти оба человека, будто равные. Да еще спорить примутся, и Андрей частенько верх брал.
Смелый был брат, ничего и никого не боялся. Люди то лешего выдумывали, то всякие небылицы плели про старые шахты. Ради шутки. Да куда там! Андрея страхом не возьмешь.
Как-то Митьша – тоже добрый горщик был и шутник большой – вымазался чертом и ночью к шалашу Андрея подкрался. А дружки его за оврагом поджидали. Сидят и смотрят, что дальше будет. Андрей так Митьшу понужнул, что тот с горы пушинкой летел. Только один раз за всю свою жизнь Андрей испугался. Правда, молодой еще был. Как говорится, страхом не обучен.
Открыли мы корундовую жилу. А на богатимую натакались. Дело было в субботу, а суббота в старое время, известно, для горщика – светлый праздник. Разрешалось домой сходить, в бане помыться.
Ну вот. Артель-то вся в поселок ушла, а Андрея оставили жилу караулить. Известно, бобыль. Некуда податься.
Развел он костер. Сухарника в ночь заготовил. Вскипятил чаек. Прополоскал им брюхо. Кирпичный чай тогда горщики шибко уважали. От ломоты в костях хорошо и от сна воротило.
Сидит это Андрей у костра и вдруг слышит: кто-то в кустах нет-нет и шабаркнет. Будто из земли кто вылезает. А темень кругом как в забое ночью. Осенняя пора подходила.
Опять где-то кто-то шабаркнул. Приподнялся Андрей с земли и видит: на костер человек идет. Подошел. Поглядел. Но брат не сробел, оглядел гостя. Человек Андрею сказал:
– Мир на стану, – и, не дожидаясь ответа, спросил: – Не испужал я тебя?
– А чего мне пужаться? Не в диковинку ночной гость. Садись к огоньку. Не из пужливых наш брат рудознатец, сами кого хошь испужаем, – усмехнулся Андрей.
Сам потом нам рассказывал все это.
Ну вот, говорит это он пришельцу, а все же нет-нет и скосит глаз на гостя: дескать, что за птица?
Не поглянулся он Андрею. Купец не купец, а, видать, из богатеньких был. В ухе серьга да еще золотая, цепочка на брюхе. Сам тонкий, высокий – одним словом, будто худой голик против доброго кедра. Это против Андрея-то. Больше всего не поглянулось обличье гостя Андрею. Шея долга, голова махонькая, и то злые, то озорные глаза.
Смотрит Андрей на гостя, а сам думает: «Что-то не то. Кто ночью да еще в лес в золоте ходит. Может быть, на пушку думает меня взять? Жилка-то, она хоть кого приманит! Ежели надо, сам управитель прискачет».
Думает он про себя так, а виду гостю не кажет.
– Знать-то, ты не из здешних мест, человек? – спросил Андрей. – Откуда и куда путь держишь?
– Пыхало не прут, дыхало не голова. В Ильменях живу, траву жую. На солнышке греюсь, за камнем сплю.
Совсем не поглянулся такой ответ Андрею, но виду опять гостю не подал.
А пришелец опять за свое – новую загадку отсыпал:
– Лежит тело, головы нет, а горло цело!
Вздрогнул Андрей от таких слов.
«Знать-то, разбойник. Варнак!» – в голове у Андрея пробежало, а гость в это время и говорит:
– Ну ладно. Хватит загадками тебе говорить. С докукой я к тебе. Хворь меня одолела, я кое от кого слыхал, будто есть у тебя камешек такой, всяку хворь отводит. Сглотнешь его и оздоровишь. Жар этот камень в человеке съедает. А насчет загадок – я пошутил. Люблю людей ими пужать.
Усмехнулся Андрей в ответ, но спорить не стал, только будто между прочим сказал:
– Запуги это все бабски про камень. Не верю я и тебе скажу. Не для этого рожден камень, ну а ежели ты веришь, возьми. У меня в балагане их много.
И тут же поднялся. Сходил в балаган. Подал гостю тряпицу. Тот развернул, а в ней камешек, словно льдинка застывшая лежала.
Взял камень гость в руки принялся его вертеть, то на зуб положит, то к носу поднесет. А Андрей глядит на него и смеется.
– Ты бы лучше горилки похлебал, а то вздумал ледяной камень глотать. Кишки остудишь! – шутил он над гостем.
Но тот будто Андрея и не слыхал.
– Сколь ты возьмешь за этот камень? – спросил гость Андрея. – Красненькую мало?
Оглядел Андрей гостя и сказал:
– Камень бери, только помни, самоцвет чистый воздух любит, а от душных убегает. Как бы от тебя не убежал. Держи крепче: дух от тебя не шибко легкий идет. Не из наших мест ты, как я погляжу. Ишь золото-то налепил на себя, знать-то, из богатеньких будешь! Только у нас обычай такой: на хворь сколько дашь. А ежели нет ничего – так возьми. Оздоровишь – отдашь.
– Значит, даром отдаешь? – спросил гость. – Видать, и вправду ты не из корыстных? Оттого и ходишь в портках, а твой камень я не возьму даром. Пойдем-ка, я тебе за него одну тайность открою! – позвал гость Андрея.
Пуще прежнего удивился Андрей.
«Сам не здешний, а о каких-то тайностях говорит», – думал он про себя, но мешкать не стал и, забросав костер, зашагал за гостем.
Недолго они шли. И места все Андрею знакомы. Хоть глаза завяжи, дорогу б нашел.
Зашли они на высокий шихан одной из гор, что за Таганаем стоит. Зашли и остановились.
– Знаешь ты эту горушку? – спросил Андрея гость.
– Знаю.
– А знаешь, какие хребты за ней тянутся?
– Знаю. Хочешь, я и сам тебя хоть до Юрмы доведу, а хочешь…
Но гость перебил Андрея.
– Хватит тебе мозги на ладонь выкладывать. В горах ты живешь, а не знаешь, поди, какие хребты за Таганаем лежат и что в них скрыто?
Хотел было Андрей гостю возразить, но тот не дал ему и рта раскрыть:
– Слушай, Андрей, большую тайность тебе я открою за то, что ты бескорыстный. Дальше три хребта в разные стороны уходят. Один из них золотой, до безводных степей в нем золото лежит. И нет, как морю, ему берегов. Во втором – сам горюч-камень лежит. В третьем – разные руды и самоцветы, а между хребтами… – и осекся.
Видать, заприметил, как слушал Андрей, ни разу не прервал, но и усмешку с губ не убрал.
– Не веришь! – загремел гость. – Ну хватит тогда. Пойдем твою медовуху пить, а то зябко стало.
– Пойдем, – ответил Андрей, и они повернули обратно к балагану.
Угостил Андрей гостя, а тот все ел и ел, пока все в утробу не отправил.
Наелся и принялся на весь лес хохотать да так, что гул пошел по горам.
Слушал, слушал Андрей гостя и все больше дивился над тем, как тот принялся кружиться, скакать и извиваться. Кружил, кружил гость да как заорет:
– А ты не видел ватаги моей и где она скрылась, притаилась?
«Фу ты, пропасти на тебя нет! – подумал про себя Андрей. – Значит, и верно я угадал. Варнак это с большой дороги. Может, атаман, по серьге видно. Оттого и разодетый».
Не по себе стало Андрею. Не боялся он, но не любил варнаков. Сторонился их, не по сердцу они ему были. Но опять же виду не показал и ответил:
– Ежели бы я знал, какой ты человек, не дал бы тебе камень от хвори. Лес-то широк, не изба – для любого гостя места хватит.
А гость, знай, песни орет и на месте кружится. Известно: «Середка сыта – концы говорят».
Глядел, глядел Андрей на гостя, да как рассердится, И так рассердился, что не вытерпел и тоже заорал на него. У самого в ушах зазвенело и глаза закрылись.
– Доколе ты тутотка изгибаться будешь? Не запугаешь все равно, варначино, хоть всю ватагу приведи!
А когда открыл глаза Андрей, гостя как не бывало.
– Убрался никак, – проворчал Андрей, выбирая место, где бы лечь спать. – Скоро утро, а я глаза не сомкнул. Пропасти нет на этих гостей.
Скореючи сдернул с себя азям, подостлал под себя, картузишко под голову положил на бревешко, которое лежало недалеко от костра, и захрапел.
Сколько он проспал, не помнил, только вдруг чует во сне, будто бревешко под ним шевелится. Проснулся аж Андрей. Поглядел кругом. Никого нет. Поворчал снова: дескать, не ночь, а целое представление – и опять заснул. Спит и вдругорядь чует, что бревно под ним не просто шевелится, а ходуном ходит.
Приподнялся Андрей и от страха обмер: перед ним, вернее, над ним здоровущая голова полоза качалась.
От костра его глаза будто огнем пышут и на Андрея уставились. Глаза то злые, то озорные – ну точь-в-точь как у гостя. Хотел Андрей подняться с земли и не смог. От страха ноги будто отнялись и все тело окаменело, а полоз все ближе и ближе…
Вот тут-то и заговорила горщицкая сила в Андрее. Не поддался он страху. Вскочил на ноги с земли – и как только у него получилось – вдруг сложил кукиш и полозу показал: на, мол, съешь! И будто этот кукиш весь страх с Андрея снял – кинулся он бежать, а как в поселок прибежал, то всех на ноги поднял.

Бегал и я полоза бить. Когда прибежали мы, недалеко отполз окаянный.
Ну и вправду есть отчего испугаться. Здоровущий был. Бревно бревном. В потемках-то не разглядел Андрей – лежит бревно и привалился парень.
Брякотни в поселке было – в десять мешков не сложишь. Больше всего мнение было одно: дескать, поначалу полоз мужиком оборотился. За Андрееву некорысть хотел ему тайность какую-то выдать, да Андреева усмешечка рассердила – вот и припугнул парня.
Может, сказки все это про мужика. Полоза-то я сам видал, нес потом, когда убили, а насчет мужика, может, Андрейка и прибавочку сделал, для пущей важности – дескать, сказка пострашней будет.
Ну, а напоследок я вот тебе что скажу. С чего начал, тем и кончу. Про дружбу Андрея с самим Ферсманом еще расскажу.
Вот, на-ка эту книгу возьми и почитай, что про брата Ферсман писал, – и дедушка Михаил достал с полки книгу, завернутую в пожелтевшую бумагу.
Бережно развернул ее, и я прочитала:
«– Видишь, смотри, – показывал мне горщик Лобачев кусочек редчайшего хиолита на Ильменской копи. – Вот видишь ты, тоненькая розовая полосочка, что лежит между шпатом и леденцом – это, значит, будет хиолит, по-вашему, а если нет полосы, то самый настоящий криолит. Он на зубах потверже, скользкий такой, как кусочек льда, а хиолит – тот рассыпчатый, хрустит под зубом.
А через несколько лет в прекрасном трактате одного датского минералога об ильменском криолите я нашел почти все эти описания мелочей строения камня, как разгадку одной тайны в горах Южного Урала.
Тончайшие наблюдения, достойные самых великих натуралистов, рождались в простой, бесхитростной душе горщика, всю жизнь, тяжелую и голодную, проведшего в горах и мокрых дудках…»
Так писал Александр Евгеньевич Ферсман об Андрее Лобачеве. Не зря, выходит, люди о нем много и светло помнят.
Вот и все. Только, как всегда, от себя я добавлю: думаю и даже вижу будто, что у одной из старых ильменских копей в заповеднике стоят два памятника рядом. Один академику Ферсману, а рядом с ним – Андрею Лобачеву.
ЗЕЛЕНАЯ ЯЩЕРКА
Про самоцветы и золото в старое время у нас, на Урале, много сказок, легенд и преданий люди сложили, а больше всего про тех, кто эти самоцветы добывал, кто в горах гнил, в земле рылся.
Вот в одной сказке и говорится: будто много лет назад на одном из приисков жил старатель один. Из солдат он был. Беднющий из бедных. Из себя неказистый, щупленький такой. Ходил все набочок, будто боялся, вот-вот его ударят. Звали мужика Климом, по прозвищу Кокушко; оттого его так прозвали, что голова у него была чисто скорлупа от яйца. Голенькая, только три волоска на вершинке.
А быть бы Климу в самой мужицкой поре. Четыре десятка годов над его головой прошумело, а он старик стариком казался. Вот они, двадцать-то годков царской службы, и согнули силу мужицкую. Как только выдюжил? Одним словом, был Клим молодец, да весь в солдатах остался. Так он про себя говорил: «Кудри и силу потерял, три волоска всего-навсего уцелело».
Ну, а когда со службы пришел, опять золото мыть принялся. Хотел было жениться, да куда там! Одни насмешки получались со сватанием. Поворот от ворот получал. Кто на такого обзарится? Вот и стал Клим горюном, а жизнь горюна кому сладка? На работе тоже не шибко ему фартило. Потому и говорил: «Золото моем, а голосом воем». А то по-другому скажет: «Золото мыл, да у ковшика дыра. Прямо в хозяйский карман она вела, а хозяйский карман, известно, без дна». Такая присказулька в народе жила.
Сколько ни жил Клим горюном, но все же женился. По себе вербу срубил. Маленькую, рябенькую вековуху с куренной работы взял. Аниской звали. Про нее люди так говорили: «Была молода – лес валила, стала стареть – по миру пошла». Лет тридцать было Аниске, когда Клим ее хозяйкой в свою избу привел.
Так и зажили два горюна: Клим да Аниска. Не пустовала их изба: один за другим пять птенцов в их гнезде закопошились. Один крепче другого ребята у них родились. Чисто репы с гряды. Холодом и голодом вскормленные. Белоголовые, будто с пуговками, вместо носов, они, как и отец с матерью, смешными такими были. Смешными росли, а вот соседи не могли на них нахвалиться. За то, что не балованными росли. Как мало-мальски подросли, помогать отцу принялись.
Избушка у Клима с Аниской тоже по хозяевам была. Покривилась вся, в землю вросла. А вот птицы всякой перелетной у них во дворе было полным-полно. Диво людей брало. Как, мол, так? Хозяева двора чуть не впроголодь живут, каждый кусок на примете, а птицы столько, будто зерно рассыпано в ограде. Вот и возьми ее птицу – не человек, а понимает: зерно клевать летит по чужим дворам, а ночевать да по зорям петь – домой в свое гнездо, на Кокушкин двор. Шутили часто над Климом: «Чем ты, Клим, птиц приворожил? Ишь, как по утрам поют!» Клим тоже шуткой людям отвечал: «Приходите и вы, не обидим!»
Многие приисковые любили Клима и Аниску за их безобидный нрав и доброту сердечную. Другой бы на их месте с ума сошел от такой оравы, а Клим только радовался, будто горе не брало его, что зимой у них одна пара пимов на пятерых, один тулупишко на двоих. И домотканые рубахи из холста.
Не любил Клим своими бедами трясти перед народом, оба с женой понимали, что у каждого соседа и своих бед хватает. Богатеньким же все равно. Не ныло у них сердце за чужую беду. На людском горе они свое счастье строили.
Так и жили Клим с Аниской – бедно, да честно. И вдруг пришла беда, отворяй ворота, а у них ворот-то не было. Прямо заходи! Шла как-то раз соседка одна мимо их огорода, а стояла самая летняя пора. Дождик прошел. Земли с горы много намыло. Свернула соседка в сторонку и вдруг увидала: на земле самородок лежал. Будто в снегу в кварце золото то сжелта, то сзелена поблескивало. Подняла бабочка самородок, домой, конечно, унесла. Там свекор и муж враз определили, что самый настоящий самородок был. Словом, дошло до хозяина прииска, а тому только дай! Как узнал он про самородок, тут же шахту бить на месте Климовой избы приказал.
И такое тут золото открылось, точно нарочно, в насмешку над Климом. С горя аж плакал мужик. Не от зависти, конечно, а от обиды, будто уходило золото от него, да и нужды прибавилось. Раньше хоть огородишко был небольшой, а тут, как выгнали их из избы, уходить на другой прииск в общую балагушу пришлось, совсем стало худо им.
Известно, балагуша. Ругань, драки – всего наглядишься, а когда у какой матери, бывало, заплачет дите, куда хошь с ним иди, а покой людям дай. Такой закон, хоть нигде не записанный был. Правда, молодайки, да побойчей и лицом помоложе, языком послаще свое место на нарах отстаивали. А где было безответной Аниске с языкатыми бабами аркаться!
Вот когда их выгнали из избы, последыш их еще в зыбке качался. На диво ревливым уродился. Только пришли раз мужики с работы, Анискиного парнишку ровно прорвало. Так забозлал, чуть не всей балагушей на Аниску все поднялись. «Выйди на улку! Сразу охлынет дите! Вишь какой дух чижолый! Не продохнешь!»
Нечего было делать Аниске, как завернуть младенца и пойти с ним на улку. Вышла она на крылечко, а уж темнеть стало. К осени дело подвигалось. Ненастье рано пришло, и темнеть начинало пораньше. Страшно ей в незнакомом месте показалось. Заплакала она с горя, а когда все слезы выплакала да к темноте пригляделась, вдруг зверушку какую-то заприметила. Вроде она светится. То подпрыгнет, то убежит вперед, то у ног Аниски потрется. Перестал плакать на руках у матери парнишка, можно бы и в балагушу пойти, да уж шибко заманила зверушка Аниску.
Чем дальше бежала зверушка, тем больше светилась. Не заметила Аниска, как и прииск прошла, лес уж начался. А зверушка бежит и все норовит к Черной горе бабу заманить.
На счастье Аниски, разорвал тучи ветер, от месяца совсем светло стало, даже Черная гора посветлела. Остановилась Аниска у самой горы и разглядела зверушку. Самая настоящая ящерка это была, а она то убежит, то искорками сверкнет.
Бегала, бегала ящерка возле анискиных ног да как вдруг подпрыгнет. Прыгнула раз, другой и из глаз пропала. Только будто что-то с нее упало. Вроде камешки сбрякали о землю.
Наклонилась Аниска к земле и ахнула: в траве на тропе два самоцвета лежали. Подняла Аниска камни и загляделась на них: как живые, они разными огоньками на свету переливались.
От радости не помнила себя Аниска: завернула камешки в тряпицу, что от платка оторвала, и домой скорее поспешила, благо, дите крепко спало у нее на руках.
Тихонько она зашла в балагушу, там уж все спали, только сосед старик на нарах кряхтел, да конюх Игнат собирался в конюшню поить лошадей.
Разбудила Аниска мужа, показала ему самоцветы, тот от радости аж побледнел, поскреб голый череп и сказал: «В тряпице бы так и спрятать подале».
Хорошо сказать – спрятать, а попробуй спрячь от людей такое диво. Один за другим поднялись люди, услыхав шепотки Клима и Аниски. Всем охота было на Анискин камень поглядеть. Словно в квашне тесто, рос ком вокруг счастливых в ту ночь Клима и Аниски. Кто ахал, кто головой качал при виде такого чуда-камней, а кто-то сказал: «Ну, солдат, привалило тебе счастье! Теперь избу новую поставишь, купишь сапоги (заветная мечта каждого мужика в те поры)». А один паренек заприметил, что по-разному играют камни. «Ишь ты, какой камешек! – сказал он. – Днем холостой, а вечером женатый. Днем одним светом горит, а ночью двумя отливает».
Так до солнышка и пролюбовались люди на Анискины камни…
В те годы говорили люди, что коротка была жизнь рабочего человека, а еще короче оказалось солдатское счастье. Только день да ночь полюбовались Клим с Аниской на дары земли уральской – редчайшие самоцветы, позднее названные александритами.
Если бы были похитрее Клим с Аниской, то, может быть, и спрятали камни, да опять доверчивость их подвела. На другой же день, под вечер, сам управитель из Екатеринбурга прикатил. Насулил Климу и Аниске горы золотые, увидав камни в Анискиной тряпице, а на деле – дали Климу пять рублей, а Аниске на платье ситцу приказал управитель отрезать. На том все и кончилось.
Много с той поры над Уралом ветров прошумело, когда Аниска самоцветы редкие нашла. Говорят, один только их последыш и выжил, глубоким стариком уж был, за Советскую власть пошел воевать…
Быльем поросли те места, где когда-то прииск стоял. На месте приисковой грязи и нищеты, да гнилых балагуш вырос белокаменный городок со светлыми школами и домами. А на самой высокой сопке Дворец культуры красуется. Часто он огнями сияет, когда народ в нем отдыхает.
В праздники или когда свадьбы бывают, будто еще веселей и светлей огни во дворце горят.
Недавно мне довелось там свадьбу увидать. Женился правнук Клима Кокушки, тоже Клим, демобилизованный воин – техник рудника. Женился он на учительнице местной школы.
Любопытно было глядеть: когда невеста наклонилась над столом, чтобы расписаться, на груди ее сверкнул чудесный александрит – подарок жениха.