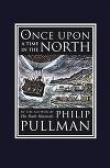Текст книги "Мечты о женщинах, красивых и так себе"
Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
UND
Китайская императрица By заняла председательское кресло на заседании Кабинета министров, приклеив фальшивую бороду. Лилия была почти такой же прекрасной, и роза почти такой же восхитительной, как Всесильное Божество – Императрица By.
– Цветите! – закричала она, обращаясь к пионам. – Цветите, черт бы вас драл!
Нет. Они даже не шелохнулись. Поэтому их истребили, вырвали с корнем во всех ее владениях и сожгли, а культуру их запретили.
Итак, добравшись аж до этого места, мы, как нам кажется, можем сделать нечто худшее, чем просто спустить со сворки, воспользуемся изящной фразой, грустных спаниелей и пустить их по следу. Мы не осмеливаемся, наш вкус, литературное cui bono [288]288
Кому это нужно? (лат.)
[Закрыть]не позволяет нам совершить внезапный скачок – princum-prancum! [289]289
В английском «Словаре вульгарного языка» (Dictionary of the Vulgar Tongue; 1811) «госпожа Princum– Prancum» определяется как «аккуратная, приятная в общении содержательница борделя».
[Закрыть]– из приятной земли Гессен, из германского сада, в болотный Дублин, в его малярийные небеса, и штормовые ветры и дожди и горести и лужицы небесных цветов; от симпатичной как поросенок Смеральдины, этой вздорной, бьющей через край, клиторидийной пуэллы, [290]290
От лат. puella – девушка.
[Закрыть]которая не имеет и отдаленнейшего понятия о том, как растопить свою ледяную баню, которую теперь пришло самое время отстранить, теперь к ней надо относиться с сильной неприязнью, как к остывшим свиным эскалопам, – к Альбе, Альбе, царственное имя, имя уменьшительное, Du, пыль голубиного сердца, глаза глаза черные как плагальный восток, еще не разрешившийся от длинной ночной фразы. Нет, так мы прыгать не можем, нужно устроить маленькое затишье, впустить в эту штуку немного свежего воздуха, сделать короткую передышку. Nik?
Что, если нам в этих целях сориентироваться на местности? Предположим, что, подобно настоящему горовосходителю, любителю женщин, своей трубки и вина, тяжелыми шагами входящему, гордый пионер, в тишину альпийской хижины, кладущему на пол ледоруб, рюкзак, тросы и иное оборудование, оборачивающемуся, чтобы окинуть взглядом пройденный путь и опытным глазом оценить труды и, конечно же, опасности, все еще ожидающие его на дороге к неразличимой, тонущей в снежной мгле вершине, мы, то есть, по единодушному согласию, я, остановились бы посреди предательских болот нашего рассказа, быстро осмотрелись, обдумали происшедшее и грозящее произойти и возобновили бы, с помощью Аполлона, это простодушное повествование в урезанных обстоятельствах? Что, если? Chi va piano, как говорится, va sano, а мы lontano. [291]291
Прибл.: тише едешь – дальше будешь (ит.).
[Закрыть]Возможно.
Место, почетное место нашим мальчикам и девочкам. Ах, эти лиу и лю! Как они держатся? Травки у них достаточно? Семья, Альба, Белый Медведь, дорогой друг Шас и, конечно, Немо, разгуливающий по мосту и вечно прицеливающий плевок, выглядят почти как новенькие, так мало их щипали, терзали и корежили, так мало по ним стучали молоточком. Увы, они нас подведут, они сделают все, чтобы оставаться самими собой, случись только призвать их к сколь-нибудь усердной службе. Пинг! – закричат они с глумливой ухмылкой, – это мы, что ли, чистые, вечные лиу? Так и скажут, уж позвольте не сомневаться. Впрочем, мы бесконечно далеки от того, чтобы сердиться на них за это. Но подумайте только, что произойдет в том случае, если мы не сумеем уговорить наших мальчиков и девочек высвистывать свои ноты. Вершина пронзает облака как нежданный цветок. Мы тут же отменяем спектакль, мы захлопываем книгу, она дает стрекача, отвратительно поджав хвост. Ткань распарывается, расходится на ниточки, ungebunden, [292]292
Непереплетенный, несвязанный (нем.).
[Закрыть]пряжа мечтательного рассказа. Музыка рассыпается. Повсюду летают ноты, циклон электронов. И все, что нам останется, если только к тому времени мы не слишком состаримся и не падем духом, это как можно скорее опустить занавес молчания.
В то же время мы вынуждены допустить, поместив себя на мгновение в толщу расхожего представления о двух сторонах всякой медали, что солдаты территориальной армии выполнят свой долг, то есть предоставят нам хоть бледное подобие кодетты. Пусть попробуют. Всем известно, что не стоит говорить pontem и fontem и gladium и jugulum, [293]293
Мосту, ручью, меч, горло (лат.).
[Закрыть]пока не перепрыгнешь. Однако неясно, какая связь между этим изречением и нашей надеждой увидеть, как военнослужащие дублинского контингента справляются с ролью приличных неделимостей. Дело в том, что мы им не верим. А почему не верим? Во-первых, из-за того, что уже произошло; во-вторых, и в этом подлинный ик! стержневой корень всего недоразумения, из-за опасной ипсиссимозности [294]294
Неологизм Беккета, от лат. ipsus – сам.
[Закрыть]нашего главного мальчика.
Следовательно, мы страстно желаем пространно, то есть в сжатой форме, порассуждать о двух этих вещах: во-первых, о лю, которые нас разочаровали; во-вторых, о Белакве, который вряд ли перестанет нас разочаровывать.
Означает ли это, что в первую очередь нам следует рассмотреть ту мощную оперную звезду, о которой мы столько слышали, – Смеральдину-Риму? Означает? Итак, для начала она явилась нам в дублинском издании, околдовавшем Белакву, нераскрытом издании, сотканном, так сказать, из видимой стороны Луны и климата: нетронутая маленькая камея птичьего лица, такого трогательного, и радостные зефиры Чистилища, скользящие по синему тремоло океана вместе с баркасом душ, которые и спасать-то незачем, к пристани, к заросшему камышом берегу, радужные, голубые зефиры, сливающиеся с травой, не без смеха и древней музыки Кин, восходящие полутонически, чуть не сказали диаполутонически, к подножию изумрудного остроконечного холма. Когда она уехала, уплыла по высоким волнам в Гессен, опять в Гессен, нимало не устыдившись, и оставила его горевать, безутешного, тогда ему стало грезиться ее лицо, и в облаках, и в огне, и куда бы он ни посмотрел, и на обратной стороне век, таким он был тогда неоперившимся, слезливым юнцом, грезиться во сне и наяву, в утренней дреме и в вечерней ditto, [295]295
То же самое (лат.).
[Закрыть]в грошовых видениях сияющего берега, к которому приткнется, где сядет на мель, где запутается в камышах их челн, при ярком свете и при звуках скорбных песен – тогда ее лицо и это место так истерзали бедного юношу, что он принял все меры, чтобы пересмотреть факты их отношений и направление зефиров, и так изгнал ее, к лучшему или худшему, из своих глаз и своего разума.
Затем, конечно, последовали Stuprum [296]296
Изнасилование (нем.).
[Закрыть]и противозаконная дефлорация, raptus, откровенно говоря, violentiae, [297]297
В католической доктрине различается два вида похищения женщины {raptus) – raptus violentiae (насильственное похищение) и raptus seductionis (похищение посредством соблазна). Здесь, разумеется, речь идет о «похищении» Белаквы Смеральдиной.
[Закрыть]и постыдная потасовка, возвращаться к которой у нас нет желания; тогда он, все еще работая кухонным мужиком надежды, взялся… хм… за дело серьезно, потому что ее любил или думал, что любил, а значит, считал, что самым верным поступком, его святым долгом в качестве грошового парнишки, самым целесообразным и достойным и т. д. действием будет переступить порог алькова с этой мощной дивой и попытаться сделать все, что в его силах.
Паулло пост, когда он решил, что было бы разумно признать себя побежденным, перед ним предстало ее третье издание, страницы неуклюже обрезаны и забрызганы самыми что ни на есть дурацкими сносками в духе его Бога, т. е. находящегося в ту минуту в обращении Белаквы Иисуса.
И так вплоть до последней сцены, хотя, разумеется, она и теперь пребывает в его ничтожном сердечке, удобный термин для обозначения могильника опасных отходов, во всех четырех изданиях и во многих других версиях, не представленных здесь потому, что они нам надоели; до последней сцены, где они расходятся – вжик! – как расходятся при столкновении тела, наделенные высоким коэффициентом упругости. Вжжиик!
Ну что это за лю? Как ее можно воспринимать в качестве лю? Утверждаем, что к этой идее мы относимся крайне отрицательно. Содержится ли в ней хотя бы полуслизанная тень ноты, на которую можно было бы положиться хотя бы на минуту? Содержится? Может быть. Несомненно, великий мастер сумел бы выдавить из нее какой-нибудь злобный клекот, некое подобие звука, способное ее выразить. Но мы, мы не можем этим заниматься. Одно дело – почтенный обертон, другое дело – врывающийся в нашу мелодию безответственный клекот. Она вольна заткнуть свою глотку и убираться со сцены к чертовой матери, навсегда. Может делать все, что ей заблагорассудится. Нам она не нужна.
Голос Грока: Nicht mooddgliccchhh…! [298]298
Не могу! (нем.).
[Закрыть]
То же и с остальными – Либером, Люсьеном, Сира-Кузой, Мамочкой и Мандарином. Мамочка, которая, кстати, еще может понадобиться нам для tableau mourant, [299]299
Мертвой картины (φρ.). Ср.: Tableau vivant – живая картина.
[Закрыть]была лучшей из них. Ее письмо и негромкий взрыв гнева в ночь Сильвестра хорошо подогнаны, они создают настроение ожидаемой монотонности. Причина же в том, что, по правде, мы никогда на нее не срывались, мы никогда, по большому счету, не призывали ее на службу. То есть, в некотором смысле, она находится в том же положении, что и Альба и компания, ей почти не довелось быть самой собой. Последнее не мешает нам думать, учитывая некие малоизвестные сведения, которыми мы располагаем в отношении этой дружелюбной мультипары (сведения, удивляющие даже нас самих, несмотря на всю нашу закалку), что, даже если мы вбросим ее в игру в интересах финальной сцены, она не жалея сил будет способствовать общему умножению тканей. Мы придерживаемся такого мнения. Так или иначе, оставим ее в покое, на время.
Случай с Либером (ну и имя!) самоочевиден и не заслуживает особого рассмотрения. Разве не женили мы его на профессорской дочке? Requiescat. [300]300
Да покоится в мире (лат.).
[Закрыть]
(Вопрос: почему у профессоров кишка тонка иметь сыновей? Прояснить.)
Мы думали, что избавились от Сира-Кузы. Но здесь, внизу, дорогу не выстлать скатертью, здесь невозможно никого спровадить, по-хорошему или по-плохому. Не осмеливаясь опровергнуть ее формально, позвольте быстро сослаться на некое малозначительное обстоятельство, просто чтобы пощекотать себе глотку. В течение долгого времени она целыми днями не выходила на улицу, она сидела взаперти в своей спальне. И чем же она занималась? Теперь держитесь. Она занималась абстрактной живописью! Отец небесный! Абстрактной живописью! Ну что вы на это скажете?
Было бы полнейшей глупостью считать, что роль одного из лиу способен исполнить Люсьен. Никогда еще мы не встречали человека – мужчину, женщину или ребенка, – так мало заинтересованного в бытие, как наш храбрый Люсьен. Он был тождествен тигелю выпаривания (браво!), ежеминутному выветриванию пород, его очертания пребывали в состоянии вечной эрозии. Поразительно. Вглядываясь в его лицо, вы видели, как черты истончаются, покрываясь налетом, точно на портрете брата Рембрандта. (Памятка: развить.) Его лицо настигало вас как волна, рассыпаясь, разлетаясь на брызги, вторгаясь в воздух, красное зияние плоти. Вы тщетно пытались от него отказаться. Иисусе, думали вы, оно хочет раствориться. А еще его жесты, тошнотворные жесты пухлых ручонок, и пышные слова, и улыбка, точно шевелящиеся водоросли, и вся его личность, сворачивающаяся и разворачивающаяся и раскрывающаяся бутоном пустоты, рагу из крушения и скоротечности. И это, несмотря на чудо логической связности, которое он производил при каждом появлении. Как он удерживал себя от распада – остается тайной. По всем законам он обязан был развалиться на куски, превратиться в водяную взвесь. Он рассыхался как антикварная вещица.
Этот зашифрованный abrege [301]301
Конспект, краткое изложение содержания (фр.).
[Закрыть]словно свидетельствует о том, что (если только в нашем бреде нет серьезного изъяна) книга вырождается в разновидность комедии дель арте, а это литературный жанр, против которого мы возражаем особенно. Лиу и лю делают, что их душе угодно, просто наслаждаются жизнью. Они отцветают и влезают во всевозможные недозволенные ультра и инфра и над и под. А это плохо, так как покуда они это делают, они не способны встретиться. Мы боимся простых аккордов. Белаква медленно дрейфует, это правда, изо всех сил стараясь сгустить мелодию, но собственно гармоническая композиция, глубинная музыка, в значительной степени остается, ужасно, что мы вынуждены это признать, ausgeschlossen. [302]302
Исключенной, невозможной (нем.).
[Закрыть]
Напр.: не так давно мы чуть не поддались искушению заставить Сира-Кузу заставить Люсьена стать отцом. То был очень сомнительный план. Если новая жизнь в этом случае, то есть в случае Сира-Кузы и Люсьена, может зародиться в результате коллизии, все прекрасно. Коллизию всегда можно устроить. Мы, следует надеяться, еще не пали так низко, чтобы быть не в состоянии устроить коллизию. Но как это возможно? Как новая жизнь может зародиться иначе чем вследствие гармоничного течения чудовищного неправдоподобия? Мы слишком быстро устаем, мы недостаточно Deus и недостаточно ex machina, чтобы вовлекаться в эти гиперболические прикрасы, лишенные доблести настолько же, насколько они лишены ценности.
То же и с остальными привлекательными комбинациями. Мы не смеем создавать дуэты, еще менее мы способны расправить крылья для полноценного тутти. Мы только бродим впотьмах или посылаем бродить впотьмах Белакву, надеясь, что он залатает тут и там прохудившуюся мелодию.
Памятуя о несговорчивости наших новобранцев до сего времени, следует ли удивляться, что нам не удается вообразить без угрызений совести (как редко мы возвращаемся домой без этого!) неминуемый выход на сцену их главного, так сказать, коллеги? Все, что необходимо для придания роману унылого правдоподобия, так нам кажется, – это богатая галерея Шенелей и Бирото и Октавов и манцониевских суженых, [303]303
Шенель – персонаж романа Оноре де Бальзака «Музей древностей» (1838); Октав де Маливер – герой романа Стендаля «Арманс» (1827); «суженые», т. е. герои романа Алессандро Манцони «Обрученные» (1827).
[Закрыть]имена которых мы позабыли, и иных подобных типов, без колебаний тянущих свою лямку от обложки к обложке, с похвальной симметрией, знаете ли, возвращающихся в прах, из которого они восстали или, пожалуй удачнее, были насильно извлечены. А в нашем мешке с игрушками ни единого Шенеля! (Вы знаете Шенеля, одна из бальзаковских антикварных вещиц.)
Даже наши спаниели повеселели.
Далее, в интересах сей девственной летописи мы, как оказывается, вынуждены продраться через безжалостные заросли, настоящую чащу, настолько же густую, упрямую и нетерпимую, как и та, с которой мы столкнулись некоторое время назад, у входа, если вы помните, в черный вьюжный коридор, и нам тем более тяжело и неприятно вгрызаться в нее, если учесть, что чаща застала нас у самой опушки. Следовательно, нам предстоит, ни больше ни меньше, пронзить тени и сплетения поступков Белаквы. При этом мы просим Общество книголюбов засвидетельствовать, что, несмотря на предстоящий поход, мы не собираемся признавать себя побежденными. Разум повелевает разумом, и он повинуется. Ах, miracle d'amour. [304]304
Чудо любви (фр.).
[Закрыть]
Многое из того, что было сказано в отношении нежелания наших непокорных слагаемых вступать в связь и радовать нас синтезом, справедливо и применительно к Белакве. Их движение основано на принципе отталкивания, их свойстве не сочетаться, но, подобно небесным телам, рассредоточиваться, бросаться врассыпную, астральные соломинки на временной шкале, песок в мистрале. И не только избегать всею, что не есть они, всего, что вовне и что, в свою очередь, избегает их, но и рваться прочь от самих себя. Они бесполезны с точки зрения строителя, во-первых, потому, что они не потерпят, чтобы их системы были поглощены большей системой, и, главным образом, потому, что сами они как системы тяготеют к исчезновению. Их центр истощается, их побег от центра невозможно опровергнуть, еще немного – и они взорвутся. Далее, чтобы еще более запутать дело, им присущи странные периоды recueillement, [305]305
Сосредоточения, собранности (фр.).
[Закрыть]некая разновидность центростремительного обратного потока, сдерживающего распад. Образ действия, представляющийся нам ложным, Бальзака, например, или божественной Джейн [306]306
Подразумевается английская писательница Джейн Остен (1775–1817).
[Закрыть]и многих других, состоит в исследовании злоключений или отсутствия злоключений у персонажа, помещенного в этот самый обратный поток, как если бы в этом состоял весь рассказ. В то время как в действительности такой образ действия настолько мало соотносится с рассказом, этот нервический откат в самообладание так мало связан с рассказом, что автор поистине должен быть ярым приверженцем принципа абсолютной точности, чтобы вообще на него ссылаться. Так предмету, искусственным образом обездвиженному в обратном потоке самообладания, может быть присвоено точное значение. Все, что остается сделать романисту, – это подчинить себе персонажей колдовством, пункт за пунктом, и осторожно жонглировать неоспоримыми ценностями, ценностями, которые способны поглотить иные, похожие ценности или, напротив, быть поглощенными ими, которые могут нарастать или уменьшаться в силу нереального постоянства того или иного качества. Читать Бальзака все равно что созерцать хлороформированный мир. Он – абсолютный повелитель своих персонажей, он может делать с ними, что душе угодно, он способен предугадать и просчитать малейшую превратность судьбы, он может написать конец книги до того, как закончен первый абзац, ибо все свои создания он обратил в заводных патиссонов, а значит, вправе ожидать, что они останутся в предназначенном им месте или будут двигаться с определенной скоростью в заданном направлении. Вся штука, от начала до конца, происходит в обратном развитии, повинуясь колдовским чарам. Все мы любим и облизываем Бальзака, мы готовы выхлебать его до конца и сказать, что это восхитительно, но зачем называть дистиллят Евклида и Перро Сценами жизни? Почему человеческаякомедия?
Почему что-то? Зачем тревожиться об этом? На это уходит наша драгоценная бумага.
Значительная часть вышеприведенных маргиналий охватывает Белакву, или, точнее: Белаква отчасти охватывается вышеприведенными маргиналиями.
В своей простейшей форме он был триедин. Только подумайте. Триединый человек! Центростремительный, центробежный и… не. Феб, преследующий Дафну, Нарцисс, бегущий от Эхо, и… ни тот, ни другой. Ну что, разве не ясно? Скачки с препятствиями в Вену, побег в Париж, тяжелое соскальзывание в Фульду, возвращение в Дублин и… чертовская невосприимчивость к путешествиям и городам. Рука, протянутая Люсьену и Либеру и Сира-Кузе и отнятая, протянутая вновь и вновь отнятая и… руки забыты. Точечки симпатичные, правда? Триедин. Ессьсэр. В экстренных случаях, например, когда Сира-Куза стала святой или когда Смеральдина-Дафна, дабы он мог располагать ею согласно своему Богу, превратилась в Смеральдину-Эхо, два первых лица могли позабыть о своих различиях, два противоположных интереса могли вдруг совпасть, левое и правое крылья срастались, чтобы начать полет. Та же грязная сумятица и утрата потребностей сопутствовали ему, когда волшебной палочкой он обращал ее в волшебную птицу, обращал кого, черт его знает кого, кого-нибудь, и запускал в нее стихотворением, опускаясь на дно, чтобы скорее выплыть. Почти что reculer pour mieux enculer. [307]307
Непристойное переиначивание французской пословицы: Reculer pour mieux sauter – попасть из огня да в полымя. Enculer – содомить, заниматься содомией.
[Закрыть]
Грязная путаница. Она смердит в его памяти как огарок алтарной свечи.
Третье естество было черной бездной, карьером, откуда изгнано сияние воли и несмолкающие молоточки разума, где замогильное утробовещание, где Лимб оживляют только безмятежные духи неспешных размышлений, где нет конфликта между полетом и течением, где Эрос так же недейственен, как и Антэрос, и где у Ночи нет дочерей. Он утопал в лености, лишенный личности, невосприимчивый к ее толчкам и уколам. Города, и леса, и твари также были лишены личности, они были тенями, они не производили ни толчков, ни уколов. Его третье естество было без оси или контуров, с центром везде и окружностью нигде, оно было не нанесенным на карту болотом праздности.
Нет веских причин полагать, что этот третий Белаква был истинным Белаквой в большей степени, чем Сира-Куза абстрактной живописи – истинной Сира-Кузой. Истинного Белаквы, следует надеяться, не существует, нет такого человека. С уверенностью можно сказать только то, что, насколько он способен судить, освобождение, через трясину равнодушия и безучастности, от личности, собственной и своего ближнего, соответствует его несносному характеру гораздо больше, чем безотрадное фиаско маятниковых колебаний, представляющееся единственной альтернативой. Он сожалеет лишь о том, что это не происходит чаще, что он не погружается в болото более часто. Ему намного приятнее быть совершенно закутанным в черную шпалеру лености, нежели вынужденно ее разворачивать, ткать на ней замысловатые спирали, взлетающие и снижающиеся подобно ангелочкам, которые никогда не успокоятся, никогда не затихнут, никогда ни на что не решатся. Сидел ли он на корточках в глубине мастерской, с великим тщанием ваяя и вытачивая шейки и завитки лютен и цитр, сносил ли, стоя в дверях, насмешки знаменитых поэтов, выходил ли на улицу, чтобы чуть-чуть попеть или потанцевать (aliquando etiam pulsabat), [308]308
Изредка даже звонил в колокольчик (лат.).
[Закрыть]он всегда обманывал присущую ему леность, отказывал донной волне своей лености, сторонился ее, отвергал мысли о погружении и самоупразднении. Но изредка, когда его все-таки увлекало в благословенно хмурые глубины, ниже и ниже, в слякоть ангелов, свободную от мошеннических приливов и отливов, тогда он знал, но знал задним умом, понимал это, только когда разъяренные ныряльщики вытаскивали его, как краба, подыхать на солнце, что, будь он свободен, он бы поселился в этом месте. Никак не меньше! Будь он свободен, он бы поселился в этом занятном месте, обосновался бы там, ушел в отставку и водворился там подобно Лафонтенову чудищу.
Простите, что упоминаем это здесь, но нам вдруг пришло в голову, что истинная проблема бодрствования заключается в том, чтобы побыстрее заснуть. Простите, что упоминаем это здесь.
В этой Киммерии без сна уничтожены были и Нарцисс, и Феб (здесь это только имена, ведь сойдут любые, всего лишь качания маятника), и весь их ультрафиолет. Иногда, утонувший и затемненный, он говорит, что «погрузился в свое сердце»; иной раз – «sedendo etquiescendo» [309]309
В сидении и покое (лат.). Ср. лат. изречение: Si dendo et quiescendo fit anima prudens – В тишине и покое душа обретает мудрость.
[Закрыть]с ударением на et и без упоминания мудрости. Сидя на корточках в глубине своей мастерской, он не был в покое. Челлиниевскими мазками вытачивая искусные завитки, он был открыт для колкостей беспокойных поэтов. Если сидеть – означает быть мудрым, то нет человека мудрее тебя. [310]310
С этими словами, согласно комментатору Данте Бенвенуто да Имола, поэт обратился к Белакве, однако в «Божественной комедии» таких слов нет.
[Закрыть]Такие вот пошловатые шуточки.
Однако несчастный Белаква не был свободен и, следовательно, не мог по собственной воле погрузиться в собственное сердце, не мог возжелать и получить искомое в пивной свободной воли. Он, как дурак, был убежден, что в желаемое и столь необходимое ему состояние можно прийти по прихоти, и со всей изобретательностью пускался в эксперименты. Он не останавливался ни перед чем. Он научил свой крохотный ум задерживать дыхание, он заключал разнообразнейшие заветы со своими чувствами, он тщился закрыть веки своего разума, не смотреть на пламенеющие безделушки, всеми воображаемыми способами он истязал свою ценестезию, надеясь облечься в утробу, изгнать безделушки и соскоблить сознание. Он научился костяшками выдавливать из глазных яблок потоки фиолетового, ничком, обернутый в собственную кожу, он лежал на кровати, изо всех сил вжимая лицо в подушку, всем жалким весом своей инерции стремясь добраться до центра земли, час за часом ожидая, пока сам он и окружающие его вещи не начнут опускаться, тяжело и мягко опускаться сквозь тьму – он, и кровать, и комната, и мир. Все впустую. В желании троглодировать себя он был нелеп, хуже чем нелеп. Отключить внутреннее сияние, усилием воли подавить бюрократический разум было невозможно. Глупо было бы предполагать, что он мог сотворить из себя Лимб, мог погрузиться в замогильность, более чем глупо. Стремясь придать произволению свойства механизма, он был повинен в не менее отвратительной путанице, чем при попытке прорваться через себя в облако, когда, к его печали, он хотел это сделать. Как отринуть волю усилием воли? Как утихомирить ум посредством судорог отвращения? Постыдная блевотина – его удел. Ему суждено оставаться, при всем ловкачестве и огромных потугах, птицей, или рыбой, или, того хуже, ужасной промежуточной тварью, подводной птицей, хлопающей крыльями в толще воды. Желание и отсутствие желания не могут совершить самоубийство, они несвободны совершить самоубийство. Тут несчастный Белаква и сходит с рельсов. И несчастье его в том, что он пытается найти способ, благодаря которому желание и отсутствие желания могли бы совершить самоубийство, и отказывается понять, что они не могут этого сделать, что они несвободны сделать это. Последнее не хуже и не лучше чего-нибудь другого сгодится для того, чтобы объяснить, ведь здесь, внизу, всегда необходимо что-то объяснять, почему настроение Белаквы было, как правило, скверным, а характер – сатурническим. Он помнит щедрый милосердный блаженный туннель и не может туда вернуться. Никогда в жизни. Он ерзает и шаркает и суетится, страшно нахмуривившись, он выводит небрежные спирали на «belle face carree», [311]311
Красивом квадратном лице (фр.).
[Закрыть]вместо того чтобы просто ждать, когда это произойдет. И мы ничего не можем для него сделать. Как вообще можно помочь людям, разве только если они просят вас затянуть потуже корсет или положить им на тарелку добавки, а потом еще немного?
Говоря по правде, такие персонажи и демиург вселяют в нас тревогу. Белакву невозможно запечатлеть, его, как и остальных, не получится поместить в обратный поток. Просто он оказался не таким.Кубическим неизвестным его представили только ради удобства. В простейшей форме триедин, мы взяли на себя труд сказать, чтобы спасти свою шкуру, спасти свое лицо. Три значения – Аполлон, Нарцисс и аноним третьего лица – удовлетворят его не больше и не меньше, чем пятьдесят или любое другое количество значений. А если бы и удовлетворили, это было бы слабым утешением. Ибо что они сами по себе – Аполлон, Нарцисс и недоступный обитатель Лимба? Может быть, они – это они и есть? Ни черта подобного! Можем ли мы измерить их раз и навсегда или сложить из них суммы подобно проходимцам, именующим себя математиками? Не можем. Мы можем расположить их как последовательность членов, но мы не в силах сложить или определить их. Они растворяются в дымке на обоих концах уравнения, а интервалы между рядами лишились рассудка. Мы предлагаем вам одну грань Аполлона: он преследует сучку, обычную сучку. И одну грань Нарцисса: он убегает от сучки. Однако мы приняли все меры предосторожности, чтобы не упоминать пастуха, или возничего, или врачевателя, или плакальщика, или стрельца, или играющего на лире, или мясника, или орла; и все меры предосторожности, чтобы не упоминать охотника, или насмешника, или мальчишку – воющего вослед товарищам, или рыдающего, или влюбленного, или испытывающего стигийское зеркало. А все потому, что это нам не подходит и не веселит нас, и еще потому, что текст этого не требует. Но ежели случится так, что текст заявит о необходимости иной грани, другого Аполлона, или другого Нарцисса, или другого замогильно утробовещающего духа, и если таковое требование подойдет нам и развеселит нас (в противном случае текст волен взывать к нам до посинения), тогда пожалуйста. Так понемножку Белакву можно будет описать, но не очертить; члены его ряда будут определены, но не суммированы. Но да будет воля Божья, если вдруг одно определение упразднит другое или же определения заблудятся в безумных абзацных отступах. Его воля, наша – никогда.
Ну надо же, Белаква – и вдруг такая солянка! Что-то еще можно спасти от кораблекрушения, если только он будет так добр, чтобы остановить свой маятник и жить как лю – на широкую ногу. Но он не станет. Вот все, что мы могли бы сделать, чтобы не впасть в панику, думая об этом несоразмерном демиурге. Нам, конечно, необходим камертон, готовый стоять до конца, то есть до судорожной кодетты, готовый вторгнуться в толпу предательских лиу и лю и выстроить их по струнке. Вот что мы называем жить как лю – на широкую ногу. Нам нужен кто-то вроде Ватсона, или Фигаро, или Бледноликой Джен, или мисс флайт, или Пио Гоффредо, [312]312
Бледноликая Джен – персонаж романа Бальзака «Ван-Клор», мисс Флайт – персонаж романа Диккенса «Холодный дом», Пио Гоффредо – герой поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».
[Закрыть]кто-то, на кого можно рассчитывать, кто-то готовый испустить, один только раз, один только пронзительный звук, пинг! именно так, правильный крик в нужном месте, только один чистый постоянный лиу или лю, пол не имеет значения, и все еще может наладиться. Только один, только один шарлатан с камертоном, пробирающийся сквозь ноты, сортирующий их по величине, успокаивающий их и сцепляющий их в некую славную маленькую кантилену, а затем объединяющий их донной волной canto fermo. [313]313
Хорал (ит.).
[Закрыть]Мы выбрали для этой работы Белакву, а теперь поняли, что он для нее не годится. Он в повидле. Как и его ноги.
Вряд ли было бы преувеличением утверждать, что две дюжины букв производят в словах различных языков разнообразие не большее, чем разнообразие, порождаемое днями и ночами этого безнадежного человека. Однако, при всем его разнообразии, он ничего не олицетворял. Биографический портрет, написанный с него Саллюстием, состоял бы из ужасающих трюизмов.
Теми, кто знал ею, теми, кто любил его, и теми, кто его ненавидел, он не был забыт. Те, которые, при необходимости, могли бы не задумываясь соотнести его с неким мысленным образом, но редко с ним встречались, те, для которых он оставался преимущественно человеком ничем не примечательным, не пренебрегали им. Его фатальным образом узнавали или, наоборот, умышленно не замечали на улице, столь мало в нем было многосторонности, несмотря на разнообразие его дней и ночей. Шляпы друзей приветственно взлетали при его появлении, их руки вскидывались вверх, и очень часто, в большинстве случаев, ковыляя, пригнувшись к земле, или внезапно скрываясь в магазинах, за спасительными витринами, он не отвечал на приветствие, спешил пройти мимо, очень важно было пройти мимо, не останавливаясь, даже если человек был хороший; а бывало и наоборот, когда знавшие его люди невежливо переходили на другую сторону улицы, точно фарисеи, или же, завидя, что бедственная встреча неминуема, надевали маску озабоченности и спешили мимо с абсолютно отрешенным лицом или же, обращаясь к спутнику, рьяно пускались в объяснения какого – то мудреного вопроса, если, конечно, по счастливой случайности, они шли по улице вдвоем. Любопытно также и то, что никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах он не представлял ни малейшего интереса для низших по положению. Нет, тут мы не правы, бывали и исключения, в особенности одно, очаровательное исключение. Однако мы не сильно погрешим против истины, заметив, что изо дня в день, из года в год он мог в один и тот же час входить в один и тот же магазин за какой-нибудь пустячной необходимой покупкой, он мог принимать чашку кофе в один и тот же час в том же самом кафе из рук одного и того же официанта, хранить верность какому-то одному киоску, где он покупал газету, и одному торговцу табаком, у которого покупал табак, он мог с завидным постоянством обедать в одном и том же ресторане и выпивать обычный бокал до и после обеда в одном и том же баре, и ни разу не удостоиться и малейшего знака одобрения за свое усердие, ни улыбки, ни доброго слова, ни чуточки повышенного внимания, скажем, слоя масла на сандвиче чуть более толстого, чем обычно выпадает на долю случайного клиента, или чуть более щедрой порции Кюрасао в аперитиве. Казалось, что он обречен не оставить в народной памяти никакого следа. Ну не удивительно, что его изгнали из круга завсегдатаев, лишили законных, казалось бы, привилегий? У людей он не имел успеха и поэтому глубоко страдал. Покупка марки, или книжечки трамвайных билетов, или книги на набережной или в магазине неизменно сопровождалась, несмотря на смиренность, робость, почти нежность его манер, неприятным столкновением с продавцом. Тогда он приходил в ярость, его лицо багровело. Об отправке бандероли не могло быть и речи. Предъявить в банке даже полностью обеспеченный чек оборачивалось сущей пыткой.