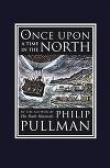Текст книги "Мечты о женщинах, красивых и так себе"
Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
– Ваш друг, – объяснили они, одобрив грязно-коричневые штаны Белаквы, – нам подходит. Вы – нет. Вы должны уйти.
Белаква выпятил живот. Образцовый вагнерит в гольфах, которого не взяли на конную прогулку!
– Надень мои, – упрашивал он, – а я возьму твои. Пойдем переоденемся в «Бьярде», через дорогу. Я не горю идти в оперу.
Он стоял в вестибюле Национальной академии музыки и живо предлагал задыхающемуся от гнева Либеру свои многоуважаемые брюки. Напрасно он умолял Либера взять его брюки, напрасно говорил, что они в его исключительном распоряжении на весь оставшийся вечер, что он может делать с ними все что заблагорассудится. Нет, отказывался тот, ни в коем случае. Кто вообще этот Вагнер?
– Кто такой Вагнер? – сказал Белаква.
– Вот именно, – раздраженно отвечал Либер, – кто он вообще такой?
– Он – ревущая Мег, [67]67
Вероятно, имеется в виду знаменитая пушка времен Английской гражданской войны XVII в.
[Закрыть]– сказал Белаква, – которая изгоняет меланхолию.
И не на бордели…
Что, поистине, вводит нас в очень чувствительную область и требует разъяснений сложных и деликатных, избежать которых, увы, не удастся. Prima facie [68]68
С первого взгляда (лат.).
[Закрыть]это нас шокирует. Мы поместили нашего главного мальчика в это веселое место и при этом настаиваем, чтобы он избегал местных борделей. Для начала это шокирует. И мы страшно боимся, как бы все течение его жизни в этот период, когда мы займемся соответствующим описанием и попытаемся елико возможно сдержанно и мягко, сообразно предоставленным нам привилегиям, поведать вам о мотивах, принуждавших его к неким заключениям и действиям, которые позволяли ему очень успешно, ох успешно и преотлично, уклоняться от этих превосходных учреждений удовольствия и гигиены, мы страшно боимся, сказали мы так давно, так давно, что недурно было бы повторить это вновь, как бы его поведение показалось не просто шокирующим, но положительно choquant. [69]69
Здесь: оскорбительно грубым (фр.).
[Закрыть]
Теперь по-быстрому, и смелее, и с краткой молитвой взывая к вашей серьезности, хотя бы на несколько минут, мы дрожащим голосом выдавливаем из себя очень сомнительное утверждение:
Любовь потворствует… нарциссизму.
Мы выжидаем, мы умоляем вас не придавать значения терминологии, не гневаться из-за терминологии, и, трепеща, возвышаем это утверждение на самую чуточку:
Любовь требует нарциссизма.
Не судите слишком строго, выслушайте нас до конца. Не позволяйте словам распалить вас. Никто не знает лучше нас, что в обнаженном виде они отвратительны. Следовательно, мы опускаемся на все наши колени, начиная с правого, мы склоняемся в смиреннейшем поклоне и из глубины этой почтительной позы множественного коленопреклонения умоляем вас не выходить из себя, повременить с обвинениями. По сути, мы просим вашей серьезности. Мы полагаем, что нас окружает атмосфера серьезности. Нам вовсе не хочется вас убеждать, но мы стремимся вас уговорить. Однако какая серьезность, как бы нам того ни хотелось, устоит против обобщений, против западного быка с его предсмертным ревом? Если б только вы могли временно, до окончания упражнения, смириться с умышленным credo quia absurdum, ut intelligam [70]70
Верую, потому что абсурдно, чтобы понять (лат.). Контаминация изречений христианских философов Тертуллиана («Верую, потому что невозможно») и св. Ансельма Кентерберийского («Верую, чтобы понять»).
[Закрыть]наши щеки были бы избавлены от краски смущения, а наши губы – от коварных слов. Если же мы сможем положиться на вас, (а вы) прекратите военные действия хотя бы на один абзац (один в целой книге, разве это непомерно?) и откажетесь от своих прав на развлечения, тогда мы тоже сможем разоружиться и сказать то, что должны сказать, ибо это должно быть сказано, per fas et nefas, [71]71
Всеми правдами и неправдами (лат.).
[Закрыть]как сказано, мы не имеем представления, не смеем об этом думать, во всяком случае учтиво, и, насколько касается нас, без стилистических изысков. Какое все-таки унизительное для нашего достоинства вступление, но дело в том, что мы нервничаем как кот в мешке. И еще одна просьба: верьте нам, когда мы говорим, что, когда мы сказали, резко и без церемоний, набравшись смелости, не ступая, но врезаясь в воду – Любовь требует нарциссизма, мы имели в виду, что, в известном случае, в его несомненно изолированном случае, определенное качество любви (согласно его понятию и опыту, только его, из всех любивших, если вам угодно так думать, не в наших интересах это отрицать) подразумевает определенную же систему нарциссистских маневров. Вот все, что мы имели в виду. Только это. Таково корчащееся утверждение, от произнесения которого мы бы охотно отказались, смиренное утверждение, которое теперь, если только вы будете так любезны притушить свет, мы готовы внести на рассмотрение.
Вообразите его, любящего Смеральдину-Риму и на полконтинента удаленного от аромата и звука ее дыхания. Ах, несмотря на дефлорацию в Дункельбрау, любящего Смеральдину-Риму. Разлука усиливает любовь, справедливая поговорка. Но усиливает по-своему, согласно его Богу, как он и грозился. Hoc posito, [72]72
Таким образом (лат.).
[Закрыть]как могло бы умеренное потребление борделя, согласно его системе отсчета, к каковой системе, естественно, только и можно прибегнуть в рамках данного абзаца, хоть в малейшей степени нанести оскорбление чувству, которое он питал к далекому цветку, а также музыке, свету, благоуханию, сути и самовосприятию его внутреннего человека? Но: внутренний человек, его голод, тьма и молчание, оставались ли они совершенно за стенами борделя, не участвовали ли они хоть в малости в темном приобщении борделя? Не оставались и участвовали. Еще раз: не оставались и участвовали. После акта, в святилище, само возникновение которого зависело от нее и от мыслей о ней, умилостивление которого было связано с ней или со страстными мыслями, туда входили мир и сияние, пир музыки. Это было так. Она переставала быть невестой его души. Она просто угасала. Ибо его душа, по определению, имела столько же невест, сколько его тело. Чудо осуществления, которое соотносилось и приписывалось ей, исключительно ей, ее колдовской дар душе, реальный и идеальный, вокруг которого вращалась вся его поглощенность ею, разрушение которого, будь таковое мыслимо, неминуемо привело бы к краху этой поглощенности, так вот это чудо и этот колдовской дар – разлученные с ней и с мыслями о ней, могли быть с легкостью найдены у ближайшего красного фонаря. Это было так. Беатриче таилась в каждом борделе. По окончании обычного поставщик обычного пуст, как раньше, начиналось новое излияние, в засушливое святилище струился другой ручей, милосердная сила и добродетель, щедрая река. Всегда и только после обычного и поставщика обычного, обусловленная ими и затопляющая их, помойку обычного и кочерыжки секса, уничтожающая их, только тогда, в конце, когда приходила пора подниматься и идти, проливалась внутренняя река. И не только помойку обычного и кочерыжки, но и саму Смеральдину-Риму, ее непроницаемую единичность и ее исключительное положение как дарительницы. Так обстояло дело. Цветок – не то чтобы в его воображении или с точки зрения собственной личности она имела какое-то отношение к растительному царству, но только антитезы ради – благодаря этому странному истечению цветок восставал из помойки рекой и затоплял ее, а затем исчезал вместе с кочерыжками. Это было нехорошо. Поэтому он воздерживался в то время от посещения домов терпимости. Было невыносимо, что она рассыпается на вереницу шлюх только потому, что он, заклейменный проклятием престранной ассимиляции, безумной, не повинующейся приказам гидравлики, считал себя обязанным извлечь из бляди то, что не было блядским, или же, наоборот, обратить ее в феод Смеральдины-Римы, которая, как ему тогда казалось, должна была или оставаться единой и неделимой, или исчезнуть полностью, превратиться в пустое место. И еще более невыносимым было то, что он уже столкнулся с ее расщеплением если не на множественную шлюху, то, по крайней мере, на простую шлюху. Единой и неделимой. Дуралей на этом настаивает. Нетленной, неуязвимой, неизменной. Она есть, она существует в одном и том же измерении, она во всем она сама, ее невозможно ранить или изменить, она неподвластна времени, она не может быть одной в данную минуту, а другой – в следующую минуту. Это – или ничто. Шлюха и парад шлюх. Он облеплял несчастную девушку плеромой. [73]73
Плерома (от греч. полнота) – в учении христианского гностицизма «полнота бытия».
[Закрыть]А потом ему никак не удавалось удержать плерому на месте. Он тащил ее такой, разукрашенной, вопреки самому себе, в бордель; а там, как говорилось выше, все прелестные перья слетали. Там, как единичность и как дух, как дух его духа, она упразднялась.
В другой же обители, в доме разутого, [74]74
Ср.: Второзаконие, 25:5-10.
[Закрыть]все происходило наоборот. Он совершал обман – но имел ее, ее по существу, ее согласно своему Богу, избавившись от ужасного анахронизма внутреннего истечения, который свергал ее с престола и обесчещивал ее в его уме. Ее посредством обмана, но по существу и с равнодушием, в одиночестве другой обители. (По крайней мере, таково было его впечатление, он был удовлетворен, помоги ему Бог, этим впечатлением.) В борделе, из незначительности, что была не она, конечно нет, он извлекал (sua culpa и sua culpa) [75]75
Его вина (лат.).
[Закрыть]реальность, которая могла быть только ею, смела быть только ею – и не была ею. Там, в борделе, он внезапно оставался наедине с внутренним восторгом, ужасной путаницей между даром и дарителем. Плотское легкомыслие, призванное в первую очередь не допустить вырождение истинного духа в суккуб, производило истинный дух. То была отвратительная путаница, дробление ее и его реальности, реальности, в которой она и он соотносились. В то время как теперь, посредством обмана, он заставлял ее играть роль шлюхи, он использовал ее нереальную и условную, с тем чтобы присвоить ее – реальную и единственную в своем роде, с тем чтобы умиротворяющий как обертон дар, при истечении, мог одновременно быть дарителем, с тем чтобы Бетховена при нем не исполняли на волынке. Когда он исключал ее в плотском обличье, без колебаний стирая плотские подробности из головы, теперь она не плоть, а дух, о реальной материи, следовательно, не могло быть и речи, тогда она ускользала от него как дух (устали от этого слова), как дух она оказывалась упраздненной. Когда же он весьма правдоподобно постулировал ее как плоть, упрямо вырисовывая плотские подробности, тогда она снисходила на него как дух, она утверждалась как дух. Восприняв мошенническую систему платонической мануализации – хироплатонизм, он постулировал физическую встречу и доказывал духовное соитие. Страшась, что его вознесение в утреннее шампанское пройдет в одиночестве или, того хуже, что он будет обременен плотскими подробностями, он заставлял ее участвовать в своей тьме.
Таковы были жутковатые маневры, на которые в то время вынуждала его природа чувства к Смеральдине-Риме. Их необходимо было раскрыть. Учитывая его молодость, его зеленые дни, они представляли собой вынужденную меру.
Da questo passo vinti ci concediamo… [76]76
Здесь признаем, что сражены вконец… (ит.). Ср.: Данте, «Рай», песнь XXX, 22.
[Закрыть]
Тяготы обустройства в незнакомом месте положительно истощают. Первая неделя и даже больше ушла на земляные работы: укрепления предназначались не столько для того, чтобы остановить прилив людей и вещей к нему, сколько для тою, чтобы упредить отток ею к людям и вещам. Сообразно инстинкту он творил из себя пленника, и инстинкт, как никогда ранее или позднее, сослужил ему добрую службу, подготовил тот великолепный срок блаженства, которому суждено было простираться от середины октября до Рождества, когда он умышленно взобрался по стенкам полностью отскобленной от мира чаши, чтобы вернуться в непереносимое сияние ее плоти, чтобы предать свои пути мира и землю покоя. Однако в течение двух месяцев и более он лежал вытянувшись в чаше, укрытый от ветров и укрытый от вод, сознающий, что ею собственные туманные желания и исходящие от него лучики никогда не выберутся за высокую кромку воздвигнутых вокруг стенок, что они струйкой стекут обратно и пополнят запасы его тягучих размышлений, подобно бракосочетанию земли и девственною рая, что он может безмятежно пускать бумеранги своих фантазий по всем сторонам, что они вернутся один за другим с трофеем эха. Он лежал, укутанный в блаженство праздности, что мягче елея и слаще меда, [77]77
Ср.: Притчи, 5:3.
[Закрыть]не существующий для черных страданий сыновей Адама, ничего не просящий у непокорного разума. Он перемещался с тенями умерших, и мертворожденных, и нерожденных, и тех, кому не суждено родиться, в Лимбе, очищенном от желания. Они передвигались печально, толпы младенцев, и мужей, и жен, и облик их был ни весел, ни суров. [78]78
Ср.: Данте, «Ад», песнь IV, 29–30, 84.
[Закрыть]Они были темные, но в еще более темном месте, где они находились, от них исходил свет утренней зари. Они были молчаливой толпой, бременем того, что было, и чего не было, и что должно было случиться, и чему не суждено было произойти никогда, они шевелились и чуть трепетали, как сердце, бьющееся в песке, и испускали темный свет.
Если это и есть погружение в собственное сердце, то может ли быть что-нибудь лучше, в этом или в следующем мире? Разум, тусклый и притихший как комната больного, как chapelle ardente, [79]79
Часовня, где стоит гроб перед похоронами (фр.).
[Закрыть]заполненный тенями; разум, наконец превратившийся в собственное убежище, безучастный, безразличный, его ничтожные вспышки эретизма, его предпочтения и тщетные вылазки подавлены; разум – его казнь внезапно отсрочена, он перестал быть приложением к неугомонному телу, резкий свет понимания погас. Веки тяжелого, болящего разума прикрыты, разум вдруг стал окутан мраком: не сном, еще нет, не ночной грезой, с ее потом и страхами, но бодрствующей внемозговой тьмой, заполненной серыми ангелами. От него не осталось ничего, кроме полной тени – замогильной и утробной, где полагается пребывать сонму духов его умерших и его нерожденных.
Он понял, выйдя из туннеля, что именно там заключалось нечто стоящее, Саймон Пьюр [80]80
Персонаж комедии английской писательницы Сьюзен Сентливр (1697–1728) «Смелый удар для женщины», эпоним настоящего, «неподставного» человека.
[Закрыть]этой хрупкой жизни, которую уже описывали выше как совокупность искушений и рыцарских подвигов, поддельных искушений и бутафорских перепалок, нижнего белья, вызывающего восторг (dessous de femme «Mystere»), [81]81
Женское белье «Тайна» (фр.).
[Закрыть]и бойскаутов, вожака бойскаутов Чарли, вопящего чур-чура. Пытка мыслями и судилище жизни, ибо мысли были поддельными и жизнь поддельной, остались за пределами туннеля. Но в полной тени, в туннеле, где разум погружался в замогильную утробу, – там мысли и жизнь были настоящие, там была живущая мысль. Мысль, не прислуживающая жизни, и жизнь, не истязающая мысль вплоть до грошового приговора, но – живые размышления, не работа ради жалованья, не опустошение помойных ведер. В туннеле был только тяжкий приступ беспричинных мыслей, его мыслей, свободных и непрофессиональных, безвозмездных, живущих так, как вольны жить только духи. Да еще звуки монолога, и диалога, и полилога, и каталога, исключительно внутреннего. Ах, belle blague! [82]82
Отличная шутка (фр.).
[Закрыть]Это его утомляло. И Gedankenflucht! [83]83
Вереница мыслей (нем.).
[Закрыть]Pons Asinorum [84]84
Ослиный мостик (лат.). Так в средневековье называли теорему Пифагора.
[Закрыть]состоял из Gedankenflucht. В полной тени и туннеле не было размена, не было полетов и течений, не было Bachkrankheit, [85]85
Букв.: «баховская болезнь» (нем.), болезнь, происходящая от прослушивания музыки Баха (нем.).
[Закрыть]но только живая мысль, движущаяся в затемненном, погруженном в замогильную утробу разуме. Le train ne peut partir que les paupieres fermees. [86]86
Поезд не может тронуться, пока не закрыты веки (фр.).
[Закрыть]Хи! Хи! Жар похоти и невыносимый свет жизни отставлены, трусикам и бойскаутам положен конец, дамы полусвета и Сен-Пре, [87]87
Главный герой романа Жан-Жака Руссо «Жюли, или Новая Элоиза».
[Закрыть]и baci saporiti, [88]88
Сладостные поцелуи (ит.).
[Закрыть]и все иное упразднено, он был во мраке, в чаще, он целиком был в уютной тьме призраков, в Лимбе, из которого изгнан мистраль желания. Он не был горд, не был парящей птицей, не достигал вышних пределов, не извергал сокровеннейшие свои части, его душа – на горшке, per faecula faeculorum, [89]89
Непристойное переиначивание лат. Per saecula saeculorum – во веки веков. Faeces – экскременты (лат.).
[Закрыть]он не совал клюв в небеса. Он не был любопытен, не был рыбой в морях, не шнырял в океанской толще, не извивался в глубинах мира и помоях погибшего времени. Он – великий, большой, обращенный внутрь человек, сдержанный, замкнутый, versus internus. Jawohl.
Мы обнаружили, что написали он есть, хотя, конечно же, мы имели в виду, что он был.Для постпикассовского человека с пером в руке, обреченного на литературу исключающих оговорок, представляется невозможным, пожалуй, дерзким – возможно, нам следует сказать, излишним, даже невежливым – флегматично и без содрогания склонять глагол быть.Мы, конечно, хотели сказать, что он тогда былвеликим, большим, обращенным внутрь человеком и т. д. Теперь он вновь простая наружность, фасад, он пронзен, если нам позволительно будет стащить достойную всяких похвал фразу месье Жида, своим фасадом, он, как видите, с восторгом катается в свиных помоях. Но в течение двух с небольшим месяцев, проведенных в чаше, в полной тени, в туннеле, уколы извне были нечастыми и, благодаря его бастионам, умеренными. И все равно они сводили его с ума, мучили его как краба, извлеченного из сумрачной глубины на чумной солнечный свет, выдернутого из берложки – мох, камень, зеленая вода – жариться на солнце. Они:Люсьен, Либер, Сира-Куза. Люсьен был наименее гибельным. Он не врывался в комнату с яркой веселой развязностью и лязгом, подобно Сира-Кузе, и не грохотал по лестнице и коридору, взрываясь последними новостями, и любовью, и идеями (прости его Господи, да, идеями), подобно Либеру. Люсьен просачивался внутрь илом, он подкрадывался к двери и тихо проскальзывал в комнату. Его слова были изощренными, он говорил тихо и неспешно, с большим достоинством, он был умен, он обладал замечательно унылым интеллектом, приглушенным настолько, что это было приятно. Он не собирался убеждать, а-ля Либер, или возбуждать и щекотать, а-ля Сира-Куза, он не говорил счеловеком, он просто лился балладой, охваченный сладостной абулией, и – ах, douceurs! – он говорил под сурдинку.
– Пассаж в Лейбнице, – сказал он, – где он сравнивает материю с садом, полным цветов, или с прудом, полным рыб, где каждый цветок есть опять такой же сад и каждая частичка каждой рыбы есть опять такой же пруд… [90]90
См.: Лейбниц, «Монадология», 67.
[Закрыть]– он попытался сделать жест и улыбнулся улыбкой утопленника, – создал у меня впечатление, что Эстетика – это область философии.
– Ах, – произнес Белаква.
– В то время как это, разумеется, – он вздохнул, – не так.
– Нет?
– Нет, нет, – сказал он, – между двумя предметами нет связи.
Улыбка была ужасной, словно на нее смотрели сквозь воду. Белакве захотелось стереть ее губкой. А еще Люсьен не мог избавиться от повисшего в воздухе жеста, который уже нельзя было заставить что-либо означать. Кошмар, точно мертворожденному младенцу делали искусственное дыхание.
В другой день, заметив отражение своей руки в зеркале, он начал подвывать. Это в большей мере соответствовало настроению Белаквы, это не тревожило его в той же степени. Люсьен не знал, как справиться со своими руками.
Он любил рассказывать истории – в основном собственного сочинения – об обиде, которую Декарт таил на Галилея. Тогда он начинал смеяться над ними как девчонка, заливистым смехом. «Идиот, идиот», – хихикал он.
Однажды именно Люсьен, в связи с предметом, который остался нам неизвестен, беспечно обронил фразу, обронил ее с такой беспечностью, что, должно быть, принадлежать она могла ему одному: «Черный алмаз пессимизма». Белаква подумал, что, в царстве слов, это замечательный пример горящего уголька в куче золы, бесценной жемчужины, сокрытой от многих, которую интересный собеседник, презирающий клише и трюизмы, дать вам не в силах. Так как восхождение к вершине начинается как раз таки с клише и трюизмов. То же со стилем. Вам не найти жемчужину у Д'Аннунцио, потому что он отказывает вам в праве на гальку и песок, в котором она содержится. Единообразное, горизонтальное, льющееся без случайностей письмо стилиста никогда не откроет вам жемчужины. Но письмо, скажем, Расина или Малерба, перпендикулярное, изрезанное, ямчатое, разве нет, оно усеяно искорками; песок и галька на месте, смиренным банальностям нет конца. У них нет стиля, они пишут без стиля, правда ведь, они даруют вам фразу, искорку, бесценную жемчужину. Возможно, это удается только французам. Возможно, только французский язык способен дать вам то, что нужно.
Не будьте к нему слишком строги, он учился на университетского преподавателя.
Однако Либер и Сира-Куза были проклятыми занудами. Как нам заставить себя рассказать о Либере? О, он был ничтожным человечишкой. Он был чумой. Он являлся утром, с первыми рубцами зари, и стаскивал с безвинного Белаквы одеяло. Что ему было нужно? Сложно понять. Он и дня не мог прожить без толкования Валери. Он витийствовал в духе тошнотворных гнусностей Валери.
– Он – незаконнорожденный кретин, – одним прекрасным днем сказал донельзя уставший Белаква за его спиной, обращаясь к шокированному Люсьену, – миссис Битон [91]91
В девичестве – Изабелла Мэри Мейсон (1836–1865), одна из знаменитейших составителей кулинарных книг в Англии.
[Закрыть]и Филиппа Бомбаста фон Гогенхайма. [92]92
Настоящее имя прославленного средневекового врача и алхимика Парацельса (1493–1541).
[Закрыть]
Люсьен отшатнулся. Потому что всякий, кто был знаком с Либером, считал его восхитительным. Как-то он заявился поздно вечером с портативным граммофоном и поставил Kleine Nachtmusik, [93]93
Т. е. «Маленькую ночную серенаду» Моцарта.
[Закрыть]а потом «Тристана» и настаивал на том, чтобы выключить свет.Это был конец. Больше Белаква не мог его видеть. Однако Либер был совершенно неспособен на неприязнь. Недоброжелательность была ему абсолютно чужда. Так что, поехав в Англию, он всюду называл Белакву своим закадычным другом, ami unique и так далее. Где-то в провинции он подобрал прилизанную английскую университетскую девицу, она была женщиной до кончиков ногтей, и, ей – богу, он должен был на ней жениться. Белаква чуть не умер от смеха. Он вспомнил, как в Париже Либер посещал Мюссе на Пер-Лашез и, сидя у могилы, делал записи для медитации, а потом приезжал домой на автобусе и вытаскивал фотографии своей последней pucelle, [94]94
Девицы, девственницы (фр.).
[Закрыть]такой восхитительной (elle est adorable, oh elle est formidable, oh elle est tout a fait siderante), [95]95
Она изумительна, ах, она великолепна, ох, она совершенно ошеломительна (фр.).
[Закрыть]она сводила его с ума, и оказывала на него такое сильное влияние, и так его воодушевляла. Он подробно рассказывал о сильном влиянии, он описывал воодушевление, с пантомимой рыбака, хвалящегося уловом. Поистине, ничтожный человек.
Почему на этом повороте нам захотелось втащить сюда Сира-Кузу, мы объяснить не вправе. Она принадлежит другому рассказу, гораздо, гораздо лучшему рассказу. Может быть, она растворится в пометах на полях. Наверное, все же мы сможем выжать из нее абзац, а каждый абзац на счету. Однако она остается, как бы мы ее ни изображали, hors d'oeuvre. [96]96
Здесь: чем-то необычным, экстраординарным (фр.).
[Закрыть]Мы могли бы скрепить ее цепью со Смеральдиной-Римой и крошкой Альбой, нашими главными дивами, и сочинить из этого подобие сонаты, с повторяющейся темой, ключевыми знаками, плагальным финалом и т. д. Из чрезмерной Смеральдины и убогой Сиры вы могли бы и сами вывести Альбу, могли бы управлять нашим рассказом о маленькой Альбе. Не переводя дыхание ее, Сиру, можно было бы даже уговорить изнасиловать Люсьена, сыграть Смеральдину в отношении Белаквы Люсьена. Одним словом, заманить ее можно куда угодно. Qa n'existe pas. [97]97
Это не имеет значения (фр.).
[Закрыть]Разве что для того, чтобы задержаться в Париже еще на пару сотен слов. Час немецкого письма еще не пробил. Абзаца будет с нее достаточно. Потом она вольна удрать и удушить банщика своими подвязками.
Она была одержима Великим Дьяволом, она испытывала острую нужду в полуденном тяжеловесе. Мы говорим, что она никогда не была lassata, не то что satiata; [98]98
Уставшей; насытившейся (лат.). Аллюзия на Шестую сатиру Ювенала, где эти слова относятся к коронованной римской распутнице Валерии Мессалине.
[Закрыть]очень маточная; Лукреция, Клитемнестра, Семирамида, средоточие неутолимых графинь. Вечный паточный месяц у Порт-де-ла-Вийетт с широкогрудым Бальмонтом в малиновом свитере, твидовой каскетке и велосипедных бриджах – вот какие у нее были вкусы. У нее были похотливые глаза, они вращались и блуждали, сладострастные, алчущие лакомств, стряпчие ее жара, глаза василиска, птицеловы ее Любви-и-и, горящие стекла. Сильные пронзительные черные глаза. В остальном, нам кажется, лицо ее должно быть скрыто. Однако от горла до пальцев ног она была гибельной, пирогенной, Сциллой и Сфинксом. Прекрасные маленькие крепкие груди, небольшие холмики, придавали ей замечательное изящество. А бедра, поджарый зад – после вопиющих о розгах, прутьях, плетках примаверовских ягодиц Смеральдины-Римы – бедра были песней, могучей канонадой. Глаза – менее удачные, говоря по правде, чем мы описали, перо увлекло нас в сторону, – а тело как сжатая пружина и еще как силок для вальдшнепов. И пустота. И ничего за ней. Она сияла как драгоценный камень, как коричное дерево и богатый мех (кролик под котик) и как галка Эзопа и шпанская муха Плиния. Еще один из множества самоцветов. Она всегда была за работой, а работа состояла в сиянии самоцветом.
– Она живет, – однажды сказал совершенно изможденный Белаква Люсьену, за ее спиной, – между гребнем и зеркалом.
Шутка состояла в том, что она думала, будто испытывает к Белакве желание, это она сумела дать ему понять.Она была так же импотентно одурманена малышом Белаквой, воплощенным фиаско, обитателем Лимба, как луна Эндимионом. В то время как было совершенно очевидно, со все возрастающей очевидностью, что он скорее годится на роль Октава де Маливера, чем Бальмонта, и что он больше усоногий рак из Лимба, чем первый или второй из вышеперечисленных, одним словом, mollicone, [99]99
Слякоть, грязь (ит.).
[Закрыть]как говорят на берегах Муньоне, талый снег, тоскующий по темноте.
Однажды ненастным вечером Белаква, охваченный огнем, иначе не скажешь, «Руффино», [100]100
Разновидность итальянского вина кьянти.
[Закрыть]настолько поддался обаянию ее личности, что навязал ей, в качестве подарка и в знак уважения (знак уважения!), прекрасную книгу, которую он очень любил, которую, пренебрегая величайшей опасностью, он некогда украл с полок; он снабдил ее вполне уместным посвящением, сплетенным из волосков текста. Глупец. Его прелестная книга! Теперь у него только флорентийское издание в подлой серии Салани, чудовищное, замызганное гротескными примечаниями, выглядящее как чековая книжка в белой картонной оболочке с бледно-золотым титулом, ужасная безвкусица. Не то чтобы мы собирались расхваливать Папу Исодоро, с его педантичными primo и secundo и вариантами, что как запеченные в тесте яблоки. Однако сама книга была славной, в хорошем переплете, с плохой репродукцией кудесника Санта-Мария-дель-Фьоре, отличная печать на дорогой бумаге, с комментариями, знающими свое место, не мозолящими глаз. [101]101
Очевидно, выше речь идет о двух разных изданиях «Божественной комедии» Данте. Согласно дневниковым записям Лючии Джойс, «…во время чаепития в Павильон-Рояль в Булонском лесу г-н Беккет подарил мне издание «Божественной комедии» Данте». «Папа Исодоро» – вероятно, Исидоро дель Лунго, итальянский редактор вышедшего в 1925 г. издания «Божественной комедии».
[Закрыть]Он навязал ей это сокровище. Освещенный вином, он заставил ее принять подарок. Она отказывалась, говорила, что не хочет его. Ей он был не нужен, она никогда не прочтет книгу, все равно большое спасибо. Вот если б у него было что-то из Сади Блэкайз… [102]102
Один из псевдонимов французского писателя Пьера Дюмарше (1882–1970), автора скандальных, «декадентских» романов.
[Закрыть]Но он приставал к ней, не давал ей прохода, пока, чтобы от него избавиться, она не сдалась и не взяла книгу. Потом она забыла ее в баре, и он потащил Сиру обратно, из Батиньоля в Гобелин, [103]103
Районы на северо-западе и юго-востоке Парижа соответственно.
[Закрыть]чтобы ее вернуть.
Теперь, пожалуй, мы ухватили суть Сира-Кузы. Она была чертовской занудой. Уходи, puttanina, [104]104
Уменьшительное от ит. puttana – шлюха, распутница.
[Закрыть]иди-иди, не соскучимся, радости тебе и бутылочку мха.
Toutes etes, serez ou futes,
De fait ou de volonte, putes,
Et qui bien vous chercheroit,
Toutes putes vous trouveroit… [105]105
Все были, есть и будутПо сути иль по прихоти – шлюхи,И если хорошо ищете,То всех шлюх вы разыщете (фр.). Беккет несколько переиначивает четверостишие, приписываемое французскому средневековому поэту Жану де Мену, одному из авторов «Романа о розе».
[Закрыть]
Процитировано Шасом, много долгих дней спустя, по печальному случаю – его дорогим другом Жаном дю Шасом, который плохо кончил.
Там, пока не исчезал свет дня, он лежал на спине в кровати, в утробе туннеля. Голова – в чаше сомкнутых за затылком рук, ногти больших пальцев ритмично почесывали шишечку афродизии, руки были трансептами креста на валике подушки, подтянутые к подбородку ноги раздвинуты, образуя глазок. Он смотрел в просвет между коленями, поверх перильца кровати, в мутное окно. Он слышал обрывки из диссертации по шестой заповеди Десятисловия: возвысь свой разум свой разум к Господу, призови Его, signo cruris se munire… Deum placidum placidumdumdum invo– care. B. Virginem… angelum custodem… [106]106
Крестным знамением укрепить себя. К Богу безмятежному воззвать. К Блаженной Деве… ангелу-хранителю (лат.).
[Закрыть]Он лежал на спине в кровати и как дурак таращил глаза на умирающий день. Во-первых, голое дерево, роняющее капли; затем, позади дерева, дым из трубы привратника, вздымающийся как сосна из пепла; затем, позади, позади мира, проливающие немного света на длинное ущелье клонящейся на запад, к Люксембургскому саду улицы, полускрытые промокшими ветвями, посылающие немного света в комнату, где распростертым орлом он лежал на жаркой кровати, благословенные и невыразимо далекие – изорванные вечерние цветы, сладостный цвет сапфира, неисследованный золотоносный пласт цветов. Там на веки вечные поселилась шлюха, задушенная шлюха, руками разламывающая желтое золото заколки для волос, делящая на половинки эмалевую брошь. Там она горюет, Янг, на вечные времена, поливая слезами цветущий букет, Янг, гейша Раав, удушенная евнухами, повелительница евнухов… [107]107
Беккет смешивает библейскую притчу о распутнице Раав (Иисус Навин, 2) с китайской легендой о Янг Квай-фай – убиенной и переселившейся в «землю духов» любовнице императора Тань Минь Хуаня.
[Закрыть]
Его Мать купила торфа у двух мальчишек, которые своровали его с болота, а воровать торф с болота научили их родители. Впоследствии полицейские предъявили этим плюшевым увальням обвинения по двум пунктам – нарушение права добычи торфа и жестокость по отношению к ослу. Они торговали краденым, развозя его на запряженной ослом тележке, и его Мать письменно засвидетельствовала, что купила полдюжины мешков. Теперь, следовательно, комната, где они сидели, напоминала святилище больше, чем когда-либо, лампы были зажжены, занавески – опущены. Его Мать уснула над газетой, но потом, в кровати лежала не смыкая глаз. «Тяготы и опасности этой ночи…» [108]108
Слова из латинского вечернего богослужения.
[Закрыть]Какими были они? Из своей кузницы за чашкой горячего питья пришел, тяжело ступая, Джон. Его отец собрал арсенал остывших трубок, включил книгу, подключился, а остальное свершилось само собой. Так и надлежало читать – найти соответствующий тебе литературный вольтаж и подключиться к электрическому току книги. Этот способ был известен всем – вельветовые штаны и кучка высоких наград. Тогда все пойдет правильно. Несчастный читатель снимает пальто и смело берется за книгу, принимается за поэзию самоуверенным маленьким чертиком-из-коробки, науськивает свой разум и клюет броню, едва завидев трещинку. И старый вельветовый способ, когда вы подключаетесь и ставите заглушку и все бросаете, окунаетесь в книгу, ожидая, пока она снимет воспаление подобно току самой что ни на есть правильной частоты, однажды ушедший, ушел навсегда. Разве что иногда, при счастливом стечении обстоятельств, можно вернуться, и тогда вы поймете, где находились. Для идущего на поправку, для здорового, но еще слабого, старый способ может сгодиться; или же зимой, в деревне, ночью, в ненастье, далеко от клик и шумных компаний. Но его Отец никогда не забывал старый способ. Он недвижно сидел в кресле, под поющей лампой, поглощенный и отсутствующий. Трубки гасли, одна за другой. Долгое время он не слышал ничего из того, что говорилось в комнате, не важно, были ли слова обращены к нему или нет. Если б назавтра вы спросили его мнение о книге, он не смог бы вам ответить.
Шас, в его сердце черный серафим, выключил свет в своей большой комнате и маленьким тяжелым молоточком, что был в его распоряжении, расколотил все граммофонные пластинки. «Je les ai concasses, – говорил он в письме, – tous jusqu'a Tavant-dernier». [109]109
Я разбил их на мелкие кусочки, все до предпоследней (фр.).
[Закрыть]Трамваи, направлявшиеся в Блэкрок, в Дун Лаоэр, в Далки, один, идущий в Доннибрук, и маленький однопалубник, спешащий к Сэндимаунт-тауэр, прокричали ему что-то в одобрение с мостовой Нассау-стрит и умчались прочь.