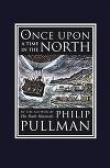Текст книги "Мечты о женщинах, красивых и так себе"
Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
* * *
Фрика расчесывала волосы, она зачесывала их назад и назад, пока ей не стало трудно закрывать глаза. По этой причине она выглядела как задушенная газель, что, впрочем, соответствовало ее вечернему туалету больше, чем внешность сосущей кобылки. Смеральдина-Рима, на ранних стадиях своей кампании, когда ее лицо еще могло такое выдержать, тоже любила эту тугую сабинскую прическу. Пока Мамочка, протесты которой сводились к тому, что в результате экзекуции лицо Смеральдины выглядит как обсосанный леденец, не уговорила ее чуточку завивать волосы. Увы! Так она стала похожа на увенчанную нимбом и хлопающую глазами огромную куклу. Говоря по правде, леденец, обсосанный или обгрызанный, – это далеко не самое постыдное выражение, которое может быть присуще женскому лицу. Потому что здесь, рядом, уберегая нас от поездки в Дербишир, стоит Фрика, просто кошмар наяву.
Сказать «задушенная газель» значит не сказать ничего. Черты ее лица, словно рука непривлекательного насильника крепко схватила ее за волосы, были перекошены и замкнуты в ужасающей гримасе. Она нахмурилась, чтобы подвести брови, и теперь их у нее было четыре. Ошеломленный глаз таращился в белой муке мольбы. Верхняя губа зло оттягивалась к зияющим ноздрям. А язык она себе откусит? Интересный вопрос. Вздыбленный подбородок обнаруживал сгусток щитовидного хряща. Невозможно было пренебречь страшным подозрением, что ее плоские груди, из сострадания к мучительным лицевым спазмам, превратились в два водореза и теперь буравят ее бюстгальтер. Но лицо было вне подозрений – чудовищная рана. Ей оставалось только вытянуть пальцы обеих рук, так чтобы ладонь и пальцы одной руки касались ладони и пальцев другой, и подержать их, слегка воздетыми, у груди, чтобы выглядеть как лишившаяся почитателей мученица в пору половой охоты.
Пустое. Эстетствующая графиня Парабимби, пробравшись сквозь толпу, все равно вплывет в розовато-лиловую дымку, окружающую короле… каргу-мать, и совершенно точно воскликнет: «Моя дорогая, никогда раньше я не видела вашу Калеке н настолькоумопомрачительной. Сикстинские мотивы!»
Что Мадам угодно этим сказать? Кумекая сивилла на мартингале, раздувающая ноздри и вдыхающая ветер в угоду братьям Гримм? Ах, она вовсе не собиралась говорить такие адски жеманные и добрые слова, это все равно что пересчитать камушки в кармане Мальчика-с-Пальчика, просто у нее сложилось смутное впечатление, ваша дочь выглядит такой… это ее известковое изможденное лицо… такая frescosa, [488]488
Фрескообразная (ит.).
[Закрыть]от талии и выше, этот ее меланхоличный кобальтовый фишю, жемчужина разграбленного кватроченто, подлинное сокровище, моя дорогая, потного Мальчика-с-Пальчика. Тогда вдовая дева, прекрасно сознающая, после всех этих лет, что все вещи на небе, на земле и в воде таковы, какими их воспринимают, в свою очередь поблагодарит графиню Парабимби за ее эрудированные любезности.
Возможно, это преждевременно. Может быть, мы рассказали об этом слишком рано. Ничего, пусть остается.
Как было бы славно продолжать издеваться над Фрикой, нескончаемые послеполуденные часы отжурчали бы как сказочный ручей. Что может быть приятнее, чем продираться через часы сиесты, травильной иглой и резцом гравера густо покрывая ее штрихами и насечками поддельного негодования? Не saeva, [489]489
Свирепого, неукротимого (лат.).
[Закрыть]но поддельного. Увы, совсем не saeva. Если бы только было возможно злиться на эту девушку по-настоящему. Но это невозможно. По крайней мере, невозможно злиться долго. Несомненно, у нее есть недостатки. А у кого их нет? Несомненно, для кого-то она единственная и любимая. Так не будем, что бы ни говорили, поносить эту треклятую девицу и дальше. Она скучна, она черства, она недостойна нашей стали. И, помимо всего прочего, наконец зазвонил звонок, обрывая ей фаллопиевы пипетки, судорожно отрывая ее от зеркала, будто кто-то надавил ей на пупок в знак благовещения.
Студент, имени которого мы никогда не узнаем, прибыл первым. Он был маленький гадкий невежа, и лицо у него было сердитое.
– Всемилостивый Боже! – воскликнул он, обращаясь к двум Фрикам на пороге розовато-лиловой гостиной. – Не говорите мне, что я первый!
– Только, – сказала Калекен, учуяв приближающегося Поэта, – по случайной оплошности. Не надо, – произнесла она холодно, – расстраиваться. Вы не единственный.
За ним по пятам пришел Поэт с шайкой неописуемых, потом молодой пасторалист, потом Гаэл, ирландский кельт, потом Шоли со своим Шасом. Его, памятуя о данном обещании, подкараулил Студент.
– В каком смысле, – потребовал он без вступлений, – вы использовали слово смысл, когда сказали…
– Он так сказал? – вскричал пасторалист.
– Шас, – сказала Фрика, будто объявляла счет в игре.
– Adsum, [490]490
Я здесь (лат.).
[Закрыть]– сказал Шас.
В холле разорвалась бомбочка мокроты.
– Мне хотелось бы знать, – хныкал Студент, – нам всем хотелось бы знать, в каком смысле он использовал смысл,когда говорил…
Гаэл, вовсю стараясь развлечь неописуемых, сообщил Freudlose Witwe [491]491
Невеселой вдове (нем.). Беккет обыгрывает название оперетты Франца Легара «Веселая вдова».
[Закрыть]самую свежую мысль с Кемден-стрит.
– Оуэн, – начал он, когда никому не известный невежа, стремясь попасть в центр внимания, опрометчиво прервал его:
– Какой Оуэн?
– Добрый вечер, – уже захлебывался Белый Медведь, – добрый-вечер-добрый-вечер-добрый-вечер. Што за ночь, Мадам, – говорил он страстно, обращаясь, из чистой вежливости, прямо к хозяйке дома, – Боже мой, штоза ночь.
Она питала к нему очень нежные чувства.
– А вам так далеко было добираться! – Жаль, она не могла пропеть ему это на ухо, тихо и проникновенно, или нежно положить коготь на его потертый рукав. Он был потертый человек, и часто раздражительный. – Так мило, что вы пришли, – сказала она так мягко, как только смела, – так мило.
Следом явился Законник в сопровождении графини Парабимби и троих девок, наряженных как раз для закулисных интриг.
– Я встретил его, – шепнул Шас, – он еле тащился по Перс-стрит, м-да, по Брунсвик-стрит.
– En route? [492]492
В пути? (фр.).
[Закрыть]– спросила Фрика.
– Hein? [493]493
Здесь: что-что? (фр.).
[Закрыть]
– Он шел сюда?
– Увы, – сказал Шас, – дорогая мисс Фрика, он не стал объяснять мне, собирается он сюда или нет.
Гаэл обиженным голосом обратился к Б. М.:
– Вот человек, который хочет знать, кто такой Оуэн!
– Немыслимо! – ответил Б. М. – Вы изумляете меня.
– Речь идет о сладкоголосом? [494]494
Оуэн Глендаур, персонаж хроники Шекспира «Генрих IV». Ср.: «Генрих IV», акт III, сцена 1.
[Закрыть]– сказал рыжеволосый сын Хана.
Острие произнесенной Белым Медведем колкости засверкало на солнце.
– Вот emmerdeur! [495]495
Говнюк, зануда (фр.).
[Закрыть]– зло ухмыльнулся он. – Сладкоголосый.
Графиня Парабимби отпрянула:
– Что вы сказали?
Из-за кулис возникла Фрика.
– Почему задерживаются девочки, – сказала она. Трудно было разобрать, вопрос ли это.
– А ваша сестра, – полюбопытствовал пасторалист, – ваша очаровательная сестра, где она, хотелось бы знать.
– К несчастью, – внезапно вступила в разговор Бельдам, – в постели, ей нехорошо. Мы все очень огорчены.
– Надеюсь, Мадам, – сказал Законник, – ничего серьезного?
– Спасибо, нет. К счастью, нет. Легкое недомогание. Бедный маленький Одуванчик!
Мадам тяжело вздохнула.
Белый Медведь со значением взглянул на Гаэла.
– Какие девочки? – осведомился он.
– Фиалка, – сердце Поэта затрепетало, – Лилли Ниэри, Ольга, Мириам, Альга, Ариана, высокая Тиб, изящная Сиб, Кэти, Альба. – Фрика спешила, а девушек было слишком много.
– Альба! – вскричал Б. М. – Альба! Она!
– А почему, – вставила Графиня, – Альба, кто бы она ни была, а не, скажем, Батская ткачиха? [496]496
Героиня одного из «Кентерберийских рассказов» Чосера.
[Закрыть]
Один из неописуемых принес благие вести. Девушки прибыли.
– Они девушки, – сказал пасторалист, – вне всякого сомнения. Но тешэто девушки?
Клянемся Богом, они были девушки, он был совершенно прав. Но тели это были девушки?
– Думаю, можно начинать, – сказала младшая Фрика и, принимая во внимание, что и старшая Фрика не видела никаких помех и препятствий к началу вечера, поднялась на помост и открыла закуски. Затем, повернувшись спиной к высокому сервировочному столику, с замечательным крылатым жестом побитой камнями добродетели она утвердила такую последовательность: – Крюшон с красным вином! Лимонный сок с содовой! Чай! Кофе! Какао! Овальтин! Форс!
– Много крика, – сказал пасторалист, – и мало шерсти.
Самые голодные из верных поспешили к ней.
Два романиста, библиофил и его любовница, палеограф, виолист д'аморе с инструментом в сумке, популярный пародист с сестрой и шестью дочерьми, еще более популярный профессор Херскрита и Сравнительной Яйцелогии, черный лемур, которого тошнило от выпитого, невоздержанный носитель языка, арифмоман с больной простатой, только что вернувшийся из московских заповедников коммунист-декоратор, купец, два мрачных еврея, восходящая шлюха, еще три поэта со своими Лаурами, недружелюбный чичисбей, неизбежный посланник четвертой власти, фаланга штурмовиков с Графтон-стрит и Джем Хиггинс прибыли теперь скопом. Не успели они рассеяться по дому, как Парабимби, тем вечером вполне одинокая птичка по причине отсутствия своего мужа Графа, который не сумел сопровождать ее, потому что его объе…, взяла на себя роль Фрики, за что, как уже говорилось ранее, ее горячо поблагодарила Бельдам.
– Я всего лишь, – сказала Графиня, – констатирую.
Она подержала под подбородком блюдечко, словно то была открытка на святое причастие. Потом беззвучно опустила чашку в выемку.
– Превосходный, – сказала она, – превосходнейший форс.
Мадам Фрика оскалила зубы в улыбке.
– Я так рада, – сказала она, – так рада.
Профессора Херскрита и Сравнительной
Яйцелогии нигде не было видно. Но это не имело значения, ему не за это платили деньги. Его задача состояла в том, чтобы его слушали. Слушали же его везде и слышали ясно.
– Когда бессмертный Байрон, – бомботал он, – покинув Равенну, отплыл к дальним берегам, чтобы геройская смерть положила конец его бессмертной хандре…
– Равенна! – воскликнула Графиня, и память тронула тщательно настроенные струны ее сердца. – Кто-то упомянул Равенну?
– Можно мне, – сказала восходящая шлюха, – сандвич. Яйцо, помидор, огурец.
– А знаете ли вы, – вставил Законник, – что у шведов не меньше семидесяти разновидностей сморброда?
Послышался голос арифмомана.
– Дуга, – сказал он, снисходя до собравшихся в великой простоте своих слов, – длиннее хорды.
– Мадам знает Равенну? – сказал палеограф.
– Знаю ли я Равенну! – воскликнула Парабимби. – Разумеется, я знаю Равенну. Сладчайший и благородный город.
– Вам, конечно, известно, – сказал Законник, – что именно там умер Данте?
– Совершенно точно, – сказала Парабимби, – умер.
– Вы, конечно, знаете, – подхватил палеограф, – что его гробница находится на Пьяцца Байрон? Я переложил его эпитафию на героические куплеты.
– Вы, конечно, знаете, – сказал Законник, – что при Велизарии…
– Моя дорогая, – сказала Парабимби, обращаясь к Бельдам, – как все замечательно! Какой прекрасный вечер, они чувствуют себя почти как дома. Я заявляю, – заявила она, – что завидую вашему умению принимать гостей.
Бельдам вяло отмахнулась от комплиментов. По правде, это был вечер Калекен. По правде, все устроила Калекен. Она почти не принимала участия в подготовке. Она просто сидит здесь, розовато-лиловая и изможденная. Она просто утомленная измученная старая Норна.
– На мой взгляд, – безапелляционно рокотал яйцевед, – величайшим триумфом человеческой мысли было математическое выведение факта существования Нептуна из наблюдения эксцентричностей орбиты Урана.
– И вашей, – сказал Б. М. Это, если угодно, было золотое яблоко и гравюра на серебре.
Парабимби окаменела.
– Кто это? – закричала она. – Что он говорит?
В комнате воцарилась ужасная тишина. Лемур дал оплеуху коммунисту-декоратору.
Фрика в сопровождении г-на Хиггинса тотчас оказалась на месте происшествия.
– Уходите, – сказала она черному лемуру, – и без сцен.
Г-н Хиггинс увел его. Фрика обратилась к декоратору.
– Я не намерена, – сказала она, – терпеть политические скандалы на своих вечеринках.
– Он назвал меня проклятым больши, – запротестовал декоратор, – а ведь он сам из трудового народа.
– Пусть это не повторится, – сказала Фрика, – пусть это не повторится.
Она источала благожелательность.
– Я прошу вас, – сказала она и быстро отступила к алтарю.
– Вы слышали, что она сказала? – спросил Гаэл.
– Пусть это не повторится, – сказал носитель языка.
– Я прошу вас, – отозвался Белый Медведь.
Но вот шествует леди, которая сможет все презреть, – Альба, доблестная дочь дерзновений. Она вошла с первым пируэтом тишины, белошвейкой она проследовала засвидетельствовать свое почтение Бельдам, и ей вслед зазвучали голоса. Она выдержала пытку знакомства с Парабимби, а потом, без лишней суеты, взошла на помост и там, сидя в профиль к гостям, безмолвная и неподвижная перед столиком с закусками, она раскинула гравитационные сети.
Восходящая шлюха внимательно изучала, как это делается. Дочери пародиста не отрывали от нее глаз. О ней много говорили в известных кругах, куда они были вхожи. Но они не могли бы сказать, что из услышанного было правдой, а что – простыми сплетнями. Тем не менее если опираться на слухи, казалось, что…
Словно по волшебству Гаэл, невоздержанный носитель языка, журналист и виолист д'аморе стали рядышком.
– Ну? – начал журналист.
– О-ч-чень хорошо, – сказал Гаэл.
– И-и-и-зумительно, – поддержал виолист д'аморе.
Невоздержанный носитель языка не сказал ничего.
– Ну? – повторил журналист. – Ларри?
Ларри наконец отвел глаза от помоста и, медленно отирая ладони о брюки, произнес:
– Йезус!
– То есть? – сказал журналист.
Безумные глаза Ларри вернулись к помосту.
– Вы случайно не знаете, – выдавил он наконец, – она это делает?
– Все они это делают, – ответил виолист д'аморе.
– Все, клянусь чертом, – сказал Гаэл.
– Мне хотелось бы знать, – засопел Студент, – нам всем хотелось бы знать…
– Наш друг прав, – сказал журналист. – Некоторые, в своей стыдливости, воздерживаются от венериных услад. К сожалению, это так.
Из катастрофически противоположных концов комнаты к помосту приблизились Белый Медведь и г-н Хиггинс.
– Дорогая, вы выглядите бледной, – сказала Фрика, – и больной.
Альба приподняла большую голову и изучающе оглядела Фрику.
– Бледной, – повторила она, – и больной. Так уберите их.
– Уберите их! – отозвалась Фрика. – Убрать кого?
– Кто здесь?
– Шас, Джем, Белый Медведь.
Фрике очень хотелось ее успокоить. Об Альбе рассказывали разные истории. Всегда следовало опасаться, что она устроит сцену. Трюки, выверты и игры были для Фрики что воздух. Вечер, в ее понимании, не мог считаться удавшимся без трюков, вывертов и игр. Сцены только задерживали ход событий и, кроме того, могли отпугнуть публику. Непривлекательность сцены вполне могла отпугнуть одного из тех, от кого она, если только все пойдет гладко, вправе была ожидать небольшого представления, например Шаса, или томящегося поэта, или музыканта.
– Мы проходим сквозь мир, – сказала Альба, – как солнечные лучи сквозь трещины.
– Вы, разумеется, знакомы, – Фрика сильно встревожилась, – с Белым Медведем, и Джема, конечно, вы тоже знаете. Возьмите чашечку, милая, вам это полезно.
– Уберите их! – закричала Альба, схватившись за перила алтаря. – Уберите их.
Но Б. М. и Джем уже окружили ее.
– Хорошо, – согласилась Альба, – заварите покрепче.
Фу! Фрика испытала невероятное облегчение.
Полдесятого. Гости, ведомые восходящей шлюхой и чичисбеем, рассеялись по дому. Фрика позволила им идти. Через полчаса она посетит альковы, она соберет их вновь, и начнется праздник. Разве Шас не обещал почитать что-то на старофранцузском? В коридоре она заметила лежащую в сумке виолу д'аморе. Значит, будет немножко музыки.
* * *
Полдесятого. Белаква стоял под моросящим дождиком на Линкольн-плейс, пытаясь определить свое местоположение. Правда, он успел купить бутылку. Он неуверенно пошел в сторону Стоматологической клиники. Он терпеть не мог красный кирпич Стоматологической клиники. Тут вдруг ему стало худо. Он прислонился к воротцам в стене Колледжа и взглянул на часы Джонстона, Муни и О'Брайена. [497]497
Часы на знаменитой дублинской кондитерской.
[Закрыть]Имей он хоть малейшее представление о своих обязанностях эпического лиу, он порадовал бы нас теперь неуклюжими размышлениями о времени. Но он ничего не знает и нас не радует. К его смутному испугу, на часах было без четверти десять, а ему трудно было держаться на ногах, не то что идти. Да еще дождь. Он поднял руки и приблизил их к лицу, держа их так близко, что даже в темноте различались линии на ладонях. Потом он прижал их к глазам, яростно растирая глазные яблоки тыльной стороной запястий, он тяжело осел у маленьких ворот, и полоска камня пришлась прямо на бороздку его затылка. Несмотря на оглушающую дурноту, он чувствовал, как что-то выдавливает ленточки боли из крошечного нарыва, что он всегда носил прямо над воротничком. Он сильно прижался затылком к каменному подоконнику.
Следующее, что он почувствовал, это как его руки грубо отрывают от лица. Перед глазами возникло большое красное враждебное лицо. Какую-то долю секунды оно было неподвижным – плюшевая гаргуля. Потом оно задвигалось, оно исказилось. Это, подумал он, лицо человека, который говорит. Так и было. Это было лицо поносящего его Караульного. Белаква прикрыл глаза, не было никакой иной возможности перестать это видеть. Он чувствовал непреодолимое желание лечь на мостовую. Его стошнило тихо и обильно, в основном на ботинки и брюки Караульного. Караульный в бешенстве ударил его в грудь, и Белаква упал коленями прямо в свою рвоту. Он ощущал слабость, но ему было совсем не больно. Напротив, ему было спокойно и светло и хорошо и хотелось продолжать путь. Должно быть, уже начало одиннадцатого. Он не испытывал к Караульному никакой неприязни, хотя теперь и мог разобрать, что тот говорит. Он стоял перед Караульным на коленях, измазанный рвотой, и слышал каждое его слово, как тот воссоздает свои обязанности, но не таил при этом никакой злобы. Он схватился за шинель Караульного и рывком поднялся на ноги. Извинения, которые он принес, утвердившись в вертикальном положении, были с негодованием отвергнуты. Он сообщил свое имя и адрес, сказал, откуда идет, и куда, и почему, и о своей профессии, и роде занятий он тоже все рассказал. Он с сожалением узнал, что страж порядка, по доброте душевной, поначалу собирался отвести его на вокзал: он вполне мог войти в положение Караульного.
– Вытри ботинки, – сказал Караульный.
Белаква был только рад. Он скатал два неопрятных кома из «Сумеречного вестника», наклонился и так тщательно, как только мог, вытер ботинки и концы брючин. Потом он выпрямился, сжимая два грязных газетных шара, и робко взглянул на Караульного, который, казалось, был озадачен, не зная, как лучше использовать свое преимущество.
– Надеюсь, – сказал Белаква, – что вы сочтете возможным не придавать значения этому прискорбному инциденту.
Караульный промолчал. Белаква вытер правую руку о пальто и протянул ее Караульному. Тот сплюнул. Белаква сделал над собой усилие, чтобы не пожать плечами, и осторожно пошел прочь.
– Стой, – сказал Караульный.
Белаква остановился и подождал.
– Шагай, – сказал Караульный.
Белаква пошел дальше, крепко держа два газетных кома. За углом, в безопасности Кильдаре – стрит, он позволил им упасть. Впрочем, пройдя еще несколько шагов, он остановился, развернулся и поспешил обратно, туда, где они все еще ерзали на мостовой. Он поднял их и бросил в приямок подвального окна. Он чувствовал себя необычайно легким и бодрым и haeres coeli. [498]498
Наследником неба (лат.).
[Закрыть]Под непрекращающимся дождем он скорым шагом пошел избранной дорогой, в возвышенном состоянии духа, сплетая замысловатые фестоны слов. Ему пришло в голову, и он с удовольствием развил это упражненьице, что траектория его падения из туманной хмельной благодати должна была пересечься, в самой приятной точке, с траекторией его восхождения к этой благодати. Так, безусловно, и должно было случиться. Иногда кривая пьяного графика совершала подобную восьмерке петлю, и если вы находили то, что искали, на пути вверх, то получали то же самое на пути вниз. Беззадая восьмерка упившейся фигуры. Вы не закончили там, где начали, но, спускаясь вниз, вы встретили себя же, идущего вверх. Иногда, как теперь, вам это приносило радость, а иногда вы испытывали сожаление и спешили к своему новому дому.
Стремительной прогулки под дождем было недостаточно, вот так вот идти, энергично, большими шагами, укутанным с головы до ног, по холоду и сырости, представлялось ему неуместным. Он остановился в центре Беггот-стрит-бридж, снял суконную куртку и шляпу, положил их на парапет и сел рядом. Караульный был забыт. Наклонившись вперед, он согнул одну ногу, так что колено оказалось на уровне уха, а пятка на парапете, снял башмак и положил его рядом с пальто и шляпой. Потом он опустил ногу и проделал то же самое со второй. Далее, чтобы по достоинству оценить злющий северо-западный ветер, он быстро поерзал по камню холодной промокшей задницей. Его ноги болтались над каналом, он видел далекие трамваи, чихающие на горбу Лизон-стрит-бридж. Далекие огоньки ненастной ночью, как он любил их, грязный низкоцерковный протестант! Ему было очень холодно. Он снял пиджак и пояс и положил их на парапет подле другой одежды. Он расстегнул верхнюю пуговицу на перепачканных старых брюках и высвободил сорочку. Потом, связав полу сорочки в узел под каймой пуловера, он закатал их вверх, так что они обручем опоясали грудь. Не стоило снимать их совсем, тем более что операцию затруднили бы воротничок, и запонки, и галстук, и манжеты. Дождь бил ему в грудь и живот и струйками стекал вниз. Этооказалось еще приятнее, чем он ожидал, хотя и очень холодно. Именно теперь, подставив оголенную грудь мраморным ладоням злой непогоды, он расстался с самим собой и почувствовал горечь. Он сознавал, что поступил нехорошо, и его мучила совесть. Все же, не зная, как ему лучше утешиться, он продолжал сидеть, раздраженно барабаня разутыми пятками по камню. Внезапно мысль о купленной бутылке пронзила его мрачное состояние вспышкой сигнального огня. Бутылка все еще была там, в нагрудном кармане куртки. Он наспех вытерся парижским платком и поправил одежду. Только приведя себя в относительный порядок, застегнув куртку и обувшись, только тогда он позволил себе большой глоток. От этого ему стало чертовски хорошо. От этого что называется теплое свечение что называется прошло что называется по его венам. Он повторил дозу и почувствовал себя еще лучше. Воодушевившись, он рысцой захлюпал по улице, приняв твердое решение добежать, насколько это от него зависело, до дома Фрики не останавливаясь. Дождь стал слабее, и он не видел никаких оснований предполагать наличие беспорядка в своем внешнем виде. Прижав локти к бокам, он бежал вперед. Метрах в ста от дома он остановился и закурил сигарету, запихнул ее между верхней и нижней челюстью, закурил ее, чтобы вполне овладеть собой.
Почему Смеральдина-Рима решила появиться перед ним именно в эту минуту, и к тому же в позе, исполненной упрека, головка склонена на грудь, руки болтаются, большое полное тело неподвижно? Этого он понять не мог. Он вспомнил злосчастный Сильвестр: как, во-первых, он обидел ее, тихо валяясь в квартире при свечах и брызгах мамочкиной музыки, с вином музыки, с рейнским вином. Как потом он чуть не взвыл от восторга при виде своей, по существу, суженой, сердито удаляющейся от столика в баре в объятиях чемпиона-планериста. Как, отдав ее на потеху Валтасару и герру Зауэрвайну-портретисту (о котором, возможно, сейчас самое время сказать, что он окончил свои дни в Сене, он прыгнул с моста, как все самоубийцы – они никогда не прыгают с набережной, – полагая себя слишком современным для жизни), он искал, нашел и потерял, в компании с Мандарином, Авраамово лоно в доме терпимости.

Именно с этой стонущей в его памяти фразой, до-диез растянут вопреки всем намерениям Боннского Лебедя, он вытрезвонил душу из двери Фрики.
Во взлетах и падениях последних тридцати минут его скованный мучительными воспоминаниями разум не успел углубиться в размышления о том, что ему уготовано. На время его даже перестала истязать мысль о ярчайшем алом платье Альбы, платье, которое, несмотря на компетентные заверения Венериллы – оно, с Божьей помощью, застегивается до конца, – так и не избавило его от дурных предчувствий. Но теперь, в холле дома Фрики, вся серьезность его положения навалилась ему на плечи ужасной тяжестью. Стоило Фрике выскочить, цокая, из розовато-лилового салона, где собрались гости, он, потрясенный ее внешним видом и экипировкой, вмиг протрезвел.
– Вот вы где, – протрубила она, – наконец.
– Здесь, – сказал он грубо, – я и булькаю.
Она отшатнулась, прикрыла рот ладошкой и вытаращила глаза. Гдеон был? Штоон делал? Неужели он, ах, неужели он пытался утопиться? Действительно, вода стекала с него, объятого ужасом, и собиралась в лужицу у ног. Как же раздувались ее ноздри!
– Вам нужно немедленно сменить эти мокрые вещи, – заявила она, – сию же секунду. Я заявляю перед лицом Бога, что вы вымокли до… кожи. – Фрика не терпела нелепицы. Когда она подразумевала кожу, она говорила – кожа. – Надо удалить, – злорадствовала она, – каждую нитку, сию же минуту.
Судя по тугой гримасе ее лица, в особенности по леденящему кровь изгибу верхней губы, тянувшейся в ухмылке к дрожащему рыльцу, как у утки или кобры, Белаква предположил, что она пребывает в состоянии более чем обычного возбуждения. Он тешил себя мыслью, что подобное волнение связано с перспективой увидеть его разоблаченным до нитки. И он не совсем ошибался. Ее ослиное изумление тут же сменилось состоянием величайшего волнения. Вот так приятная неожиданность, это добавит щепотку веселья! Еще мгновение, и она пустится в пляс. Белаква подумал, что сейчас самое время ее упредить.
– Нет, – сказал он спокойно, – если б вы могли принести мне полотенце.
– Полотенце! – Кикимора была так потрясена, что ей пришлось гулко высморкаться.
– Оно уберет воду.
Воду! Какая бессмыслица говорить о воде, когда и так совершенно ясно, что он промок насквозь.
– Насквозь, – закричала она.
– Нет, – сказал он, – если б только вы могли принести мне полотенце.
Она была глубоко опечалена, но понимала, что не сможет поколебать его решимость принять из ее рук утешение не большее, чем полотенце. Кроме того, ее ждали в гостиной, в гостиной уже ощущалось ее отсутствие. Так со всей фацией, на какую она была способна, Фрика ускакала прочь и тут же вернулась с банным полотенцем.
– Вот как! – сказала она и отправилась к гостям.
Шас, тихо переговариваясь с Шоли, нервно ожидал, когда его пригласят читать. То был знаменитый вечер, когда Шас, будто его внезапно оставили чувства, завершил свою абсолютно благопристойную декламацию чудовищным четверостишием:
Toutes etes, serez ou futes,
De fait ou de volonte, putes,
Et qui bien vous chercheroit,
Toutes putes vous trouveroit.
Альба, которую, поспешив на помощь Белакве, мы были вынуждены покинуть как раз в ту минуту, когда со свойственной ей порывистостью она решила ожидать естественного развития событий, начала бой с того, что послала ко всем чертям (по – другому не скажешь) Хиггинса и Белого Медведя. После чего, не снизойдя до участия в путаной оргии а-ля поцелуй-меня-Чарли, что под эгидой восходящей шлюхи и недружелюбного чичисбея распространялась по дому как пожар, пока не охватила его целиком, от чердака до подвала, она принялась тихо, так тихо, как только умела, зачаровывать тех, кто, при обычных обстоятельствах, радостно присоединился бы к гнусным поцелуям, но под воздействием обстоятельств остался в гостиной специально для того, чтобы узнать, а можно ли извлечь что-нибудь из этой маленькой бледной особы, такой, в лучшем смысле слова, холодной и изысканной, в алом платье. Пародиста она поразила в особенности. Таким образом, с известной точки зрения она была тем вечером в ударе.
При всей нежности, да, действительно нежности, пусть странной и извилистой, какую она питала к Белакве, ей и в голову не приходило скучать или думать о нем, разве только как о выдающемся зрителе, чьи устремленные на нее из-за стекол очков взоры и верньер одобрения могли бы добавить остроты ее удовольствиям. Из тех, кого безжалостная Фрика успела вытравить из плена потертых услад, она выбрала для себя одного из мрачных евреев – богатого торговца с тронутой желтизной конъюнктивой. Позже, думала она, Джем отвезет меня домой. Она заговорила с евреем, но слишком лениво, будто собиралась съесть что-то пресное, и была отвергнута.
Вежливо отвергнута. Такой неудачи она совершенно не ожидала. Не успела она перезарядить орудие и вновь нацелиться на этого занятного еретика, которого, мысленно потирая руки, она готовилась вышколить в назидание остальным, как Фрика, все еще больная от нанесенной ей Белаквой обиды, ядовитым голосом объявила, что месье Жан дю Шас, талантливейший молодой парижанин, известный слишком хорошо для того, чтобы его необходимо было представлять, любезно согласился открыть вечер. И хотя Альба была бы совсем не против, чтобы Шаса разорвали на части прямо здесь, перед ее глазами, она не сделала ни малейшей попытки скрыть свое веселье, в котором ей, конечно же, вторил Белый Медведь, когда Шас закончил чтение приведенным выше циничным афоризмом, и веселье ее стало тем более искренним, когда она заметила, с какой кисло-сладостью палеограф и Парабимби (они сидели рядышком, неприятно удивляя Фрику своим непослушанием) отмежевались от аплодисментов, сопровождавших схождение Шаса с помоста. Вряд ли Je hais les tours de Saint-Sulpice [499]499
Я ненавидел башни Сен-Сюльпис (фр.).
[Закрыть]доставило бы ей в ту минуту большее удовольствие, хотя при менее затхлой череде событий банальным ей показалось бы и одно стихотворение, и другое.
Такой, фубо говоря, была диспозиция, когда Белаква появился в дверях.
Внимательно наблюдая, как он, забрызганный грязью и не на шутку встревоженный, стоит в дверях, сжимая в руке очки (упредительное действие, которым он никогда не пренебрегал, если существовала хоть малейшая опасность казатьсясконфуженным), и, безусловно, ждет, пока какая-нибудь добрая душа не предложит ему стул, Альба подумала, что ей нечасто приходилось видеть человека, который бы выглядел более царственно смешным. Ищущий быть Богом, подумала Альба, в рабской надменности ничтожного зла.
– Будто что-то, – сказала она Б. М., – собака принесла в пасти.
Б. М. подыграл ей, он повысил ставку.
– Будто нечто, – сказал он, – что, по зрелому размышлению, собака приносить бы не стала.
Он хохотнул и засопел этой тупой остроте, словно сам ее придумал. В непреодолимом порыве сострадания она резко встала со стула.
– Nino, [500]500
Малыш (исп.).
[Закрыть]– позвала она без церемоний или стеснения.
Для Белаквы этот крик был что глоток родниковой воды в темнице. Он поплелся на голос.
– Подвинься, – сказала она Б. М., – и освободи место.