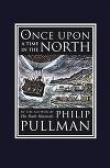Текст книги "Мечты о женщинах, красивых и так себе"
Автор книги: Сэмюел Баркли Беккет
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
– Он не сядет с вами за один стол, – сказала она после секунды сомнений.
– Что ж! – улыбнулся Валтасар, нимало не обидевшись. – Что ж! – Он был искренне тронут. – Увидимся позже, – выразил он надежду и удалился.
Часы на ратуше пробили полночь, празднующие соединили руки и запели хором. Замечательная делимость двенадцати проникла в мозг Белаквы; тот недооценил свою нужду и теперь прижимался лбом к прохладной плитке. «Prosit Neujahr», – сказал он очень слабым и гнусавым голосом и дернул за ручку. На обратном пути Белакву остановил Валтасар, который заметил его издалека и, оставив троих дылд колыхаться в тесной гирлянде, поспешил навстречу.
– Итак, – заговорил он, – как поживаете?
– Неважно, – сказал Белаква. – А как вы?
– Присоединяйтесь к нашей скромной компании, – продолжил Валтасар.
– Простите, – сказал Белаква, – я со Смеральдиной.
– Приходите, – зашептал Валтасар, – приходите со Смеральдиной, приходите оба.
Это показалось Белакве вполне приемлемым. Достигнув верхней площадки, он застал свою девушку беседующей с очаровательнейшим молодым человеком.
– Могу ли я, – произнес Белаква, слоняясь по опушке ее внимания.
Молодой человек отступил, и Мадонна грациозно встала справа от своего спутника. Она внимательно его оглядела.
– В чем дело? – сказала она. – Ты белый как полотно.
– Мне не по себе, – сказал он, – но ты будешь рада узнать, что я нашел столик.
– Где?
– Тот жирный ублюдок, – сказал он, – тот комнатный повеса приглашает нас за свой столик, а я устал и хочу выпить, и ты хотела остаться здесь, так что…
Он стал спускаться по ступенькам.
– Кто? – закричала Мадонна. – О чем ты говоришь? Кто нас приглашает?
– Откуда я знаю? – застонал он. – Пойдешь ты, наконец? Этот толстый дантист от шахмат…
– Стой! – сказала Мадонна. – Вернись. Я иду в «Барберину».
Он сделал шаг назад.
– Мы не можем выйти, – яростно возразил он на предложение идти в «Барберину». Она повернулась к нему длинной спиной и исчезла в вестибюле. У двери он нагнал ее.
– Какой смысл, – сказал он, – зачем вообще говорить о «Барберине», когда мы не можем ВЫЙТИ? – Но она открыла дверь своей нежной ручкой, и ему оставалось только последовать за ней.
Усевшись в баре «Барберина», она изучала ситуацию.
– Он вот-вот появится, – сказала Мадонна, – так что лучше поторопись. Пей, и пойдем.
– Разве Папа не говорил, что придет после фейерверка, – сказал Белаква, зная, что через час или около того станет охоч до слов, – и приведет Мамочку?
– Дай мне сигарету, – сказала она.
Он предложил прикурить ей сам. Она взглянула на него остолбенело. Ему хотелось немножко с ней поиграть.
– Можно? – сказал он.
– Дай мне ту, которую куришь сам, – сказала она наконец, – и закури другую.
Он перегнулся через стол, и она вытащила недокуренную сигарету у него изо рта. Он так смешно чмокнул губами!
– Теперь, – сказала она, – закури другую.
Но он откинулся на спинку стула и не сделал ничего подобного. Он предпочел надуться, потому что она отказывалась шутить.
– Ну, а как твой парень? – сказал он. – Голова у тебя болит по утрам не от пива, а от всех этих сигарет.
– Что?
– Я говорю, не от пива…
– Нет, что ты до этого говорил?
– А, твой парень…
– Какой парень?
Откуда ему было знать, какой парень!
– Может быть, – сказал он уклончиво, – я подумал о том парне в ратуше.
– Что ты хочешь этим сказать, «может быть, я подумал»?
– Я не знаю.
– Ты вообще что-нибудь знаешь? – застонала она – Это не парень, это чемпион по планеризму.
– Как чемпион по планеризму?
– Он совершил самый длительный полет на планере.
– Не парень?
– Нет.
– Что такое парень?
– Не знаю. А ты?
– Нет. А ты?
– Нет.
– Я – парень?
– Мой ли ты парень? – Да.
Она задумалась.
– Нет, – сказала она, – нет.
– Кто я? – сказал он. Она обдумала и это.
– Ты – мой Mann.
– Но не с двумя «н», – сказал он.
– Что?
– Я говорю, Я ТВОЙ МЭН с одним «н». Она ужасно нахмурилась.
– Что? – закричала она.
– Я имею в виду, не твой M-A-N-N.
– Не беси меня, – она тяжело вздохнула, – не выводи меня из себя. Пей, и пошли.
– Пошли куда?
– Куда угодно. Эта скотина появится здесь с минуты на минуту.
– Но мне казалось, что ты хочешь танцевать.
– Нет, – сказала она резко, – какой смысл хотеть танцевать, если танцевать не с кем?
– А со мной ты не можешь танцевать?
Тут она встала и оправила платье. Бедная девочка, оно всегда смотрелось на ней rutschig, [257]257
Скользким, облегающим (нем.).
[Закрыть]такой колоссальной была ее попа. Он с трудом поднялся.
– Я не могу танцевать, – раздраженно сказал он.
Она стояла, глядя на него через стол.
– Du lieber Gott! – прошептала она. Теперь он был напуган и разъярен.
– Прости, Смерри, – захныкал он, сердито жестикулируя, – я не могу танцевать. Я бы и хотел уметь танцевать, но я не умею. Я не знаю, как танцевать. Я устаю. Я не знаю, как это делать.
Она села.
– Сядь, – сказала она.
К чертям тебя собачьим, подумал он.
– Зачем, – осведомилась она очень тихим голосом, – ты приехал из Парижа?
– Посмотреть на твое лицо, – сказал он коротко и уверенно.
– Но ты не смотришь на него.
– Я смотрю на него.
– Нет, Бел, не смотришь, ты знаешь, что не смотришь.
– Ты меня не видишь, – сказал он.
– Когда-то ты говорил, что только хочешь посмотреть на мои глаза, заглянуть вмои глаза.
Он не обратил на это внимания.
– Бел! – умоляла она.
Он ожесточил свое крохотное сердце.
– Он больше не хочет, – заскулила она, – смотреть в мои глаза.
– Может быть, потому, что теперь я хочу смотреть на твое лицо? – глумливо усмехнулся он, охваченный бешенством. – Я привержен классицизму, – сказал он, – или ты не знала?
– Если б ты любил меня, то не вел бы себя так!
– Вел себя как? – закричал он, ударив кулаком по столу.
– Так, как ты всегда себя ведешь, – возвышая голос до писка, – равнодушный ко всему, говоришь, что ты не знаешь и что тебе наплевать, целый день валяешься в этой verdammte старой Wohnung, [258]258
Проклятой… квартире (нем.).
[Закрыть]читаешь свою старую книгу и дурачишься с Папой. И этот человек, – заключила она безнадежно, – в меня влюблен!
К чертям тебя собачьим, подумал он.
– Он хочет смотреть на мое лицо, – передразнила она, выдавив смешок, – он проделал весь путь из Парижа, – фыркнула она, – третьим классом, чтобы посмотреть на лицо своей драгоценной Смерри! – Она облокотилась на стол, прикрыла глаза, выставила вперед сердитое, ставшее красным, как Иудины волосы, личико и насмешливо сказала: – Ну так смотри хорошенько.
– Ты не понимаешь меня, – сказал он важно, – это должно быть исподтишка.
– Это что такое? – Она открыла глаза. – Это можно съесть?
– Когда я говорю, – объяснил он, – что хочу посмотреть на твое лицо, я имею в виду, что хочу взглянуть на него украдкой. Украдкой.
– Ты пьян? – сказала она, развеселившись от его серьезности.
– Leider! [259]259
Увы! (нем.)
[Закрыть]– сказал он.
– Итак, он приехал из самого Парижа, третьим классом, чтобы украдкой взглянуть на мое лицо.
– Преподноси это так, – сказал он, – если тебе так нравится.
– Я ничего не подношу. Это ты сказал.
Он заметил, что, возможно, им следует оставить эту тему.
– Ты сам начал, – ответила она.
Ссора вышла такой громкой, что притихший было в дальнем углу бара преступного вида тип помахал Мадонне большой похотливой рукой, а Ungekute [260]260
Букв.: нецелованная (нем.).
[Закрыть]Ева одарила Белакву медленным изгибом верхней губы. Ungekuste Ева была барменшей. Добродетельная девушка, она растеряла красоту, предположительно (потрясающее наречие Диккенса) благодаря своей страсти к штайнхегеру [261]261
Сорт можжевеловой водки.
[Закрыть]и ночному образу жизни. Штайнхегер она в изобилии добывала благодаря клиентам покладистым и несчастным, и в нашем молодом герое она тотчас распознала удобную жертву. Так теперь, в знак своего желания, она обнажила зубы. Белаква забился в угол и поглядывал в сторону Мадонны – та уже обрела привычную бледность и выставляла себя напоказ. Белаква испустил глубокий вздох, надеясь вернуться в поле ее зрения. Далеко, у стойки бара, бдительная Ева подняла свою личную бутылку.
– Darf ich, [262]262
Могу ли я (нем.).
[Закрыть]– пропищала Ева.
Белаква покраснел.
– Ты сбежал, – бросила Мадонна через плечо, – с барменшей.
Ева протянула в их сторону плод своей отчаянной храбрости.
В бар горделивой походкой вошел Пиротехник. Белаква был в восторге.
– Выпьем, – радостно возгласил он, – выпьем же. Я угощаю, – добавил он, однако это щедрое предложение не было встречено с ожидаемым воодушевлением.
– Где Мамочка? – сказала Мадонна очень злым голосом.
Пиротехник стоял на пороге алькова, оценивая ситуацию.
– Где Мамочка? – повторила Мадонна.
Он погладил небритую Джокондову улыбку.
– Это – город чудес, – сказал он наконец. – Траулер привез меня сюда на своем роскошном авто.
– Могу ли я предложить вам выпить? – сказал Белаква.
– Что я всегда говорил, – застонал Мандарин, вдруг очень встревоженный и возмущенный. – Можете вы вообразить такое, – ошеломленно оборачиваясь, – в Дрогеде?' – снова оборачиваясь, с искоркой в бледно-голубом глазу.
– Кана Галилейская, – сказал Белаква.
– Но это ведь, – всхлипнул Мандарин, отдаваясь течению мыслей, – даже не немецкая Дрогеда. Даже не Дрогеда, [263]263
Дрогеда – крепость в Ирландии, взятие которой войсками Кромвеля в 1649 г. стало центральным эпизодом завоевания Ирландии англичанами.
[Закрыть]это Беллибогхилл [264]264
Беллибогхилл – провинциальный ирландский город.
[Закрыть]Германии!
– Папа! – Мадонна задыхалась.
Папа оправил жилет.
– Я все еще ношу ваши превосходные подтяжки, – сообщил он Белакве по секрету. – Там, на дне бутылки, есть хоть рубинчик?
Тибо в Сала Бьянка [265]265
Жак Тибо (1880–1953) – французский скрипач, концертировал как солист и в трио с А. Корто и П. Касальсом. Сала Бьянка – зал в палаццо Питти во Флоренции.
[Закрыть]прервало внезапное «с вашего позволения». Чемпион по планеризму вежливо ждал, нахально возвышаясь рядом с Мадонной.
– Пожалуйста, – сказал Белаква, снова краснея.
Мандарин сел. Смотреть, как они в танце удаляются от стойки бара, было первым приступом боли в новом году. Она танцевала совершенно неправильно, бросаясь из стороны в сторону. Она выделывала кренделя и виляла почетным местом. Fessade, chiapatta, [266]266
Порка (фр., ит.).
[Закрыть]порка буковыми палками. Он стиснул под столом ладони. О величайшее бастинадо [267]267
От исп. bastonada – наказание палками, в частности палочные удары по пяткам.
[Закрыть]a la mode!..
– Что говорит Гораций? – сказал он. – Тощий…
– Carpe diem, [268]268
Букв.: лови день, наслаждайся мгновением (лат.).
[Закрыть]– сказал Мандарин.
– Нет. Он говорит: тощий зад, плоский нос и большая ступня… [269]269
Гораций. Римская сатира. – М.: Худож. лит., 1957, с. 14–15.
[Закрыть]Человеческий зад, – продолжал он, – заслуживает высочайшего уважения, сообщая нам, так сказать, качество усидчивости. Великий Законник побуждал учеников развивать железную голову и свинцовое седалище. Греки, вряд ли стоит напоминать, высоко ценили его красоту; а прославленный поэт Руссо молился в храме Венеры Каллипиге. [270]270
От греч. Callipyge – Прекраснозадая.
[Закрыть]Римляне удостоили эту часть тела эпитетом «прекрасный», а многие полагали, что она может обладать не только красотой, но и достоинством и величием. Месье Павийон, академик, остроумец и племянник епископа, написал благороднейшую поэму «Metamorphose du Cul d'Iris en Astre». [271]271
«Превращение задницы в светило» (фр.).
[Закрыть]Ax, Катерина, – вскричал Белаква в порыве чувства, – ах, маленькая Катерина из Кордоны, как могла ты обнажить эти прелести для столь низкого наказания, – он прикрыл глаза, – а также для цепей и крючьев!
– Кто эта дама? – осведомился Мандарин.
– Не имею представления, – сказал Белаква, – соперница святой Бригитты.
– Никогда не слышал, чтобы ее раньше так называли.
– Ее никогда так раньше не называли, – воскликнул Белаква, – ее никогда так раньше не называли! Святая Бригитта без белой козы! Блаженная святая Бригитта без белой козы, связки ключей и веника!
– Посвятите ей поэму, – сказал Мандарин мрачно.
– О да, непременно, – крикнул Белаква, – длинную поэму об измученной заднице Катерины. Я был бы адамитом, – орал Белаква, не замечая возвращения своей траурной невесты, – я бы погиб во славу Юниперуса Гимнософиста! Юниперус Гимнософист! Я напишу длинную – предлинную поэму о Катерине и Юниперусе Гимнософисте, как он воображал ее непослушной весталкой в темной кисее, или Медузой в кармелитском Ессе homo, [272]272
Се человек (лат.). Здесь имеется в виду самое тяжелое покаянное наказание монахов-кармелитов под таким названием, во время которого кающийся посыпал голову пеплом, надевал терновый венец и наносил себе удары по спине.
[Закрыть]или истекающей кровью бесплодной королевой, кровоточащей как знамя, кровоточащей в дни луперкалий, и брал в руки розги…
– Подвинься к стенке, – сказала Мадонна.
– Это притон, – проворчал Мандарин, – пора уходить, найдем место, где выпивка дешевле.
– Или на алтаре, спартанским мальчишкой…
– Иди, – сказала Мадонна, – кто тебя держит?
– О, меня никто не держит, – сказал Мандарин с холодной учтивостью, – насколько мне известно. Не думаю, что меня кто-то держит.Во всяком случае, это не то, что вы назвали бы держать.Но, подумалось мне, быть может, наш друг не отказался бы разделить со мной, например, бутылку темного.
– Бутылку, – вздохнул юниперит, – бутылку темного «Экспорта».
– И-и-и-менно, – сказал Мандарин, – темного разливного, темного «Экспорта», как вам будет угодно.
– Оставь его в покое, – огрызнулась Мадонна, – иди и пей свое дурацкое вонючее пиво.
Мандарин просиял, потом его лицо нервно исказилось.
– Дорогая моя, – из центра гримасы донесся сдавленный смех, – это именно то, ты указала в точности на то, что я сам собирался предложить. Если, конечно, – добавил он, – ни у кого нет других предложений.
– Но почему бы тебе не побыть здесь, – сказал Белаква, – еще чуть-чуть, не станцевать еще раз с планеристом, а потом присоединиться к нам?
– Нет, – завыла Мадонна. Все были против нее.
– Ну же, Смерри, – увещевал Мандарин, – не валяй дурака. Мы всего-то идем за угол, в «Майстерс».
Чреватое неприятностями положение спас рекордсмен. Силы небесные, он действительно был подходящего роста, это стало очевидно, когда они прилепились друг к другу перед началом танца. Белаква прикрыл глаза.
Из-за плеча рекордсмена высунулось ее лицо.
– Schwein, – сказала она.
Перед выходом на улицу случилась мимолетная встреча. Белаква предложил Еве выпить штайнхегера.
– Если вы не возражаете, – сказала Ева, – я бы выпила капельку «Золотой воды».
– Мне все равно, – ответил Белаква, краснея, – что вы будете пить.
Мандарин поглощал тушеный сельдерей.
– Это не еда, – говорил он, – это эстетическое переживание.
Лицо Белаквы было очень красным.
– Это запутывает дело, – сказал он.
– Hast Du eine Aaaaaahnung! [273]273
Много ты понимаешь! (нем.).
[Закрыть]– вскричал Мандарин.
Белаква уронил сигарету на скатерть. Скоро он начнет говорить.
– Weib, – сказал он неожиданно и умолк. Мандарин поднял голову, его вилка застыла в воздухе.
– Благослови их Бог, – сказал он с чувством, – нам без них не обойтись.
– Weib, – сказал Белаква, – жирное, дряблое, мучнистое слово, сплошь груди и задница, буббуббуббуб, бббаччо, бббокка, чертовски хорошее слово, – он ухмыльнулся, – взгляните на них.
– Не знааааю, – тяжело вздохнул Мандарин.
– И как только, – продолжал Белаква, – вы осознали ее как Weib, можно посылать все к чертям. Я ненавижу лжецов, – сказал он в бешенстве, – которые приемлют путаницу, faute de mieux, помоги нам Бог, и ненавижу жеребцов, для которых путаницы не существует.
– Жеребцов? – эхом отозвался Мандарин. Он был поражен. – Лжецов? Путаница?
– Между любовью и таламусом, – воскликнул Юниперус, – как вы можете спрашивать, какая путаница?
Мандарин грустно вытер рот тыльной стороной ладони.
– Я только несведущий женатый человек, – сказал он, – обремененный семьей, но мне никогда не приходило в голову, что я – или лжец, или жеребец.
– И уж точно не любовник.
– Любовник, но только по-своему, возвышенно и благородно, – сказал Мандарин, – не по-вашему. Не лучше и не хуже. Просто не по-вашему. Я вас знаю, – молвил он, – грошовый недоносок, бесчестный высоколобый протестант от низкой церкви, задирающий свое ветхозаветное рыло на все, что вам недоступно.
– Хуже! – крикнул Белаква. – Гаже! подлее! мерзее!
Мандарин был в восторге.
– Ненавидящий плоть, – хохотал он грубо, – по определению.
– Я ничего не ненавижу, – сказал Белаква. – Она меня не увлекает. Она пахнет. Я никогда не страдал геофагией.
– Бабство и разврат, – усмехнулся Мандарин, – а как же наш старый приятель Воплощенный Логос?
– Не глумитесь надо мной, – воскликнул Белаква, – и не пытайтесь увести меня в сторону. Какой смысл говорить с иезуитом!
– Полагаю, вы сентиментальный пурист, – сказал Мандарин, – а я, слава Творцу и да святится имя Его в веках, – нет.
– То есть, – сказал Белаква, – вы можете любить женщину и использовать ее как личную уборную.
– Буде таково, – улыбнулся Мандарин, – ее желание.
– Можно и так и эдак.
– Ибо таково ее желание. – Внезапно он вскинул свои большие руки и опустил голову в жесте отчаянной мольбы. – Lex stallionis, [274]274
Контаминация латыни и английского: закон жеребцов (англ., лат.). Ср.: Lex talionis – закон равного возмездия (лат.).
[Закрыть]– сказал он.
– Уйди на конюшню! [275]275
Ср.: Уйди в монастырь. «Гамлет», акт III, сцена I. Перевод М. Лозинского.
[Закрыть]– сказал Белаква.
– Ваш словарь ругательств, – сказал Мандарин, – отличает случайность и литературность, и порой он меня почти развлекает. Но он меня не трогает. Вы не можете меня растрогать. Своей литературной математикой вы упрощаете и драматизируете все дело. Я не стану тратить слова на аргументы, происходящие из опыта, из внутренней декристаллизации опыта, так как тип вроде вас никогда не примет опыта, ни даже понятия опыта. Поэтому я говорю исключительно из потребности, потребности настолько же истинной, что и ваша, потому что она истинна. Потребности жить, потребности подлинно, серьезно и всецело отдаваться жизни своего сердца и…
– Забыли, как по-английски? – сказал Белаква.
– Своего сердца и крови. Реальность личности, имели вы наглость сообщить мне как-то, – это бессвязная реальность, и выражена она должна быть бессвязно. Вы же теперь требуете устойчивой архитектуры чувства.
Мандарин пожал плечами. Никто в мире не сумел бы так пожать плечами, и немного сыщется в целом свете плеч, как у Мандарина.
– Вы превратно меня поняли, – сказал Белаква. – Те мои слова никак не связаны с презрением, которое я испытываю к вашим грязным эротическим маневрам. Я говорил о вещах, о которых вы не имеете и не можете иметь ни малейшего представления, о бессвязном континууме, выраженном, скажем, у Рембо и Бетховена. Мне в голову пришли их имена. Элементы их фраз служат только для разграничения реальности безумных областей тишины, их внятность не более чем пунктуация в последовательности молчания. Как они переходят от точки к точке. Вот что я подразумевал под бессвязной реальностью и ее подлинной экстринсекацией. [276]276
Возможно, от исп. extrinseco – внешний, случайный, не присущий.
[Закрыть]
– В чем, – спросил Мандарин терпеливо, – я неправильно вас понял?
– Не существует, – сказал Белаква в ярости, – одновременной бессвязности, нет такой вещи, как любовь в таламусе. Нет слова для такой вещи, нет такой омерзительной вещи. Понятие неопределенного настоящего – простое «я есть» – это идеальное понятие. Понятие бессвязного настоящего – «я есть то-то и то-то» – абсолютно омерзительно. Я признаю Беатриче, – сказал он мягко, – и бордель, Беатриче после борделя или бордель после Беатриче, но не Беатриче в борделе или, точнее, не Беатриче и меня в постели в борделе. Понимаешь ты это, – кричал Белаква, – ты, старая мразь, понимаешь? Не Беатриче со мной в постели в борделе!
– Может быть, я и глуп, – сказал Мандарин, – но тем не менее я не могу…
– В тысячу раз лучше Хип, [277]277
Вероятно, Урия Хип – персонаж романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», олицетворение ханжества и коварства.
[Закрыть]– сказал Белаква, – чем беспристрастная мразь.
– Мне отвратительны, – убежденно сказал Мандарин, – вещи, о которых вы пишете.
– Чертовски отвратительны! – сказал Белаква.
– И ваш нелепый континуум! – Мандарин умолк, подыскивая слова. – Что дурного, – сказал он внезапно, – в том, чтобы быть счастливым с Беатриче в «Мистической розе», скажем, в пять вечера, а потом снова быть счастливым в № 69, скажем, в одну минуту шестого.
– Нет.
– Почему нет?
– Не говорите со мной об этом, – с мольбой в голосе произнес Белаква. Он посмотрел через стол на коралловое лицо. – Простите меня, – простонал он, – неужели вы не видите, что унижаете меня? Я не могу вам сказать, почему нет… не сейчас. Простите меня, – и он вытянул вперед руку.
Мандарин сиял улыбкой.
– Дорогой мой! – возразил он. – Смею ли я дать вам скромный совет?
– Конечно, – сказал Белаква, – конечно.
– Никогда и не пытайтесь сказать мне это.
– Но я и не должен, – сказал Белаква, несколько озадаченный. – Почему вы так говорите?
– Возможно, тогда нам придется вас оплакивать.
Белаква засмеялся.
Тогда иудей говорил:
– Смотри, как он любил ее, [278]278
Ср.: «Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его». От Иоанна, 11:36.
[Закрыть]– и засмеялся вместе с Белаквой.
Они все еще добродушно хихикали, когда явилась Мадонна, а по пятам за ней следовал Валтасар, ни больше ни меньше, как Валтасар.
– Просто собиралась сказать вам, – уведомила она их, – что вас приглашают в мастерскую Зауэрвайна.
– А потом, – сказал Валтасар, – я повезу вас всех на гору на своем новом авто. – Для Валтасара все складывалось как нельзя лучше.
Белаква изучил предприятие.
– J'ai le degofit tres sfir, [279]279
Мне он совершенно отвратителен (фр.).
[Закрыть]– сказал он.
– Что ты говоришь? – взорвалась Смеральдина.
– Сообщите господину Зауэрвайну, – надменно сказал Мандарин, – что сейчас мы не считаем возможным посетить его мастерскую, но мы более чем рады знать, что он дома. – Он удостоил присутствующих хитрым взглядом.
– Говори за себя, – огрызнулась Смеральдина, – разве ты еще не все испортил?
– Мое прекрасное новое авто, – вкрадчиво пел Валтасар. По крайней мере, вот мужчина, вдруг подумалось Смеральдине.
– Бел, – сказал Мандарин.
– Сэр, – отозвался Белаква.
– Еще один грязный и подлый немецкий механик.
– Altro che, [280]280
Еще один (ит.).
[Закрыть]– сказал Белаква.
– Что ты говоришь, – кипела Смеральдина, – что он говорит?
– Это по-португальски. Родная, сделай одолжение, скажи от меня господину Зауэрвайну или Зауэршвайну…
– Бел!
– Алло, – откликнулся Белаква.
– Ты идешь?
– А планерист? – сказал Белаква.
– Бел, ты ведь говорил, что хочешь посмотреть на портрет.
– Портрет?
– Черт побери, ты прекрасно знаешь, какой портрет, – грохнул Мандарин.
– Портрет, что он написал с меня в купальном костюме.
– Его рука, должно быть, дрожала, – сказал Мандарин, – когда он его писал.
– Скажи господину Зауэрвайну…
Смеральдина свистнула Валтасару и ринулась к двери.
– Смерри! – крикнул Белаква, с трудом поднимаясь на ноги.
– Прежде чем был Зауэрвайн, – изрек Мандарин, – есть мы.
– Какая муха ее укусила? – в отчаянии вопросил Белаква.
– С ней все будет в порядке, – сказал Мандарин. – Почему это происходит, я не знаю, она…
Голоса их будут отдаляться, возникать и умирать, слоги звучать, звучать и уходить, второй после первого, третий после второго, и так далее, и так далее, по порядку, пока наконец, после паузы, не прозвучит последний, и, если выпадет толика счастья, не наступит после последнего тишина…
– Что ж, – молвил Белаква, – наконец я могу сказать, что у меня на уме.
Мандарина сковала судорога внимания.
– В старом городе, – продолжал Белаква, – поправьте меня, если я ошибаюсь, сидит у окошка некая фройляйн Анита Фуртвенглер.
– Мудрость освещает меня, – воскликнул Мандарин, – я трепещу и полыхаю.
– Совершенство ее конечностей, – продолжал Белаква, – возносило меня к благодати иерусалимской. У меня есть адрес Авраамова лона.
– Zahlen! [281]281
Счет! (нем.)
[Закрыть]– позвал Мандарин. – Телефонируйте Траулеру!
– Истинная шекина, [282]282
Шекина – в эзотерическом иудаизме – имманентная миру «высшая благодать», «божественное присутствие».
[Закрыть]– сказал Белаква, – это Женщина.
– Настасья Филипповна!
– В свои последние дни, – сказал Белаква, оставляя на столе сдачу, – верно хотели вы сказать?
– Может быть, – ответил Мандарин, – может, вы и правы.
Рассвет. Белаква позвонил в мастерскую герра Зауэрвайна. В его сердце – иссиня-черный серафим, оно истекало кровью.
– Смеральдина?
– Она ожидает вас, – сказал герр Зауэрвайн с презрением.
– От rosa mundi, – объяснил Белаква, – к rosa munda. [283]283
Розы целомудрия… розе красоты (лат.).
[Закрыть]
 [284]284
[284]284
Фраза из второй части Седьмой симфонии Бетховена.
[Закрыть]
– Может быть, и так, – сказал герр Зауэрвайн.
Ей очень нравился ресторанчик на горе, и Траулер повез их туда на своем замечательном автомобиле, выше и выше, от городских помоек – к снегам. Там они снова поцеловались, пролив только Богу ведомо сколько слез. Чтобы утешить его, она заказала тарелку супа, она заказала его огненно горячим, а еще горячего шоколада и пирожных – чтобы утешить себя. Осознав, что она сделала, он произнес:
– Восхитительная моя, я не хочу супа, я не люблю суп.
– А что тогда?
– Ничего, – сказал он. – Я хочу смотреть на тебя. – Он расплакался пуще прежнего. – Я хочу, – говорил он сквозь слезы, – смотреть в твои глаза, в твои прекрасные глаза, а потом – из окна на утро, а потом снова на тебя. Я не хочу супа, я ничего не хочу.
– Немножко горячего супчику, – улещивала его она, – тебе ведь полезно, да ведь? Nik? [285]285
Нет (швейц., диал.), от нем. Nicht – Нет.
[Закрыть]
Вот чего он не выносил, так это когда его задабривали или выставляли идиотом в вопросах еды. Всякий суп был ему действительно ненавистен.
– Говорю же тебе, – сказал он раздраженно, – я не хочу эту чертову бурду, я не буду это есть. – Потом, обнаружив, что милая девочка обиделась, он сказал спокойнее: – Родная, позови его обратно, будь же хорошей девочкой и отмени заказ.
Она отменила суп. И набросилась на пирожные. Склонившись над тарелкой как кошка над молоком, она, бедная девочка, вовсю старалась не выглядеть жадной. То и дело она поднимала глаза от своего масляного пира, точно хотела убедиться, что он все еще здесь, готовый дарить и принимать поцелуи, вот только она утолит голод горячим шоколадом и пирожными. Она ела их изящно, вилкой, изо всех сил сдерживаясь, исполненная решимости не показаться ему жадной, часто останавливалась, осторожно вытирая губы бумажной салфеткой, а самый лакомый кусочек каждого пирожного оставляла на закуску. Она была как кормящаяся птичка, что радостно поклевывает пищу и вертит головкой посмотреть, все ли в порядке.
Закончив, она придвинулась ближе и принялась его лапать. Ему не хотелось, чтобы его лапали, его уже лапали сегодня столько, сколько он мог вынести, в другом месте; к тому же он рассчитывал, что герр Зауэрвайн и Валтасар, один или другой или оба вместе, ублажили Смеральдину. Могло ли случиться так, что они этого не сделали? Ладно, он на мгновение закрыл ей глаза руками, а потом отошел к окну и стал смотреть наружу. Может быть, худшее еще впереди, но в ту минуту он не мог позволить, чтобы его лапали и слюнявили, а тем более чтобы это делал идол. Все, что ему нужно, – это испытать несколько добрых уколов раскаяния и обдумать, как лучше вынести на воздух свой или, того лучше, их смешанный тихий вздох.
Спиной он ощущал ее раздражение и слышал, как она стала барабанить по столу ногтями. Она не оставила ни крошки от своего скромного кремово-шоколадного пира. Итак, почему он не идет? Он так и стоял спиной к ней, глядя в окно и игнорируя барабанную дробь. Его подташнивало от всех объятий, прижиманий и поцелуев, 0 т похотливого тисканья и блуждания рук… Вдруг ему стало дурно, он ощутил сильное желание выбежать вон и лечь в снег. Он прижал лицо к заиндевевшему стеклу. Это было чудесно, как глоток родниковой воды в темнице.
В пароксизме желания она затопала ногами, она задала дикий кошачий концерт.
– Бел, – мяукала она, – иди сюда. – Она отбила на столе марш вечерней зари. – Mus Dich haben, mus Dich haben… – Визг ее либидо снизился до гнусавого бормотания: – Haben, ihn haben… [286]286
Должна тебя иметь… иметь, его иметь (нем.).
[Закрыть]– Что она имела в виду и какое удовольствие намеревалась из этого извлечь, остается только догадываться.
Ощутив новый приступ тошноты, он перевел лицо на другой участок холодного стекла. За спиной продолжалась невнятная воркотня. Словно капли падали в пустое ведро. Еще секунда – и он облюет весь пол.
Вдруг он повернулся кругом, выносить это дольше было невозможно, и сухо сказал:
– Мне нехорошо, мне нужно на воздух.
Она затихла и сгорбилась, ее голова лежала на коленях, а тяжелая, выгнутая спина выглядела совсем не элегантно. По крайней мере, больше не капало.
– Иди, – сказала она, не двигаясь с места.
О, ей не стоит злиться, он и так собирается.
Вопрос в том, идет ли она с ним или остается тут.
– Нет, – сказала она.
Что ж, замечательно, как ей будет угодно, тогда – Aufwiedersehen. Можешь оставаться там, думал он, глубоко ступая в снег, можешь скулить и истекать жидкостью, пока коровы не вернутся домой. Женщину, орущую как кошка, думал он, жаль не больше, чем гусей, которые ходят босиком. Он зачерпнул полную горсть снега с верхушки сугроба и умыл лицо. Это вернуло его к жизни. Explicit, сказал он вслух, и gratias tibi Christe. [287]287
Определенно… благодарю тебя, Христос (лат.).
[Закрыть]Так оно и было. Хоть раз в жизни он сказал что-то правильно. Разумеется, не считая того, что ее частички сохранились в его сердце, как ветры в желудке человека, страдающего диспепсией, и время от времени давали о себе знать в виде сентиментальной отрыжки, которую никак не назовешь приятной. Она продолжала тревожить его как нечастые приступы сентиментальной изжоги, в общем и писать-то не о чем. Лучше, думал он, странная изжога, чем постоянные рези.
Так и случилось, не к чести их обоих. Она знала, и он знал, и Бог знает, что время пришло.
Конечно, в те несколько дней, что оставались до его отъезда в Гамбург, были еще слезы, и снова взаимные упреки, и снова слезы, и телячьи нежности, и беспорядочные ласки, и потная борьба, и фиаско – больное время. Но он знал, и она тоже. Все, кроме разве что объяснений и возни, кончилось тем новогодним утром, когда он шагнул из ресторанчика на горный воздух, предоставив ей начать новый год так, как ей заблагорассудится. У нее был обширный репертуар приемов и замечательное умение приспосабливаться. В последний раз он смотрел на нее сквозь пелену тошноты, и Смеральдина чудесным образом превратилась в икоту.
Одиночество она приправляла воспоминаниями о нем.
Удивительно, что все заканчивается будто в сказке или, по меньшей мере, все можно завершить именно так; даже самые негигиеничные эпизоды.