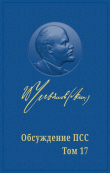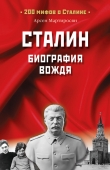Текст книги "Пройдённый путь (Книга 2 и 3)"
Автор книги: Семен Буденный
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 50 страниц)
...Остальные части округа – до 45 процентов состава, – заняты выполнением различных тыловых нарядов: охрана железнодорожной сети, караульная служба, продработы всякого рода и т. п. Все меры командования к уменьшению нарядов реальных результатов не дали..."
Много времени и сил отнимало обеспечение 1-й Конной продовольствием и фуражом. Каких-либо надежд на снабжающие органы мы не питали и заботились о себе сами. В течение лета конармейцы заготовили, то есть скосили, убрали, свезли в дивизии, 350 тысяч пудов сена. Эта цифра дает ясное представление, каких усилий при отсутствии всякой техники нам это стоило.
Войска округа оказали большую помощь населению в проведении сельскохозяйственных работ.
Засуха, постигшая Республику, и в особенности Юго-Восточный край, вынуждала нас напрячь все усилия к тому, чтобы успешно произвести уборку урожая и засев озимых хлебов и этим смягчить продовольственный кризис.
В целях оказания помощи крестьянству со стороны войск СКВО в предстоящих работах К. Е. Ворошилов приказывал:
Все части войск СКВО по возможности привлечь по месту расположения к сельскохозяйственным работам по соглашению между посевкомами и продорганами, с одной стороны, и командованием частей – с другой. При посылке частей на работы выделять из обоза свободное количество лошадей и инвентаря.
Политотделам, комиссарам и комячейкам приложить усилия к наиболее рациональному использованию красноармейских частей.
Посылка красноармейских частей на сельскохозяйственные работы производится в следующем порядке: в первую очередь обрабатываются огороды и земли семей красноармейцев; крестьянской бедноты; совхозы; земли остальных трудовых крестьян.
Обработка земли семейств красноармейцев производится через комиссию помощи семьям красноармейцев, куда вводятся представители части.
Все технические войска по соглашению с земельными продовольственными органами должны широко организовать ремонт сельскохозяйственных машин.
На работы назначаются все строевые и нестроевые части и учреждения, не имеющие оперативных заданий.
Каждая часть отпускается на работы на срок не менее двух недель и в любой момент может быть опять снята для выполнения боевых операций.
Всем комиссарам и командирам частей производить учет работы и сведения, засвидетельствованные посевкомами, передавать по команде.
Установить связь с местными земельными и продовольственными органами.
По далеко не полным данным, воинами 1-й Конной было обработано свыше 50 тысяч десятин пахотной земли, запахан 161 огород и 60 десятин огородной земли, очищено 14 садов, работало 10744 красноармейца и 17 152 лошади. Организованы 124 кузницы, в которых отремонтировано 434 плуга, 121 борона, 24 сеялки и 59 повозок. Перевезено 16424 пуда посевного материала, провеяно 2140 пудов зерна, перевезено 1500 пудов угля для упосевкома. Привлечено для ремонта земледельческих орудий и инвентаря 2 механических завода полностью, 3 – частично и 25 мастерских технических училищ.
В 4-й дивизии в период сенокосной кампании работало 1346 человек, 1881 лошадь, 84 косилки. Всего накошено 156 тысяч пудов сена. На субботниках выгружено 4 вагона продуктов и обмундирования. Производилась работа по устройству детского дома, очистке дворов, улиц. Запахано и засеяно 329 десятин земли.
В Чонгарской дивизии в субботниках участвовало 869 человек, 214 подвод. Выполото 6 десятин бахчи, вывезено 200 возов земли, погружено 2900 пудов зерна, производилась погрузка продуктов Поволжью. Запахано, засеяно 29 десятин.
14-я дивизия скосила 530 десятин сена, работало 396 красноармейцев, 395 лошадей, 22 сенокосилки. Убрано 8 десятин хлеба. В ходе субботников оборудован театр, отремонтировано несколько мостов, ссыпных пунктов, очищались дворы, улицы.
Особая кавбригада при Реввоенсовете кроме выполненных ею полевых работ отремонтировала мост через Дон и несколько школ.
Нас радовало, что конармейцы с большой охотой помогали крестьянам, ибо знали, что Советская власть на местах, в родных краях, проявляет заботу об их семьях. Если раньше родные бойцов жаловались в письмах на местные органы Советской власти, которые порой не интересовались условиями их жизни, то теперь таких писем почти не поступало. Основную роль в этом сыграли решения ЦК нашей партии об оказании помощи семьям красноармейцев.
Уместно будет привести такую справку. 29 ноября 1919 года, когда над Советской Республикой нависла серьезная угроза со стороны империалистов, вопрос об оказании помощи семьям бойцов был обсужден на пленуме ЦК РКП (б), который потребовал от местных партийных и советских организаций принять действенные меры.
Советское правительство увеличило денежные пособия семьям красноармейцев в два раза. Специальным постановлением Совета Народных Комиссаров было разрешено выдавать им ссуду на поддержание хозяйств. 2 октября 1919 года Совнарком принял декрет о льготах для лиц командного состава Красной Армии и их семейств. Только за первую половину сентября 1919 года Советское правительство выдало семьям красноармейцев полмиллиона пайков на сумму 30 миллионов рублей и ссуду десяти тысячам красноармейских семейств. Особую заботу о бойцах проявлял В. И. Ленин. По его указанию было послано циркулярное письмо ЦК РКП (б) отделам социального обеспечения об упорядочении работы по оказанию помощи семьям красноармейцев.
"Из всех частей армии, – говорилось в этом письме, – в политотдел поступают многочисленные жалобы товарищей красноармейцев, сражающихся на фронтах, о том, что находящиеся на родине их семьи голодают, не получая никакой помощи. Центральные органы приняли меры к тому, чтобы облегчить условия работы на местах. Инструкция о порядке обеспечения семейств красноармейцев Народного комиссариата социального обеспечения от 21 июня с. г. и правила выдачи ссуд семьям красноармейцев и добровольцев на поддержание их хозяйств Совнаркома от 25 июня ("Известия ВЦИК" № 133 и 136) упрощают все дело выдачи пайков и значительно уменьшают хлопоты семей красноармейцев.
Так как работа по оказанию помощи семьям красноармейцев возложена на отделы социального обеспечения, необходимо обратить на них самое серьезное внимание. Немедленно же выделить для работы в них энергичных, хороших работников. Работу в отделах социального обеспечения приравняйте к работе военной. Мобилизуйте для работы в них лучших товарищей, обяжите их почаще отчитываться перед нами, следите за их работой и своевременно направляйте. Немедленно же дайте свои указания уездным комитетам. Последние должны повести широкую кампанию по ячейкам, привлечь коммуны и использовать советские хозяйства для своевременной помощи семьям красноармейцев по уборке урожая.
ЦК ждет от вас срочных и энергичных мер к упорядочению и постановке на должную высоту дела помощи семьям красноармейцев"{80}.
Теперь обстановка резко улучшилась в пользу Советской власти, и мы испытывали чувство законной гордости, зная, что партия, Советское правительство и лично Владимир Ильич проявляют постоянную заботу о нас, военных, и старались, чтобы наша Конная армия, прошедшая немало огненных дорог войны, была всегда начеку.
Снова и снова жизнь заставляла нас думать о том, какой должна быть предстоящая военная реформа. Гражданская война закончилась. Страна получила возможность приступить к мирному труду, к практическому строительству новой жизни. Вместе с тем Ленин, партия призывали народ не притуплять бдительность, ни на минуту не забывать о грозящей нам опасности и беречь, совершенствовать Вооруженные Силы Республики Советов.
"Мы кончили одну полосу войн, – говорил В. И. Ленин, – мы должны готовиться ко второй; но когда она придет, мы не знаем, и нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придет, мы могли быть на высоте"{81}.
Красная Армия, ее отдельные части и соединения, армии, фронты, в целом Реввоенсовет Республики накопили за годы войны громадный опыт. Надо было в этом опыте разобраться, обобщить его, все положительное закрепить в соответствующих документах, вооружить ими академии, училища, школы, довести до всего командного и политического состава.
Предстоял перевод армии на штаты мирного времени. Как это лучше сделать? Какие виды Вооруженных Сил и рода войск сохранить, какие реорганизовать? Какие новые создать? Какими должны быть военная доктрина, военное искусство, тактика Красной Армии? Неотложная задача – разрабатывать новые уставы, общие для армии, для отдельных родов войск. Старые все были временными. Как разрабатывать? Что развивать, что отвергать?.. Тысячи вопросов требовали немедленного ответа.
Мы говорили о них в частных беседах, обсуждали на Реввоенсовете. Нас, конечно, глубоко интересовало, что думают по поводу этого другие военачальники, каково мнение Фрунзе, какова точка зрения ЦК партии, В. И. Ленина.
В газетах и журналах печаталось немало статей, авторы которых затрагивали вопросы военной теории, в какой-то степени пытались систематизировать учение об армии пролетарского государства. В обсуждение вопросов военно-теоретической мысли включились и видные военачальники. М. В. Фрунзе и С. И. Гусев опубликовали тезисы, предложенные ими X съезду РКП (б) в качестве проекта резолюции по военному вопросу. М. В. Фрунзе, в частности, писал, что одним из основных условий обеспечения максимальной мощи Красной Армии является превращение ее в единый организм, спаянный сверху донизу не только общностью политической идеологии, но и единством взглядов на характер стоящих перед Республикой военных задач, способов их разрешения и методов боевой подготовки войск. Это единство является прочным основанием плана боевой подготовки страны, управления войсками и их вождения. Свое конкретное выражение оно должно найти во всех военных наставлениях, уставах и руководствах.
Как-то перед совещанием начдивов ко мне зашел Климент Ефремович Ворошилов.
– Добрый день, Семен Михайлович, – весело сказал он, протягивая руку. Как вы тут без меня, не скучаете?
– Думаю вот подать в отставку с поста командарма Первой Конной...
– Что случилось?
– Замучила неопределенность. Сотни вопросов надо решать, а как? Питаемся разными слухами, и никто не может сказать определенно, какой должна быть Красная Армия и что ждет кавалерию.
– Только-то! А я-то подумал бог весть что... Кончается неопределенность, Семен Михайлович. Вот! – Ворошилов достал из планшета журнал "Армия и революция" и подал мне. – Здесь напечатана статья Михаила Васильевича Фрунзе о единой военной доктрине. Помнишь, еще в прошлом году, когда мы на X съезд партии собирались, он говорил, что работает над этим вопросом?
– Как же, помню.
– Прочитай. Очень важная статья. Кстати, мне передавали, что на очередном съезде партии вопросы военной доктрины, военного строительства, военной реформы будут обсуждаться военными руководителями, и нам надо тщательно подготовиться...
Статья захватила меня. Каждую страницу, каждый абзац прочитывал несколько раз, вдумывался в каждое положение, бесконечно радовался, когда мысли М. В. Фрунзе совпадали с моими. Чувствовал, как у меня прибавлялось сил.
Михаил Васильевич писал, что учение о "единой военной доктрине" имеет огромное практическое значение для Республики. Оно должно прежде всего учитывать характер тех боевых столкновений, которые нас ожидают.
Должны ли мы утвердиться на идее пассивной обороны страны, не ставя и не преследуя никаких активных задач, или же должны иметь в виду последние? В зависимости от решения этого вопроса определяются и характер строительства вооруженных сил, и система подготовки одиночных бойцов и крупных войсковых соединений, и военно-политическая пропаганда и вся вообще система воспитания страны.
Фрунзе давал в статье четкий ответ на вопрос, что такое единая военная доктрина.
"Единая военная доктрина", – писал он, – есть принятое в армии данного государства учение, устанавливающее характер строительства вооруженных сил страны, методы боевой подготовки войск, их вождение на основе господствующих в государстве взглядов на характер лежащих перед ним военных задач и способы их разрешения, вытекающие из классового существа государства и определяемые уровнем развития производительных сил страны"{82}.
Формулировка эта, со свойственной ему скромностью предупреждал Михаил Васильевич, отнюдь не претендует на конструктивную законченность и полную логическую безупречность. В конце концов, вопрос совершенно не в этом. Важно основное содержание понятия; что же касается окончательной кристаллизации его, то это дело дальнейшей практической и теоретической разработки вопроса.
Очень убедительно, на мой взгляд, М. В. Фрунзе показал в своей статье роль военной доктрины, какую играет она в главных капиталистических государствах, каким целям служит.
А какова же была военная доктрина русской армии времен царизма? И на этот вопрос в статье Фрунзе я нашел исчерпывающий и убедительный ответ. Кое-кто из военных в то время задавал себе вопрос: а была ли вообще своя военная доктрина у царской армии? Фрунзе отвечает: да, была. Доктрина хотя и неоформленная, но все-таки была, и, хотя она ничего положительного собой не представляла, все же и на этом отрицательном примере можно показать теснейшую связь ее с общим укладом жизни.
Политическая сторона этой доктрины сводилась к триединой идее православие, самодержавие, народность, вбивавшейся в головы молодых солдат на уроках печально знаменитой словесности. Что же касается военно-технической части ее, то она являлась простым заимствованием у иностранных оригиналов, лишь в ухудшенном издании. Но и в этом своем виде доктрина являлась мертворожденным детищем наших немногочисленных военных теоретиков, оставаясь чуждой не только всей массе рядового командного состава, но и ее высшим руководителям. Здесь ярко сказалось все беспримерное убожество, вся внутренняя гнилость и дряблость царской России последних времен...
В заключение этого раздела статьи Фрунзе делает некоторые общие выводы.
Первый из них – военное дело данного государства, взятое в его совокупности, не является самодовлеющей величиной и целиком определяется общими условиями жизни этого государства.
Второй – характер военной доктрины, принятой в армии данного государства, определяется характером общей политической линии господствующего класса.
Третий – основное условие жизненности военной доктрины заключается в ее строгом соответствии общим целям государства и тем материальным и духовным ресурсам, которые находятся в его распоряжении.
Четвертый – доктрины, способной быть жизненным организующим моментом для армии, изобрести нельзя. Все основные элементы ее уже даны в окружающей среде, и работа теоретической мысли заключается в отыскании этих элементов, в сведении их в систему и в приведении в соответствие с основными положениями военной науки и требованиями военного искусства.
Следовательно, основной теоретической задачей работников Рабоче-Крестьянской Красной Армии должно явиться: изучение характера окружающей нас общественной среды; определение характера и существа военных задач, вытекающих из существа самого государства; изучение условий, обеспечивающих их выполнение как в отношении материальных, так и духовных предпосылок; изучение особенностей строительства Красной Армии и применявшихся в ней методов борьбы. Согласование с требованиями военной науки и искусства всех тех особенностей, которые объективно и неразрывно связаны с характером нашего пролетарского государства и переживаемой нами революционной эпохи{83}.
"Правильно! – думал я. – Именно этим и нужно нам, военным, заниматься. Этому подчинять, с этим согласовывать всю нашу деятельность, готовя реформу Красной Армии..."
Мы еще раз встретились с Ворошиловым в конце этого дня.
– Ну как, прочитал? – спросил он меня. – Каково впечатление?
– Все правильно! – ответил я.
– Тогда берись за дело. Начинай.
– Сознаю и это. Только с чего начинать? За что браться в первую очередь?
– А за конницу, – снова усмехнулся Ворошилов. – Обобщай опыт Первой Конной, готовь проекты наставлений. Скоро правительство официально поручит нам это...
Я пожал плечами, немного смущенный. Легко сказать – обобщай опыт. Не раз уж убеждался, что обобщать его куда труднее, чем создавать, воевать.
Статья Фрунзе вызвала оживленные отклики. Ее горячо обсуждали всюду в воинских частях. Дискуссия по военному вопросу развернулась потом на XI съезде партии.
10. На съезде партии
27 марта 1922 года в Москве, в Свердловском зале Кремля, открылся XI съезд нашей партии. Мы с Ворошиловым были избраны делегатами съезда. Я – от Донской парторганизации, Климент Ефремович – = от коммунистов Северо-Кавказского военного округа.
Как всегда, собираясь в Москву, мы мысленно отчитывались перед партией, перед Владимиром Ильичем: все ли сделали, что нам поручила партия, что можно было сделать быстрее, лучше... С тревогой думали, увидим ли вновь Ильича, будет ли он на съезде. Мы знали, что он тяжело болен, работает с предельным напряжением сил. Вот не смог быть даже на Пленуме ЦК, заседавшем перед съездом, сообщив в ЦК, что присутствия и на Пленуме, и на съезде не выдержит. Как хотелось сказать Ильичу, чтобы он берег себя, свои силы. Ведь он был еще молод – чуть-чуть больше пятидесяти лет...
Устроившись в гостинице, мы с Ворошиловым встретились с М. В. Фрунзе, И. В. Сталиным, Г. К. Орджоникидзе и другими товарищами. Говорили о том, чем жил весь наш народ в те дни, – настала мирная передышка, и теперь все силы партия направляла на социалистическое строительство. Михаил Васильевич Фрунзе забросал нас вопросами о положении дел на Дону и Северном Кавказе. Михаил Васильевич, помнится, был весел, шутил. Я спросил, будет ли он выступать на съезде по вопросам Красной Армии.
– Вашу статью в журнале мы прочли с большим интересом, очень нужная статья, – заметил я.
– Правильно вы написали о единой военной доктрине, – добавил Ворошилов.
Фрунзе нахмурился:
– Да, вопрос о единой военной доктрине чрезвычайно важен для нас, и я был уверен, что мои тезисы на украинском совещании командного состава все поймут. Но нет... – И Михаил Васильевич с ожесточением добавил: – И кто против? Троцкий!
– А что он предлагает? – спросил Ворошилов.
– Оборончество. Мы, военные, не должны, мол, говорить своим бойцам, что при известных условиях пойдем в наступление за пределы нашей земли. А я говорю: должны! Комсостав должен это знать. Нельзя, недопустимо воспитание бойцов вести в духе оборончества...
К нам подошел Сталин. Я давно заметил, что Иосиф Виссарионович всегда считал для себя важным встретиться с военными, поговорить с ними. И в этот раз Сталин почти час беседовал с нами, и мы выкладывали ему все, что волновало нас.
Я спросил его о здоровье Владимира Ильича, будет ли он на съезде. Иосиф Виссарионович ответил, что Ленин выступит с политическим отчетом Центрального Комитета партии.
И вот настал волнующий день. Съезд открыл Владимир Ильич. Был он, как всегда, подвижен, стремителен. Делегаты приветствовали его бурной овацией. Забегая вперед, скажу, что в дни съезда Ленин беседовал со многими, в том числе и со мной, спрашивал, как на Дону укрепляется Советская власть, о чем говорят крестьяне и рабочие, как они переносят голод и т. д. И конечно же, Ленин интересовался положением дел в Красной Армии, в войсках Северо-Кавказского округа. Для меня было большой честью слушать вождя мировой революции, отвечать на его вопросы. Ленин еще и еще раз наказывал нам повышать боеготовность армии, укреплять в ее рядах дисциплину, организованность.
Открыв по поручению ЦК партии XI съезд РКП (б), Владимир Ильич сказал:
– Товарищи! Мы собрались на этот съезд впервые после целого года, в течение которого интервенция и нашествия капиталистических государств, по крайней мере в наиболее прямой их форме, не тревожат нас. Первый год мы имеем возможность посвятить свои силы настоящим, главным, основным задачам социалистического строительства.
В этом отношении мы сделали, несомненно, только, первые шаги. Но я уверен, что если мы сделанное нами оценим с надлежащей трезвостью и не побоимся глядеть прямо в глаза действительности, не всегда приятной, а иногда и совсем неприятной, то все трудности, которые только теперь вырисовываются перед нами во всем размере, все эти трудности мы, несомненно, преодолеем...
После краткой вступительной речи Владимира Ильича был избран президиум. В него вошли Ленин, Сталин, Петровский, Чубарь, Фрунзе, Орджоникидзе, Ярославский, Ворошилов и другие. М. В. Фрунзе и К. Е. Ворошилов председательствовали на ряде заседаний. Потом, при выборах, оба вошли в состав нового Центрального Комитета.
Съезд собрался в трудный для Родины момент. К последствиям войны прибавилась засуха 1921 года, охватившая районы, которые были житницей России. Голодали миллионы людей. Трудно было с финансами. Не хватало сырья, топлива. "Бедствия, которые обрушились на нас в этом году, – говорил Владимир Ильич, открывая съезд, – были едва ли еще не более тяжелыми, чем в предыдущие годы.
Точно все последствия войны империалистической и той войны, которую нам навязали капиталисты, точно все они собрались вместе и обрушились на нас голодом и самым отчаянным разорением. Эти бедствия сейчас далеко еще не преодолены. И никто из нас не рассчитывает, что их можно одолеть быстро"{84}.
И все-таки восстановление хозяйства шло относительно высокими темпами. Сама жизнь показывала, что генеральная линия партии верна, что нэп приносит первые плоды. Оживление мелкой промышленности создавало предпосылки для возрождения крупной. По сравнению с 1920 годом выпуск продукции в конце 1921 года увеличился на 42 процента. Донецкие шахтеры дали стране 350 миллионов пудов угля вместо 272 в 1920 году. Росла добыча нефти. Продолжалось строительство первенцев ГОЭЛРО. Все это укрепляло уверенность народа в социалистическом строительстве, в преимуществах советской системы хозяйства.
Было много трудностей, много недостатков в работе центрального аппарата и на местах, мы порой очень плохо хозяйничали – и об этом говорилось на съезде. В отчетном докладе ЦК В. И. Ленин обрисовал положение – и международное и в стране – таким, каким оно было на деле.
Он говорил со съездом, со всей партией, а каждому казалось, что Ленин беседует лично с ним, разъясняет обстановку, учит, как следует работать дальше, как надо вести социалистическое строительство в данных условиях.
В. И. Ленин подвел итоги первого года новой экономической политики. Прошедший год подтвердил правильность этой политики. На новой экономической основе укреплялся союз рабочих и крестьян. Партия добилась перелома на хозяйственном фронте. И пусть пока еще очень медленный, но верный хозяйственный подъем начинался! Всесторонне оценив обстановку, В. И. Ленин с полным основанием заявил с трибуны съезда:
"Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от имени партии: достаточно! Та цель, которая отступлением преследовалась, достигнута. Этот период кончается или кончился. Теперь цель выдвигается другая перегруппировка сил"{85}.
Говоря о перегруппировке, Ленин имел в виду подготовку наступления на частнохозяйственный капитал. Для победы в этом наступлении есть все объективные условия. Но надо уметь ими воспользоваться, надо повести за собой массу. Надо укрепить смычку между социалистической промышленностью и крестьянской экономикой. Основным звеном, центральной задачей партии сейчас является развитие торговли между городом и деревней, подбор и расстановка кадров.
А как остро, непримиримо Ильич вскрывал и критиковал наши недостатки!..
– За этот год мы доказали с полной ясностью, что хозяйничать не умеем, – бросал в притихший зал Владимир Ильич. Больно было слышать такие слова, да что поделаешь, когда в них горькая правда.
– Это основной урок. Либо в ближайший год мы докажем обратное, либо Советская власть существовать не может. И самая большая опасность – что не все это сознают... – И далее Ленин говорил: – Нет, извините, не в том дело, что крестьянин, беспартийный рабочий не учились коммунизму, а в том дело, что миновали времена, когда нужно было развить программу и призвать народ к выполнению этой великой программы. Это время прошло, теперь нужно доказать, что умеете практически помочь хозяйству рабочего и мужика...
Я поднял голову. В зале стояла напряженная тишина. Делегаты жадно смотрели на Ленина. А Владимир Ильич призывал их не успокаиваться на том, что везде в государственных трестах и смешанных обществах ответственные и лучшие коммунисты. Толку от этого нет никакого, если они не умеют хозяйничать. В этом смысле они хуже рядового капиталистического приказчика, прошедшего школу крупной фирмы. А мы не сознаем этого. Не хотим учиться. Это, подчеркивал Владимир Ильич, есть коммунистическое чванство! Вопрос в том, что ответственный коммунист – и лучший, и заведомо честный, и преданный, который каторгу выносил и смерти не боялся, – он должен учиться хозяйничать, торговать. Учиться даже от вчерашнего рядового приказчика, который это дело знает. Владимир Ильич призывал учиться с азов, подчеркивал, что в новом, необыкновенно трудном деле надо уметь начинать с начала несколько раз: начали, уперлись в тупик – начинай снова – и так десять раз переделывай, но добейся своего! Если ты ответственный коммунист, если ты это поймешь, тогда ты своей цели достигнешь, ибо научиться этому можно!..
То, о чем говорил Ленин, касалось всех нас, в том числе и военных.
"Какое дело знаю помимо военного? – размышлял я. – Теперь – курс на мирное строительство, и если раньше только воевал, то сейчас надо активно помогать тем, кто строит, кто ликвидирует последствия войны. Беречь Родину это не только воевать, но в мирное время укреплять ее могущество".
Да, Красная Армия в тяжелой неравной борьбе с силами реакции спасла социалистическую революцию. Красные бойцы, перенеся неслыханные тяготы, разутые, раздетые, разбили многотысячные армии империалистов и белогвардейцев... Но враг еще действовал, давали о себе знать и остатки белогвардейского охвостья. Враги всех мастей срывали мероприятия партии по хозяйственному возрождению важнейших районов страны. Мы не все, что могли, сделали в свое время в борьбе с бандитами, вели эту борьбу порой без должного напряжения.
А все ли мы делаем теперь на Северном Кавказе? Разъяснили ли комсоставу, коммунистам, всем бойцам, какая возложена на нас ответственнейшая обязанность – всемерно укреплять Советскую власть на Дону и Северном Кавказе, в самые сжатые сроки ликвидировать бандитизм, дать возможность населению – рабочим, крестьянам – мирно трудиться, залечивать раны войны, строить новое общество? Многое зависит от нас. Мы тоже отвечаем за положение в округе, за все те бедствия, какие терпит население из-за хозяйственного хаоса и произвола бандитов.
Вернусь в округ, решил я, подниму на ноги всех командиров, весь политаппарат, будем работать по-новому, так, как учит Владимир Ильич, с полным напряжением сил, с полной мерой ответственности за порученное дело, с оценкой работы по достигнутым практическим результатам!..
У некоторых делегатов, в том числе и у меня, невольно возник вопрос: а надо ли так вот прямо, так открыто говорить о наших недостатках? Ведь мировая буржуазия все это узнает, использует против нас... Видимо, этот "беспокойный" вопрос не был новым для В. И. Ленина. Он дал на него прямой и ясный ответ: пролетариат не боится признать, что в революции у него то-то вышло великолепно, а то-то не вышло. Все революционные партии, которые до сих пор гибли, гибли оттого, что зазнавались и не умели видеть, в чем их сила, и боялись говорить о своих слабостях. А мы не погибнем, потому что не боимся говорить о своих слабостях и научимся преодолевать слабости.
Весь гвоздь теперь в том, отмечал Владимир Ильич, чтобы авангард не побоялся поработать над самим собой, переделать самого себя, признать открыто свою недостаточную подготовленность, недостаточное умение. Весь гвоздь в том, чтобы двигаться теперь вперед несравненно более широкой и мощной массой, не иначе как вместе с крестьянством, доказывая ему делом, практикой, опытом, что мы учимся и научимся ему помогать, его вести вперед. Такую задачу при данном международном положении, при данном состоянии производительных сил России можно решить, лишь решая ее очень медленно, осторожно, деловито, тысячу раз проверяя практически каждый свой шаг.
Ночью после первого заседания я долго не мог уснуть. Лежал с открытыми глазами и думал. Совсем недавно мы звали народ свергнуть капитализм, бороться за социалистическую революцию, за коммунизм. Сейчас пришло время практически начинать строительство социализма.
Как? С чего начинать? Теперь эти вопросы ясны – учиться делать самые будничные вещи. Налаживать производство, поднимать сельское хозяйство. Расширять, по-новому строить народное образование, открывать столовые, рестораны, бани, больницы, родильные дома – все, что нужно для человека сейчас и что будет нужно всегда и при коммунизме. И делать так, чтобы любое наше предприятие было лучше, чем у капиталиста. Сюда сейчас переносится фронт борьбы с капитализмом...
Но нам, военным прежде всего, нельзя при этом забывать об опасности новой военной интервенции.
Международная буржуазия, подчеркивал В. И. Ленин в докладе на съезде, ищет повода, чтобы задушить рабоче-крестьянскую Республику. В этом ей помогают ее агенты – меньшевики и эсеры. Надо быть начеку, крепить Красную Армию, идя при этом на известные жертвы.
В числе других съезд рассматривал вопросы и сельского хозяйства. В. И. Ленин встречался с членами секции по работе в деревне, советовал больше вдумываться в практические дела. Некоторые товарищи пытались изобретать различные рецепты для быстрейшего, по их мнению, подъема сельскохозяйственного производства. Владимир Ильич решительно отверг эти скороспелые рецепты. В письме к члену секции заместителю наркома земледелия Н. Осинскому I апреля 1922 года Ленин писал, что всего насущнее теперь не связывать себе рук какими-либо предписаниями, директивами или правилами, пока мы недостаточно собрали фактов хозяйственной жизни на местах, пока мы недостаточно изучили действительные условия и потребности теперешнего крестьянского хозяйства. По мнению Ленина, резолюция партсъезда, основанная на выводах работы сельскохозяйственной секции, могла быть примерно такой:
"1. Партсъезд, заслушав сообщение о работах сельскохозяйственной секции, принимает его к сведению; констатирует недостаточность собранного материала об опыте работы на местах и ставит первоочередной задачей как партии, так и, комфракций во всех совучреждениях тщательный сбор и внимательнейшее изучение местного практического опыта.