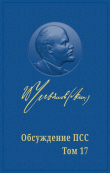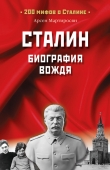Текст книги "Пройдённый путь (Книга 2 и 3)"
Автор книги: Семен Буденный
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 50 страниц)
Красные части приступили к выполнению возложенных на них задач. Противник оказывал сильное противодействие. 20 сентября батальон 195-го полка у станции Динской завязал бой с бандой численностью до тысячи сабель и штыков при шести – восьми пулеметах. Под давлением превосходящих сил противника батальон понес значительные потери и отошел к разъезду Дорис, что в 12 верстах северо-восточнее Краснодара по железной дороге Краснодар Тихорецкая. В районе Динской сосредоточивались и Другие части. Но они находились в движении и принять участие в бое с бандитами не смогли.
Противник занял станцию, пополнил свои ряды как насильно мобилизованными, так и за счет добровольцев из окрестных станиц, враждебно настроенных к Советской власти.
Реввоенсовет округа принял решение как можно быстрее покончить с Кубанской повстанческой армией. Общее руководство боевыми действиями поручили мне.
19 сентября я выехал в Краснодар. Меня сопровождали начальник политического управления округа О. У. Сааков, Г. А. Трушин и П. П. Зеленский.
20 сентября я получил приказ за № 1590/оп. В нем говорилось, что в целях лучшей согласованности действий наших частей для полною уничтожения банд РВС СКВО приказывает члену РВС СКВО и командарму 1-й Конной т. Буденному вступить в командование всеми войсками, расположенными на Кубани и Черноморье.
Еще до нашего приезда в Краснодар командир 22-й стрелковой дивизии И. Шарсков предпринял меры к обеспечению боевой готовности гарнизона Краснодара. К Динской подходила 3-я кавбригада нашей 6-й Чонгарской дивизии, переданная в оперативное подчинение командиру 22-й стрелковой дивизии. О том, что Динская занята противником, командир бригады П. Л. Рудчук не знал. В 13 часов походная застава кавбригады внезапно подверглась обстрелу ружейным и пулеметным огнем, после чего бандиты перешли в атаку.
Бригада вступила в бой. Он длился около трех часов. Превосходство в силах было на стороне врага, и части кавбригады отошли в станицу Старо-Мышастовскую. Рудчук запросил штаб дивизии, почему в Динской вместо наших частей оказался противник. Начальник штаба дивизии ответил, что находившийся в Динской наш батальон разбит противником и небольшие остатки его отходят на разъезд Дорис, куда выехал Буденный.
В это время я действительно на бронепоезде направлялся туда, чтобы взять на себя непосредственное руководство боем. Однако подъехать к Динской не удалось: железнодорожный путь был загроможден потерпевшим крушение товарным поездом. Там же мы встретили группу красноармейцев из разгромленного противником стрелкового батальона. Они рассказали, что батальон почти целиком погиб и что белых очень много.
Пришлось вернуться в Краснодар. Встретились с секретарем Краснодарского обкома тов. Эпштейном и членом кубанского военного совещания по борьба с бандитизмом, председателем Краснодарского областного исполнительного комитета тов. Полуяном. Начдив 22-й доложил нам, что, по данным разведки, части Кубанской армии намереваются уйти в старые места – предгорья Кавказского хребта. В 18 часов 21 сентября они начали переправляться на южный берег Кубани в районе станицы Воронежской и сосредоточиваться у переправ реки Белой.
Чтобы не дать противнику возможности переправиться через Белую, я приказал начдиву срочно занять частями дивизии все переправы и броды по западному берегу реки, начиная от ее устья и до станицы Белореченской включительно, а 3-й кавбригаде – форсированным маршем перейти в станицу Васюринскую, где переправиться на южный берег Кубани и сосредоточиться в районе Адамия, ведя усиленную разведку в направлении села Белое.
И начдив и командир кавбригады умело выполнили приказание. Противник оказался в тупике: с севера – Кубань и Тшитское водохранилище, с запада река Белая, с востока – река Лаба. Оставалось закрыть тупик с юга и окончательно разгромить пресловутую Кубанскую белогвардейскую армию. Закрыть тупик могла быстрее всех 2-я кавбригада нашей 4-й кавдивизии, расположенная в станице Курганной, хотя для этого ей пришлось бы сделать переход в 75 километров.
Но связи ни с бригадой, ни со штабом 4-й кавдивизии не было. Единственная возможность передать приказ – сбросить пакет с самолета. Однако, как назло, погода была нелетная. К тому же находившиеся у нас двухместные английские "хэвиленды", как говорили тогда, держались на "веревочках".
Еще не выветрился из памяти случай, который произошел в апреле 1921 года на полевом аэродроме в районе Екатеринослава. Подниматься в воздух я тогда собирался впервые и особого удовольствия не испытывал. Однако надо же было когда-то принять воздушное крещение. Когда самолет был готов, вместе с начальником штаба армии и адъютантом я выехал на аэродром.
Самолет стоял с заведенным мотором. Около него – группа летчиков, в том числе и командир отряда Ингаунис и его начальник штаба. Командир отряда доложил, что самолет к полету готов. Зеленский не знал, для кого подготовлена машина, и, когда увидел, что собираюсь лететь я, стал категорически возражать. Пришлось заметить ему, чтобы он не вмешивался не в свои дела. Тогда он заявил, что мотор самолета неисправен, работает с перебоями и что надо сначала опробовать его в воздухе. Зеленский вообще не имел никакого понятия о моторах и старался лишь выиграть время. Я уже хотел было садиться в самолет, но командир отряда, обращаясь ко мне, сказал, что, раз сделано такое заявление, надо все проверить. Летчик поднял машину в воздух, сделал несколько виражей и... разбился. Мотор действительно отказал.
И вот теперь вызвался лететь Зеленский. Я долго не давал согласия, мы как будто поменялись ролями. Хоть бы самолет был другого типа и погода летная, а то ведь тот же. Однако Зеленского я вынужден был все же послать,
В приказе начдиву 4-й предписывалось самым спешным образом сосредоточить 2-ю кавбригаду Е. И. Горячева в селе Белом и уничтожить находившиеся в районе Николаевка, Преображенская белогвардейские части. Движение совершать с мерами походного охранения и крупными разведывательными отрядами с пулеметами на тачанках. О принятых мерах доложить мне в штаб 22-й стрелковой дивизии в Краснодар, использовав все возможные средства связи.
Рано утром 22 сентября мы выехали на краснодарский аэродром. Самолет готов к полету. Пилотировать его назначен летчик Иванов. Командир авиационного отряда, фамилию которого не помню, доложил, что для полета в станицу Курганную и обратно в Краснодар потребуется не больше часа. Видимость хорошая, но полету мешает сильный порывистый ветер. Зеленский сел в самолет, прикрепился ремнем к сиденью. Я стоял неподалеку и никак не мог справиться с охватившим меня волнением. С нетерпением ожидал взлета. Когда наконец самолет поднялся в воздух и лег на заданный курс, я облегченно вздохнул. Но стоял и смотрел в небо до тех пор, пока самолет не скрылся.
После завтрака мы вновь собрались в штабе дивизии. На станции Пластуновской стоял бронепоезд № 82, который командующий СКВО К. Е. Ворошилов направил туда из Торговой. Мы решили сегодня же перебросить его на участок станицы Воронежской, где противник мог переправиться на южный берег Кубани. Прикрыть бронепоездом эти переправы было необходимо на тот случай, если бы перехваченный кавбригадой в районе села Белое противник попытался уйти не на юг, а на восток.
Прошел час. Самолету время возвратиться. Однако доклад об этом не поступал. Я начал тревожиться. Оставаться в штабе уже не мог, вызвал машину и вновь поехал на аэродром. Командир авиаотряда доложил, что пока нет оснований беспокоиться. Самолет с открытой кабиной. Очень легкий. Его сносит с курса. Командир авиаотряда был прав. Через некоторое время в небе показалась черная точка, послышался шум мотора. Я невольно улыбнулся: самолет летел так, словно его качали морские волны, а когда подлетел к аэродрому, никак не мог совершить посадку. Только сбавит скорость, его относит в сторону. Так продолжалось несколько раз. Наконец самолет сел. Вышел Зеленский и доложил, что задание выполнено. Прежде чем сбросить приказ, как было условлено, самолет снизился и сделал круг над станицей.
Дальнейшие события развертывались очень быстро.
Противник ночью 22 сентября двинулся из станицы Преображенской на село Белое, чтобы переправиться здесь через реку и уйти в горы. Как потом выяснилось, выход сюда кавбригады не был известен противнику. Около 23 часов 22 сентября колонна бандитов подошла к селу. Наши бойцы встретили ее сильным огнем пулеметных тачанок. Банда потеряла свыше двухсот человек убитыми, 110 человек было взято в плен. В числе убитых – начальник штаба армии полковник Алексеев. Генералу Пржевальскому с личной охраной удалось бежать.
После разгрома под Белой остатки повстанческой армии начали разлагаться. Казаки расходились по домам. Генерал Пржевальский с конвойной сотней ушел на побережье Черного моря, видимо отказавшись от идеи "автономной Кубани". Впоследствии разошлась по домам и конвойная сотня, а сам генерал с немногими приверженцами, в том числе сотниками Захарченко и Лукьяненко (он же генерал Степной), присоединился к банде Ющенко.
Разгром банды Пржевальского частями 1-й Конной повлиял на общее настроение казачества, которое совершенно потеряло веру в контрреволюционных вожаков и стало оставлять их. Участники шаек разбегались по станицам или сдавались на милость победителя. Но борьба с бандитизмом на этом еще не закончилась. После разгрома Кубанской повстанческой армии продолжалась ликвидация отдельных самостоятельно действовавших отрядов. Их насчитывалось около 60 общей численностью 940 штыков и 2350 сабель при 49 пулеметах.
Наиболее опасным среди организованных банд был отряд полковника Трубачева. Его преследовали части 1-й Конной. Операция приняла затяжной характер. Но после того как полковник Трубачев был убит, отряд распался на отдельные банды. Две из них – Турчина и князя Джентимирова – сдались.
С переходом 2-й кавдивизии в район Моздока начались операции против банды Сычева. Части дивизии изрядно потрепали банду и загнали ее в кизлярские буруны. Вскоре ввиду явной бесперспективности и неотвратимой угрозы истребления в банде началось брожение. В апреле Сычев и еще несколько главарей были убиты своими же.
В Ейском отделе наиболее крупной была операция против банды Дубины. Для ликвидации ее были выделены части 22-й дивизии, 3-й кавполк Особой кавбригады. Однако преследование банд войсковыми частями, оперативное окружение не давали положительных результатов. Разбиваясь на маленькие отрядики, пользуясь балками, находя приют у кулаков, бандиты ускользали. Ейское чрезвычайное военное совещание приняло ряд других мер. Местные партийные и советские органы усилили разъяснительную работу, чтобы расслоить население, приблизить к Советской власти все здоровые, трудовые элементы.
Определенную роль в этом сыграли и выездные сессии ревтрибунала округа. Ведь открытые заседания трибунала не только демонстрировали энергичную, твердую и решительную политику по отношению к бандитам и тем, кто им активно способствует. Они широко разъясняли населению голую, неприкрытую сущность бандитизма. Наглядно, неоспоримыми фактами показывали, о чьих интересах пекутся бандиты, и определенную часть населения, стоящую за Советскую власть, психологически вооружали против бандитизма. Кроме того, деятельность выездных сессий благотворно сказалась и на работе местных партийных, советских органов.
Немалую помощь в ликвидации бандитизма оказали части ГПУ и ЧОН. Они умело выслеживали бандитов и вели с ними борьбу как самостоятельно, так и совместно с войсковыми частями. Немало было среди них смелых бойцов, храбрых и умелых командиров. Один из них, Хуцистов Николай Петрович, особо отличился в боях с бандитами, за что и был награжден серебряными часами от Дончека и от ВЧК Юго-Востока России – золотыми часами.
Биография Хуцистова похожа на тысячи других. Родился в крестьянской семье в одном из сел Северо-Осетинской АССР. Молодым парнем включился в борьбу за Советскую власть на Северном Кавказе. Сначала был сотрудником особого отдела Терской чрезвычайной комиссии, а затем его назначили командиром кавалерийского эскадрона особого отдела ВЧК 10-й армии, а позже 8-й армии. Хуцистов зарекомендовал себя смелым командиром, которому дороги завоевания Октября. В 1921 году, когда Конармия пришла в Ростов, Хуцистов служил командиром кавалерийского эскадрона Дончека. Для выполнения ответственных заданий по ликвидации бандитизма кавэскадрон был переформирован в 6-й отдельный дивизион войск ВЧК. Позже дивизион под командованием Хуцистова был передан в распоряжение пограничных войск Украинского округа для охраны границы. После демобилизации Николай Петрович Хуцистов долгое время работал в административном отделе Донисполкома в Ростове-на-Дону. С 1942 года живет в Москве.
В ликвидации бандитизма большую помощь оказал нам отряд Логинова. О нем следует рассказать подробнее.
В. Г. Логинов – бывший шахтер Парамоновских шахт. Участвовал в боях за Новочеркасск и Ростов, когда там были белогвардейцы. Мне не раз приходилось встречаться с ним. Был Логинов с виду неказистый: невысокого роста, раскосый. Любил острую шутку и отличался исключительной храбростью. К моменту прихода Конармии на Северный Кавказ Логинов служил в 16-й кавалерийской дивизии в должности командира полка. Когда я узнал, что Логинов ушел в горы и, по существу, оказался в одном стане с бандитами, удивился и даже вначале не поверил.
"Как мог бывший шахтер пойти к бандитам? – размышлял я. – Нет, тут что-то другое".
Не раз пытался хоть как-нибудь связаться с Логиновым, даже в горы посылал своих людей, но тщетно – Логинова никто не видел, хотя разведка доносила, что он где-то в горах.
И вот однажды ко мне приехал военком Терской губернии А. Беленкович, который очень хорошо знал Логинова и в свое время дружил с ним. Поздоровались.
– Какие вести привез?
Беленкович молча достал из кармана письмо и протянул мне.
– Василий Логинов написал и просил передать вам.
– А где он сам? – спросил я, беря письмо.
– Там... – И Беленкович качнул головой в сторону гор.
– Понятно... – Письмо было коротким. Логинов убедительно просил, чтобы я встретился с ним. Утверждал, что никогда не был врагом Советской власти. И если сейчас, мол, оказался среди бандитов, то не по своей воле.
Спрашиваю Беленковича, как попало к нему письмо. Он ответил, что привез ординарец Логинова.
– Так... Ну, а что вы думаете по этому случаю?
– Я верю всему, что написал Логинов, – сказал Беленкович. – Просил бы вас назначить ему встречу. Находясь в горах, Логинов может помочь нам в уничтожении ярых врагов Советской власти.
– Да, пожалуй, вы правы.
Через несколько дней я встретился с Логиновым. Это было на горе Чилик-два, что находится среди скал, неподалеку от Теберды. Мы поехали на встречу втроем – я, Беленкович и мой ординарец Гуров. Логинов встретил меня у подножия горы. С ним было человек двадцать вооруженных людей.
Гуров невольно потянулся к оружию. Я это заметил и хотел было сказать, чтобы не вынимал наган, но меня опередил Беленкович:
– У нас с ним уговор – за оружие не браться.
Гуров глянул на меня, но я качнул головой, и он, убрал руку.
Логинов подъехал ко мне верхом на лошади и представился:
– Василий Логинов, командир полка шестнадцатой кавдивизии!
Я усмехнулся:
– Были в дивизии, а сейчас числитесь в бандитах. Логинов качнулся, как от удара, но быстро взял себя в руки и громко ответил:
– Был и есть красный командир!
Я спросил, зачем он хотел видеть меня.
Логинов кивнул на вершину горы.
– Поедемте, там и поговорим. – Помолчал с минуту, потом добавил: – Я верил, что вы, товарищ Буденный, не побоитесь сюда приехать.
– А чего бояться? Вы же сами говорите, что не бандит, а красный командир.
Поднимались долго, наконец взобрались на вершину. Здесь стояли огромные стога сена. Возли них и остановились. Логинов слез с коня.
– Тут мы и поговорим...
Логинов опустился на зеленую траву. Присел и я. К нам подошли Беленкович и Гуров.
– Так я слушаю вас, Логинов.
– Я ведь не бандит, товарищ Буденный, – заговорил он. – Мой полк тоже в свое время ходил в горы. Но тогда мне не повезло: куда ни пойдем, бандитов уже нет – то ли им кто доносил о нас, то ли разведка что-то путала. Словом, вернулся я с операции, доложил начальству, мол, так и так. А начальство не поверило: "Что-то от вас, Логинов, уходят бандиты. Странная штуковина". И даже кое-кто в штабе дивизии намекнул: а не связался ли я сам с бандитами. Слух пошел, будто я уже и не красный командир. А ночью как-то меня разбудил боец и сказал, что нас хотят арестовать. Я мигом собрал людей и – в горы...
Я верил Логинову и не верил. Долго молчал, потом сказал, что зря он старается выгородить себя. Даже если он не грабил и не убивал, Советская власть не может простить дезертирство. За это Логинов будет нести ответ по всей строгости революционного закона. Однако, добавил я, еще не мало банд скрывается в горах, и, если Логинов поможет их уничтожить, этим искупит свою вину.
– Я так и сделаю, товарищ Буденный, – горячо и искренне сказал Логинов. – Теперь только понял, какую большую ошибку совершил.
– Вы оставайтесь пока здесь, в горах, присматривайтесь к бандитам, а потом дайте знать, и мы совместными усилиями будем громить их, – сказал я Логинову.
Логинов выполнил обещание. За время с 5 по 8 ноября 1921 года с его помощью было уничтожено пять банд – есаулов Богрова и Сапрунова, подполковников Юдина и Кривоносова и сотника Рендскова. 22 декабря Логинов сам уничтожил банду Конарева и Овчинникова, а позже и весьма активную банду Кожевникова, Всего Логиновым было разбито до 15 мелких и крупных банд.
...В конце ноября 1921 года усталый прозябший я вернулся из очередной командировки – ездил несколько дней по Северо-Кавказскому военному округу. Решил прямо с поезда идти на доклад к командующему округом К. Е. Ворошилову. Однако в штабе его не застал.
Поздно вечером неожиданно раздался телефонный звонок члена Реввоенсовета округа А. С. Бубнова. Он сообщил мне, что надо ехать в Нальчик, где открылся I Учредительный съезд Советов Кабардинской автономной области.
– На съезд, – сказал Бубнов, – приглашены командующий войсками Северо-Кавказского военного округа, член ЦК РКП (б) и ВЦИК К. Е. Ворошилов, вы и я. Москва считает нашу поездку в Кабарду, – добавил он, – обязательной, и мы задержались, только ожидая вас.
Предстоящее посещение Нальчика привлекало меня возможностью провести в Кабарде работу по пресечению вылазок контрреволюции и встретиться на съезде с передовыми людьми мужественного кабардинского народа. В памяти у меня были еще свежи первые встречи с горцами в дни, когда Конармия добивала на Северном Кавказе деникинские войска. Хлебом и солью, с открытым сердцем встречали горцы бойцов Красной Армии. О них мне много рассказывал и Г. К, Орджоникидзе – человек большого сердца и светлого ума, великий поборник братского единства горских народов, вложивший много сил и труда в укрепление нерушимого союза трудящихся Кавказа с русскими рабочими и крестьянами.
Утром 26 ноября мы отправились в вагоне Реввоенсовета округа в Нальчик. Наш железнодорожный транспорт в то время еще находился в тяжелом состоянии. Некоторые участки железнодорожного полотна только восстанавливались, многие мосты ремонтировались, станции в большинстве своем были разрушены. Но главное – не хватало топлива, воды и квалифицированных паровозных бригад. Поэтому ехали мы медленно, подолгу стояли, особенно на разъездах. Дорога нас подвела, и на съезд мы запоздали. Однако эта неприятность была значительно сглажена теплой встречей с населением Нальчика и делегатами съезда.
К. Е. Ворошилов и я 28 ноября выступали на очередном заседании съезда. От имени Центрального Комитета Коммунистической партии и ВЦИК РСФСР Ворошилов приветствовал делегатов и в их лице весь свободный кабардинский народ. Климент Ефремович отметил, что Великая Октябрьская социалистическая революция принесла всем народам, входившим в Российскую империю, не только социальное освобождение, но и национальное раскрепощение. Он остановился на политике Коммунистической партии в национальном вопросе и сказал, что эта политика обеспечивает великое единство всех народов Российской Федерации в борьбе за светлое будущее, за экономический и культурный прогресс трудящихся.
К. Е. Ворошилов рассказал делегатам съезда о трудностях, переживаемых тогда нашей страной после разрушительных первой мировой и гражданской войн, и указал на задачи, которые предстоит решить, чтобы преодолеть голод и разруху, восстановить и вновь построить фабрики и заводы, больницы и учебные заведения, наладить производство сельскохозяйственных продуктов. Он выразил уверенность в том, что I Учредительный съезд Кабардинской автономной области будет способствовать решению этих неотложных задач.
Затем слово предоставили мне. Я приветствовал делегатов съезда от имени Революционного Военного совета Северо-Кавказского военного округа. Заранее написанной речи у меня не было. Я разговаривал с делегатами съезда так, как часто говорил с конармейцами.
Существо моего разговора сводилось прежде всего к оценке нашей великой победы в Октябрьской революции и гражданской войне. Я говорил, что эта победа досталась нам ценою большой крови, за нее мы заплатили сотнями жизней наших лучших товарищей, что трудящиеся нашей страны победили под руководством Коммунистической партии и при поддержке международного рабочего движения. Однако, подчеркнул я, надо еще удержать завоеванную власть, так как мировая буржуазия вместе с выброшенными за пределы России русскими помещиками и капиталистами не согласились с нашим строем, зорко следят за нами и всегда готовы к нападению.
Победив буржуазию политически и на военном фронте, мы должны победить и экономически, т. е. ликвидировать разруху и восстановить народное хозяйство. Если мы успешно решим эту злободневную задачу, сказал я делегатам съезда, то никакие враги нам не будут страшны. В заключение своего выступления я призвал трудящихся области к бдительности, к борьбе против бандитизма и скрытой контрреволюции – агентов империализма, мешающих строить нам новую жизнь.
После окончания вечернего заседания съезда мы с К. Е. Ворошиловым и А. С. Бубновым в сопровождении большой группы делегатов отправились на отведенную нам квартиру. Проходя по центральной улице, я заметил, что она называется Воронцовской.
– Это не годится, – сказал я рядом шагавшему со мной Б. Э. Калмыкову{79}. – Теперь на Кавказе нет царских наместников, каким был князь Воронцов. Кавказ принадлежит ныне народу, а город Нальчик – трудящимся. Вот и надо назвать эту улицу по-новому, например, Кабардинской.
Все одобрили мое предложение, а на следующий день, направляясь на очередное заседание съезда, мы заметили на многих домах свежевыструганные дощечки, на которых чернилами либо химическим карандашом было написано: "Ул. Кабардинская".
29 ноября около полуночи, когда К. Е. Ворошилов и А. С. Бубнов уже отдыхали, в дверь моей комнаты постучали. Вошел Б. Э. Калмыков. Он извинился за беспокойство и попросил уделить ему несколько минут.
– Днем, во время работы съезда, некогда было поговорить по душам, смущенно сказал он и продолжал: – Посоветоваться надо, Семен Михайлович, вот и осмелился потревожить, заметив у вас огонек.
Калмыков опустился на предложенный мною стул и взволнованно проговорил:
– Дело-то какое начинаем! Шутка ли сказать: автономия Кабарды, своя государственность! Справимся ли мы, Семен Михайлович, как нужно?
– Да, Бетал Эдыкович, дело мы все начали большое. Смотрите, наш русский простой народ в союзе с угнетенными народами всего Российского государства совершил великую революцию и разгромил всех ее могущественных врагов. Разве можем мы сомневаться, что не сумеем управлять страной? Ленин верит в силы и способности рабочих и крестьян. Значит, и у нас не должно быть сомнений.
– Сомнений, конечно, больших нет. Но все новое кадров мало, опыт отсутствует, – сказал Калмыков.
– Трудно будет поначалу – русские братья помогут, партия в беде не оставит. Люди-то у нас хорошие. Освобожденные от гнета национальных и иноземных эксплуататоров, они будут с энтузиазмом строить новую жизнь.
– О, народ у нас замечательный и Советской власти преданный.
Бетал Эдыкович начал рассказывать о борьбе кабардинцев и балкарцев против деникинцев, говорил долго и воодушевленно.
– Бедняки наши не просто ждали своих освободителей – бойцов Красной Армии. Они шли в повстанческие отряды и боролись против белогвардейцев. У нас нет условий для действий контрреволюционных банд.
Я вспомнил, как так же горячо, с искренней радостью весной 1920 года рассказывал мне об отношении горцев к Красной Армии и Советской власти Г. К. Орджоникидзе:
– Горцы с приближением частей Красной Армии повсеместно свергают белогвардейских правителей и ждут представителей центральной Советской власти. Я сообщил об этом В. И. Ленину, – говорил Григорий Константинович, и знаю, что Ильич будет рад этим вестям.
Это я слышал от Орджоникидзе в конце марта 1920 года, проезжая через Ростов в Москву. Это же теперь я слышал от Бетала Калмыкова – выдающегося сына кабардинского народа. Он мне определенно нравился. Прежде всего нельзя было не заметить природного ума Калмыкова, его способности говорить просто и убежденно, ему нельзя было не верить. Калмыков свободно разбирался в сложных политических вопросах, прямо, по-большевистски говорил о недостатках, видел великие перспективы нашего роста и поэтому так горячо брался за строительство новой жизни. Позже я убедился, что Бетал Эдыкович не только достойно проявил себя как политический деятель, но и как прекрасный организатор, хороший хозяйственник, в общем, человек, обладающий разносторонними способностями и неутомимой энергией. Но что мне особенно понравилось – это безграничная любовь Калмыкова к своему народу, к простым людям, его страстное стремление посвятить всего себя без остатка благородному делу борьбы за счастье трудящихся Кабарды.
В те ночные часы я узнал от Бетала об истории Кабарды, о кабардинском народе, его жизни и обычаях столько, сколько бы не почерпнул ни из одной книги. Наблюдая, как он, сильный, плотно сбитый, мягкими пружинящими шагами прохаживался по комнате, то вспыхивая от возмущения подлостью эксплуататоров, то бурно радуясь победам народа, я испытывал к нему чувство уважения и вместе с тем заражался желанием всеми путями содействовать трудящимся советской Кабарды в строительстве новой жизни.
Б. Э. Калмыков просил меня посоветовать ему, как практически претворить в жизнь ряд решений, принятых съездом Советов. Среди них, я помню, он пожелал выслушать мое мнение по территориальному вопросу о распределении земельных угодий, об укреплении местных органов власти и оказании материальной помощи населению, пострадавшему от войны. Говорили мы и о возможности воссоединения в единой автономной области кабардинцев и балкарцев и были едины в том, что это возможно только при проявлении желания к братскому союзу обоих народов. Для укрепления местных советских органов я советовал привлекать в них активных участников борьбы против белогвардейщины, особенно служивших в частях Красной Армии и партизанских отрядах.
Мы прощались с Калмыковым, как хорошие друзья. Я обещал интересующие его вопросы поставить на заседании Реввоенсовета округа. Утром такое заседание состоялось с участием Бетала Эдыковича. Наши советы, а затем практическая помощь Кабарде через ЦК партии, Совнарком РСФСР и ВЦИК были полезными. И после, когда Б. Э. Калмыков приезжал в Москву, он всегда заходил к нам, получая поддержку в различных вопросах строительства Кабардино-Балкарии.
30 ноября было последним днем работы съезда. Делегаты съезда избрали первый исполнительный комитет Кабардинской автономной области во главе с верным сыном кабардинского народа Б. Э. Калмыковым. В состав облисполкома были также избраны Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и я.
Бандитизм на Северном Кавказе явно шел на убыль, однако мы не могли еще доложить в Москву, что он ликвидирован полностью. Борьба с бандитами отвлекала много сил у Реввоенсовета округа, а также у местных партийных и советских организаций. Бандитизм мешал хозяйственному возрождению края. Продолжали поступать сведения, что бандиты держат связь с заграничными эмигрантскими кругами и в отрядах скрываются эмиссары Врангеля. Мы вынуждены были считаться с возможностью высадки вражеского десанта с моря. Тогда бандитизм вспыхнул бы с новой силой. Об этом 9 сентября 1921 года мы специально докладывали Главкому.
Вероятней всего, десант мог высадиться в районе Анапа, Джобская. В связи с этим 22-й дивизии была поставлена задача удержать (в случае невозможности сбросить десант в море) до подхода подкрепления Новороссийск и перевалы на путях к Краснодару с линии Анапа, Тенгинская и запереть при содействии курсантов перевал Гойтх.
Две дивизии 1-й Конной и Особую бригаду предполагалось сосредоточивать в районе Краснодар, Васюринская. При первом известии о высадке десанта в район Новотатаровской по железной дороге перебрасывались одна-две бригады 2-й Донской стрелковой дивизии.
Задача 1-й Конной в случае десанта – быстрым выдвижением небольших (в соответствии с местными условиями) частей с пулеметами закупорить перевалы Тубинский, Белореченский, Марух, Клухорский, Нахарский, дабы не дать противнику выйти с побережья в Майкопский, Лабинский, Баталпашинский отделы.
Мы явно видели несомненную зависимость бандитского движения от общего положения Республики. Малейший неуспех Советской власти в масштабе страны, осложнение на ее границах – и деятельность контрреволюционеров оживлялась. Нам приходилось все время быть предельно настороженными, ни на секунду не ослаблять бдительность.
Вот о чем доносили мы в Москву 2 ноября 1922 года:
"К настоящему времени обстановка в округе представляется в следующем виде: около 55 процентов состава войск ведет непрерывную борьбу с бандитизмом в окружном масштабе... К началу ноября силы повстанцев вновь увеличились. Сейчас насчитывается 95 бандитских организаций силою примерно в 4500 сабель и около 1000 штыков при 60 – 70 пулеметах.
...Основной и главнейшей целью повстанцев остается стремление свергнуть Советскую власть, почему всякое осложнение обстановки в масштабе Республики, будь то в Закавказье или на западной границе, в разной мере, но отзовется немедленно в СКВО в смысле открытых восстаний, каковые неизбежно прикуют части СКВО к округу...