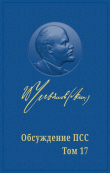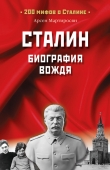Текст книги "Пройдённый путь (Книга 2 и 3)"
Автор книги: Семен Буденный
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 50 страниц)
Пока 4-я кавдивизия уничтожала банду Каретникова, все другие продвигались по своим маршрутам. 6, 11 и 14-я кавдивизии переправились через Днепр. Все пути движения отрядов Махно в западном направлении мы отрезали.
На Левобережье с 4-й дивизией взаимодействовали другие соединения Красной Армии.
На основные бандитские шайки, находившиеся в районе Гуляй-Поля, наступали из района Мелитополь, Ногайск части 4-й армии, из Мариуполя, Бердянска – резервные части, из района Волновахи – 2-я Конная армия и 3-й конный корпус.
Местность в районе Гуляй-Поля сильно пересеченная, со множеством оврагов. Это позволяло бандам Махно скрытно передвигаться, уходить из-под ударов Красной Армии. У махновцев была неплохо организована разведка. Махно и главарям его бандитских шаек активно помогали кулаки, родственники бандитов.
Получив сведения о сосредоточении частей Красной Армии вокруг Гуляй-Поля и Пологов, Махно собрал свои основные силы в кулак и начал быстро продвигаться в район большого населенного пункта Андреевка, что южнее Цареконстантиновки. Казалось, он сам залезал в мешок, попадая в окружение частей Красной Армии. Была полная возможность разделаться с ним. Но опять-таки Махно прорвался на север, посадив пехоту на тачанки. Разгромив по пути обозы 3-го конного корпуса, он быстро устремился на Павлоград. Достигнув района Большого Янисаля, Махно круто повернул на запад, пересек железную дорогу севернее Пологов и, потеснив подразделения 378-го стрелкового полка, занял населенные пункты Рождественское и Воздвиженскую.
Ведя боевые действия против бандитских отрядов Махно, мы все острее ощущали необходимость перестройки организации нашей армии. Часть людей надо было демобилизовать, чтобы они могли активно включиться в хозяйственное строительство. В важности этой меры мы еще раз убедились, когда вошли в контакт с местными партийными и советскими органами губернии, которые прилагали все силы к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия войны, а главное – хорошо подготовиться к весеннему севу.
Мы часто и подолгу беседовали с Климентом Ефремовичем о положении в стране, о назревшей необходимости бросить все силы на хозяйственное строительство. Здесь, ведя борьбу с бандитизмом, мы со всей очевидностью видели, что политика военного коммунизма изжила себя, приносит большой вред делу установления правильных взаимоотношений со средним крестьянством и ее надо отменить.
В свое время нам прислали стенограмму речи Владимира Ильича, произнесенной им на III Всероссийском съезде профсоюзов 7 апреля 1920 года. Мы внимательно прочитали ее. Жизнь неопровержимо показала, насколько прав был Ильич, как глубоко знал положение дел, как далеко видел вперед.
Владимир Ильич говорил, что крестьяне наполовину труженики, наполовину Собственники, и для того, чтобы привлечь их на свою сторону, нужна единая воля, по каждому практическому вопросу нужно, чтобы все действовали, как один. Единая воля не может быть фразой, символом. Ленин требовал, чтобы это было на практике. Единство воли на войне выражалось в том, что, если кто-либо свои собственные интересы, интересы своего села, группы ставил выше общих интересов, его клеймили как шкурника, расстреливали, и этот расстрел был оправдан. Про эти расстрелы, отмечал Ильич, мы открыто говорили, мы говорили, что мы насилие не прячем, потому что мы сознаем, что из старого общества без принуждения отсталой части пролетариата мы выйти не сможем. Вот в чем выражалось единство воли. И это единство воли на практике осуществлялось в наказании каждого дезертира, в каждом сражении, в походе, когда коммунисты шли впереди, показывая пример. Теперь задача – попробовать применить к промышленности, земледелию это единство воли... Присоединение территорий с крестьянско-кулацким населением также требует нового напряжения пролетарских сил. Мы стоим перед новым соотношением пролетарских и непролетарских масс, социальных и классовых их интересов. Только насилием здесь ничего не сделаешь. "Нужны исключительно организация и моральный авторитет, – говорил Ленин. – Из этого вытекает наше абсолютное убеждение, которое мы на партийном съезде вынесли и которое я считаю своим долгом отстаивать.
Наш основной лозунг – больше и ближе к единоличию, побольше трудовой дисциплины, подтянуться, работать с военной решительностью, твердостью, самопожертвованием, откидывая интересы групп, цехов, все частные интересы принося в жертву! Без этого победить, мы не можем. А если мы проведем в жизнь это решение партии, проведем его, как один человек, через три миллиона рабочих, а потом через десятки миллионов крестьян, которые будут чувствовать моральный авторитет, силу людей, жертвовавших собою за победу социализма, мы будем абсолютно и окончательно непобедимы"{63}.
Конармейцы с исключительным интересом и вниманием встречали каждое выступление вождя революции В. И. Ленина, каждую его статью. Читали и перечитывали, а потом приходили к военкому и говорили: "Послушай, комиссар, а хлеба-то у нас будет в достатке, сам Ленин пишет. Только вот от нас, мужиков, дисциплину требует. А ну-ка растолкуй, что к чему..."
Мы, разумеется, прилагали все усилия, чтобы призывы вождя доходили до сердца бойцов, чтобы политработники считали это главным в партийно-политической работе, мобилизовали людей на практическое решение стоящих задач.
Партия совершенствовала хозяйственный аппарат, управление промышленностью, сельским хозяйством, предстояли крупные реформы в армии. Нам также следовало подумать, как улучшить структуру 1-й Конной, что оправдало себя в боях, что в новых условиях является лишним, ненужным. Каждую минуту нас могли спросить ЦК партии, Владимир Ильич, как мы относимся к реформам, какова наша точка зрения, каковы предложения по реорганизации армии вообще, нашей Конной в частности.
В долгих беседах с Климентом Ефремовичем мы старались предусмотреть, как будет развиваться дальше военное дело, какое место займут конные массы в общей организации Вооруженных Сил, какую роль отведут им будущие полководцы.
Забота о 1-й Конной, об улучшении ее структуры применительно к войне будущего натолкнула нас на мысль провести специальное заседание Реввоенсовета, пригласить на него начальников дивизий и управлений и послушать, что скажут они.
Заседание продолжалось два дня. Уже одно это говорит о том, насколько оно было своевременным, насколько перспектива дальнейшего развития Вооруженных Сил волновала всех. Присутствовало на заседании около 60 человек, главным образом ветераны войны.
Председательствовал Ворошилов{64}. Вопросы обсуждались такие:
1) О назначении Конармии.
2) Численность, состав и характер Конармии.
3) Сокращение армии и проведение такового.
4) О воздухофлоте.
5) Об учреждениях и отделах армии и их реорганизации.
6) Штадив и штабриги.
Мы долго и во всех деталях обсуждали – какая структура явится лучшей для нашей армии, сколько оставить дивизий, нужно ли объединять их в корпуса; сколько в каждой дивизии должно быть бригад, полков, в полку – эскадронов; численность эскадронов. Нужна ли Особая бригада. Сохранять ли оба штаба основной и полештарм. Каждое предложение рассматривали со всех сторон. В конце концов, пришли к такому выводу. Корпусное строение не нужно. В армии иметь пять дивизий и одну отдельную кавбригаду. Состав из четырех дивизий крайне неудобен. Приходится бросать в бой все дивизии и часто Особую бригаду. 5-я дивизия необходима как крупный армейский резерв. В дивизии три бригады, шесть полков, каждый – из пяти эскадронов. В эскадроне – 135 сабель.
Разведкоманды создать при дивизиях, так как для полка это непосильная нагрузка. Раньше они находились при полках лишь потому, что во время боев нельзя было широко поставить обучение при дивизиях. При штабах дивизии ввести штабные эскадроны.
Стремительность действий 1-й Конной, быстрая переброска ее с одного театра военных действий на другой, маневренность – все это заставило нас, по сути дела, создать два штаба: основной, со всеми присущими ему функциями, и полевой, для оперативной работы. Когда армии дали полную самостоятельность в вопросах обеспечения конников всем необходимым, основной штаб чрезвычайно разросся и, несмотря на это, его работа не удовлетворяла нас. Часто штаб, как, например, во время операций в Крыму, оставался обезличенным. Находясь в Лубнах, за сотни километров от фронта, да еще при недостатке средств связи, он лишался возможности оперативно выполнять свои функции.
При основном штабе находились отделы: политический, артиллерийский, авиационный, снабженческий, ветеринарный, медицинский, продовольственный, связи, формирования, прокуратура, трибунал, оружейные и ремонтные мастерские. Подобная структура не соответствовала новой обстановке. Следовало ее упростить. Прежде всего надо было отказаться от тяжеловесного заготовительного аппарата. Военное ведомство могло принять нас теперь на централизованное снабжение. Было бы целесообразным передать армию в распоряжение Главкома, сделав ее легкой, свободно оперирующей.
Была еще одна большая проблема. Мы получили приказ Реввоенсовета Республики уволить с военной службы конармейцев допризывного возраста и всех старше 30 лет.
Это означало, что нам предстояло уволить почти 10 тысяч человек! Число увольняемых колебалось от 15 – 16 процентов в боевых частях до 50 в запасном артдивизионе и службе снабжения. Среди увольняемых было немало опытных командиров. Нужно было подготовить им замену. Конармейцы нередко приходили к нам со своими лошадьми. Как быть в этих случаях? Отпускать в запас конников с лошадьми? Но это ослабило бы армию. Кроме того, у многих лошади погибли. Решили выплатить за лошадей компенсацию.
Увольнение из армии значительного числа конников могло отрицательно сказаться на настроении остающихся, вызвать падение дисциплины. Командиры полков просили Реввоенсовет разрешить краткосрочные отпуска. Ведь многие красноармейцы несколько лет не были в родных краях, не виделись с семьями...
Перенесение центра тяжести с военных вопросов на хозяйственные, особенности борьбы с бандитскими отрядами, предстоящее увольнение старослужащих ставили в повестку дня необходимость резкого улучшения партполитработы, изменение ее форм и методов. Характерным было выступление на Реввоенсовете военного комиссара 4-й кавдивизии. Он сказал, что теперь уже нельзя обращаться к конармейцам с одними лозунгами, с голыми призывами бить врага, наступать, строить и т. д. Бойцы уже не очень охотно слушают митинговые речи, требуют деловых, серьезных разговоров о положении в стране, о путях ее развития, детального ответа на возникающие у них вопросы. Глубокий интерес воинов вызвала, например, появившаяся книга "Азбука коммунизма".
– Бойцы берут за полы военкомов, – сказал комиссар, – и заставляют читать им эту книгу.
– Нужно уничтожить неравенство одних частей перед другими, – затронул очень щекотливый вопрос заместитель начальника политотдела армии Шульга. Когда приходишь в плохо одетые, а то и просто оборванные эскадроны и пытаешься беседовать с бойцами, призываешь мириться с трудностями, с недостатками в снабжении, они указывают на привилегированное положение эскадронов Реввоенсовета и спрашивают, почему допускается это...
Поступило очередное донесение от Тимошенко. Он продолжал преследовать махновцев. Однако без ощутимых результатов. Приходилось с досадой отмечать, что ни 4-я дивизия, ни другие части, несмотря на ряд строгих предупреждений, не избавились от настроений благодушия. Командиры частей продолжали считать махновцев несерьезным противником. Когда поступали сведения, что где-то появились бандиты, туда высылался отдельный отряд – эскадрон, рота. Махновцам не стоило большого труда ускользать от них.
В первых числах декабря мы получили приказ Революционного Военного Совета Республики № 2660/532{65}, из которого узнали, что для объединения в одних руках всех вооруженных сил, находящихся и действующих на территории Украинской Советской Республики, Революционный Военный Совет Республики постановил учредить должность командующего всеми вооруженными силами на Украине и назначил им командующего Южным фронтом М. В. Фрунзе с оставлением его в ныне занимаемой должности. Отныне Фрунзе подчинялись все полевые войска, управления и учреждения, находящиеся и действующие на территории Украины, Харьковский и Киевский военные округа, запасная армия, войска Трудовой армии, войска ВНУС и военные учреждения, расположенные на территории этих округов. Фрунзе в качестве уполномоченного Реввоенсовета Республики с правом решающего голоса был введен в состав Совнаркома Украинской Советской Республики. Приказ был подписан заместителем председателя РВСР Склянским, Главкомом Каменевым и членом РВСР Данишевским.
– Правильное решение, – произнес Ворошилов, прочитав приказ. – Теперь больше порядка будет. Когда в одних руках сосредоточивается вся полнота власти, легче командовать войсками.
11 декабря Михаил Васильевич прислал нам директиву № 0505, в которой, в частности, указывал:
"Несмотря на ранее отданные распоряжения и указания, в операциях 4-й кавдивизии усматриваю действия отдельных мелких групп. Приказываю подготовить общий удар, имея целью окружение и полное уничтожение банд, отнюдь не допуская скучивания последних высылкой отдельных эскадронов"{66}.
Спустя четыре дня, 15 декабря, мы получили новый приказ Фрунзе войскам Южного фронта № 0529. В нем командующий войсками Украины отмечал, что загнанный в деревню Андреевку и окруженный здесь нашими войсками Махно вечером 14 декабря, воспользовавшись преступной небрежностью сторожевого охранения некоторых частей, прорвался на север. Успела уйти вся масса его конницы и, по-видимому, на тачанках большая часть пехоты. Около полуночи 14 декабря прорвавшаяся группа достигла пункта Конские Раздоры.
В числе других армий Реввоенсовету Конармии Фрунзе приказывал, продолжая ликвидацию бандитов в Новомосковском и Константиноградском уездах отдельной кавбригадой Новотного, не позднее 17 декабря выдвинуть сильную конную группу (4-я кавдивизия и Особая кавбригада) в район Ново-Воскресенка, Ново-Николаевка, Григорьевка (к юго-западу от Чаплине). Задача группы – не дать махновцам уйти на северо-запад и при первом же появлении уничтожить их.
16 декабря части Красной Армии настигли Махно в районе Федоровка, Акимовка. Бой длился несколько часов. Бандиты оказывали упорное сопротивление. Конные отряды махновцев предпринимали одну атаку за другой. Наконец сопротивление бандитов было сломлено. Спешенные отряды Махно частью были уничтожены, частью рассеялись. Но и в этот раз Махно удалось вырваться из окружения. С конницей в 400 – 500 сабель он бежал, оставив 8 орудий, много пулеметов, оружия и большие обозы. А части Заволжской бригады захватили даже черное знамя Махно.
7. Поездка в Москву
1
В Москве открывался VIII Всероссийский съезд Советов. Мы с Климентом Ефремовичем были избраны делегатами съезда. Перед отъездом собрали командный состав, обсудили первые итоги борьбы с махновщиной.
Особенных достижений пока, к сожалению, не было. Махно, разделившись на несколько отрядов, по-прежнему ускользал от частей Красной Армии. В соответствии с последним приказом М. В. Фрунзе мы потребовали от командиров вести боевые действия против Махно так, чтобы не терять с ним соприкосновения ни на одну минуту. Обнаружив банды, немедленно и стремительно атаковать, не ожидая никаких указаний, не считаясь ни с какими разграничительными линиями. Больше и смелее действовать по ночам. Пассивное стояние бригад и полков на месте в ожидании каких-то указаний будем считать преступлением. Напомнили, что командюж потребовал от 1-й Конной к 16 декабря закончить ликвидацию бандитов в районах Новомосковска и Константинограда, наметили ряд практических мер для повышения мобильности частей.
Врио командарма 1-й Конной оставался начальник штаба Л. Л. Клюев, поэтому у нас с ним был особый, долгий разговор.
Утром 17 декабря мы поездом отправились в Москву. Радовались, что снова увидим Владимира Ильича, горячо обсуждали, о чем нужно в первую очередь доложить ему, какие вопросы поставить перед ЦК и правительством. Приехали в Москву под вечер. В столице было снежно и морозно. На Киевском вокзале нас встретил военный комендант города Москвы. Он сказал, что нам забронированы места в гостинице "Националь".
– Прошу, товарищи, в машину, я вас отвезу, – предложил комендант.
– А что, Семен Михайлович, давай прокатимся на машине, а то все на лошадях, – улыбнулся Ворошилов.
И вот мы уже едем по тихим улицам Москвы. Темно вокруг, лишь кое-где тускло горят фонари.
В гостинице мы с Ворошиловым расположились ^в одном номере. Поужинав, ознакомились с обстановкой. Узнали, что в этой гостинице находятся делегаты из Петрограда, Ростова, с Кубани. Были здесь Фрунзе, Бела Кун, Орджоникидзе. В эти дни мы втроем сфотографировались – Ворошилов, Фрунзе и я; фотография у меня сохранилась.
Было это так. К нам в номер зашел Орджоникидзе. Последний раз мы с ним виделись в Ростове, в марте. Обнялись, как старые друзья. Серго показался мне уставшим. Но вот он улыбнулся и сказал:
– А я вам тут подарок привез от бакинских рабочих. – Григорий Константинович достал из чемодана два кавказских кинжала и два пояса к ним с набором орнамента. – Это – в знак уважения бакинского пролетариата к 1-й Конной армии.
Нас тронул подарок Серго.
Мы горячо поблагодарили его, рассказали о делах армии.
– А вы с Фрунзе еще не виделись? – спросил Орджоникидзе. И, не дождавшись ответа, добавил: – Он сейчас в номере.
Так появилась фотография, о которой я только что упомянул.
На другой день мы решили связаться со Сталиным. Было три человека, которые, на наш взгляд, больше других заботились о 1-й Конной армии, Ленин, Калинин и Сталин. Мы всегда ощущали их помощь. Позвонили Сталину на квартиру – жил он в Кремле. Слышу в трубке его голос:
– Товарищ Буденный? Знаю о вашем приезде. Приходите, жду. И Ворошилов с вами? Жду обоих.
Сталин тепло принял нас и сразу забросал вопросами: как идет борьба с бандитизмом на Украине, как разворачивается посевная кампания, налажена ли связь с местными партийными и советскими органами, чем живут конармейцы, обсудил ли Реввоенсовет армии вопросы дальнейшего состояния 1-й Конной... Когда мы закончили доклад, он сказал:
– Красная Армия не только верный страж народа, но и верный помощник в труде. Когда пахарь-крестьянин и боец работают на одном поле, работают дружно, рука об руку, тогда крепнет союз армии и труда.
– И я так понимаю, Иосиф Виссарионович.
– Владимир Ильич очень обеспокоен положением дел на Украине. Бандитские отряды Махно надо во что бы то ни стало разбить до весны, дать трудовым селянам Украины возможность организованно и в срок провести сев. У меня был разговор со Склянским. Говорят, что отряды Махно ускользают от 1-й Конной. Так ли?
Я объяснил обстановку.
Сталин, попыхивая трубкой, подошел ближе, положил руку на мое плечо.
– Семен Михайлович, Владимир Ильич очень вас ценит, и то, что Врангель был успешно разбит, – большая заслуга и вашей Конной армии. Уверен, что с махновцами быстро справитесь. Только никому не говорите, что вас. хвалим, а то еще сглазим, – шутливо добавил он.
22 декабря мы раньше других поспешили в Большой театр, где проходил съезд. Все мы были в приподнятом настроении, радовались, что являемся участниками столь важного съезда, что будем иметь возможность видеть и слышать Ильича. И только одна мысль несколько тревожила меня. В среде военных уж очень много говорилось о том, что предстоит большое сокращение армии, что после съезда ассигнования на армию снизятся до минимума и все силы и средства будут брошены на восстановление и развитие народного хозяйства.
"Как поступят с Первой Конной? – думал я. – Недругов у нее хватает. При сокращении армии, а оно безусловно будет, ее расформируют в первую очередь. С таким трудом создавали ее, а распустить можно одним росчерком пера. Только время ли?.."
Вошли в Большой театр, и здесь я увидел Владимира-Ильича. Прошло девять месяцев с тех пор, как я встречался с Ильичем, – это было в апреле, когда мы с Ворошиловым приезжали в Москву к Главкому С. С. Каменеву для решения вопроса о способе переброски Конармии на польский фронт. В тот раз Ленин был задумчив, выглядел очень усталым. Да, тогда обстановка в стране была особенно тяжелой. Сейчас Ленин словно помолодел. Пожимая мне руку, он с улыбкой спросил:
– А что, Врангель и впрямь оказался крепким орешком?
– Раскололи этот орешек, Владимир Ильич. Крест поставили на "черном бароне".
Владимир Ильич отметил, что красные бойцы храбро сражались за свою родную Советскую власть. Они сознательно шли на жертвы во имя революции. И победили. Судя по докладу Фрунзе, Первая Конная справилась со своей задачей. И в победе над Врангелем большая доля ратного труда конармейцев.
Речь зашла о Махно.
– Махно поддерживают кулаки, Владимир Ильич, – заметил Ворошилов. – Они его опора. К тому же на Украине не все крестьяне охотно идут за Советами.
– Зажиточные крестьяне во многом помогают Махно, – уточнил я.
Владимир Ильич ответил, что это временное явление. Крестьянство пойдет за нами! Но мы должны не на словах, а на деле показать крестьянам и мелкобуржуазным элементам, что коммунистический строй может быть создан пролетариатом, победившим в войне...
Ленин подчеркнул, что нужно как можно скорее ликвидировать все банды, дать возможность крестьянам спокойно трудиться, подготовиться к весеннему севу.
Владимир Ильич поинтересовался, о чем говорят и думают красноармейцы.
Мы ответили, что у бойцов тяга к мирному труду, что всем надоела война.
Ленин сказал, что теперь можно с гораздо большей уверенностью и твердостью взяться за дело хозяйственного строительства. Но нам следует по-прежнему быть начеку. Мы нанесли империализму сильные удары. Но, не полагаясь на это, свою Красную Армию во что бы то ни стало должны сохранить и усилить ее боевую готовность... Хотя армию мы будем сокращать...
– А не скажется ли именно это на боевой готовности? – осторожно спросил я.
– Нет, – ответил Владимир Ильич, – Можно рассчитывать на громадный опыт, который за время войны приобрела Красная Армия.
– Убедили, Владимир Ильич.
Ленин с усмешкой сказал, что, по мнению некоторых товарищей, в польской кампании мы допустили ошибку – перешли границу. И в будущей войне, избави бог, наступать не будем, а только обороняться, сидеть в окопах. Стало быть, конница больше не потребуется.
– Кто так говорит? – довольно грубо выпалил я.
– Вы что – не согласны?
– Владимир Ильич!..
– Вот-вот, я так и думал. Сказать Буденному, что конницу придется распустить. Каково? – И Ленин весело рассмеялся. – Ну ладно, уже собрались делегаты. Пора начинать. Еще встретимся.
Съезд открыл М. И. Калинин. Он предложил делегатам почтить память тех, кто погиб в гражданскую войну, защищая Советскую власть. Все встали и замерли в глубокой скорби.
Международное и внутреннее положение страны определило и повестку дня съезда. Она предварительно обсуждалась на тысячах собраний рабочих, крестьян и красноармейцев, проходивших в ноябре – декабре 1920 года.
Делегатам предстояло обсудить такие вопросы: 1) доклад ВЦИК и СНК о внешней и внутренней политике; 2) об электрификации России; 3) восстановление промышленности; 4) восстановление транспорта; 5) развитие сельскохозяйственного производства и помощь крестьянскому хозяйству; 6) об улучшении деятельности советских органов в центре и на местах и борьба с бюрократизмом; 7) выборы ВЦИК.
Для всестороннего и глубокого обсуждения основных вопросов съезд образовал три секции: 1) промышленности; 2) развития сельскохозяйственного производства и помощи крестьянскому хозяйству; 3) деятельности государственного аппарата.
В основу работы VIII съезда Советов легли решения, выработанные IX съездом Коммунистической партии, на котором мне тоже довелось присутствовать. Главные вопросы повестки дня съезда предварительно обсуждала фракция РКП (б) – она регулярно собиралась на протяжении всей его работы. Деловой тон работе фракции задавал Ленин. На первом заседании фракции 21 декабря В. И. Ленин сделал доклад о концессиях; 22 декабря Владимир Ильич произнес речь по вопросам внешней и внутренней политики; 24 и 27 декабря он выступал на заседаниях фракции, посвященных обсуждению законопроекта Совнаркома о мерах укрепления и развития крестьянского хозяйства...
Перед началом работы съезд приветствовали представители других республик.
Я сидел в президиуме неподалеку от Ленина. Зал был забит народом. Делегаты стояли в проходах, у стен. Почти все они в верхней одежде, так как Большой театр в то время не отапливался. Владимир Ильич внимательно слушал делегатов.
Вот приветствует съезд представитель венгерского пролетариата член РВС Южного фронта тов. Бела Кун:
– Красная Армия завоевала Крым и очистила его от остатков белогвардейцев. Перед Советской Россией встают во весь рост величайшие хозяйственные задачи, но я надеюсь, что вы при этом не забудете своей доблестной Красной Армии – армии международной революции. Забота о Красной Армии – это самая большая, самая важная задача. И если, товарищи, сейчас среди нас найдутся такие люди, которые проповедуют пацифизм и говорят о том, что теперь можно не опасаться войны, они глубоко заблуждаются. Международный империализм не оставит нас в покое, не даст нам долгой передышки...
Слово для доклада по первому вопросу повестки дня предоставляется Ленину. Гром аплодисментов. Там и здесь раздаются возгласы:
– Да здравствует товарищ Ленин!
– Да здравствует Советское правительство! Весь президиум съезда встал и тоже аплодировал. Ленин снял пальто, повесил его на спинку стула и, когда наступила тишина, сказал:
– Товарищи, мне предстоит сделать доклад о внешней и внутренней политике правительства. Я понимаю задачу своего доклада не так, чтобы дать вам перечень хотя бы крупнейших или важнейших законопроектов и мероприятий рабоче-крестьянской власти. Я думаю, что вас не интересовал бы также и не представлял бы существенного значения рассказ о событиях за это время. Мне думается, что надо попытаться обобщить главные уроки, которые мы получили за этот год...
С затаенным дыханием мы слушали Ленина. Говорил он просто и понятно. Особенно воодушевляли нас, военных, его слова о героизме бойцов Красной Армии.
– Вы знаете, конечно, какой необыкновенный героизм проявила Красная Армия, одолев такие препятствия и такие укрепления, которые даже военные специалисты и авторитеты считали неприступными. Одна из самых блестящих страниц в истории Красной Армии – есть та полная, решительная и замечательно быстрая победа, которая одержана над Врангелем. Таким образом, война, навязанная нам белогвардейцами и империалистами, оказалась ликвидированной...
Подведя итоги гражданской войны, Владимир Ильич стал говорить о том, какие политические и хозяйственные задачи стоят перед страной. Главная восстановить хозяйство, прочно поставить его на ноги, выработать и проводить в жизнь план создания экономического фундамента социализма. Ленин отметил, что задача развития хозяйства ставится в массовом масштабе впервые, и предупредил, что война на хозяйственном фронте будет более трудная и более длительная.
Победив на фронтах гражданской войны, Страна Советов направила все силы на мирное строительство, на восстановление народного хозяйства. Под непосредственным руководством Владимира Ильича Ленина был разработан первый перспективный план развития экономики страны – знаменитый план ГОЭЛРО. В докладе на VIII Всероссийском съезде Советов Владимир Ильич назвал этот план второй программой партии, он дал известную всему миру формулу: "Коммунизм это есть Советская власть плюс электрификация всей страны{67}. В перерывах между заседаниями Ленин подолгу беседовал с делегатами. С большим вниманием слушал он выступающих.
Мне особо запомнился такой эпизод из работы съезда. На трибуну поднялся бородатый мужичок в новой рубашке, новых лаптях, в чистеньких, аккуратно переплетенных оборами онучах.
– Вот товарищ Ленин тут говорил об экономике и политике Советской власти, – сказал крестьянин. – Оно, конечно, правильно – политика будет хорошая, ежели экономика ничего. И я вам, Владимир Ильич, скажу так: земля и хлеб тоже политика. Вон сидит буржуй в ложе, говорит, нас признал, но на земельку нашу зарится. А вот тебе земелька! – И крестьянин, резко повернувшись в сторону дипломатической ложи, совсем недипломатично показал представителю буржуазного государства кукиш. – Она теперь, земелька-то наша. Никому не отдадим ее. Но опять же, товарищ Ленин, скажу: лошаденка у нас отощала и соху не тянет. Надо овсеца, а где взять? Земельку-то скребем, как собака лапой, а она нам, земелька, оттель кукиш и сует... Вот худобу подкормим да ежели еще рабочие дадут какую ни на есть машину – тогда дело пойдет...
Владимир Ильич, наблюдая, как крестьянин в ответственные моменты подкреплял речь выразительными жестами, от души смеялся. Потом встал и начал аплодировать. Вслед за ним поднялись все делегаты, и в зале загремели бурные аплодисменты.
На втором заседании доклад делал член ЦК партии делегат съезда Г. М. Кржижановский. Свой доклад он сопровождал демонстрацией исторической карты электрификации России.
– Здесь отмечены, – говорил он, – те двадцать семь основных районных электрических станций, сооружение которых в течение ближайшего десятилетия мы считаем совершенно необходимым для проведения плана электрификации страны. Все наши ответственные работники, занимавшиеся разработкой электрификации отдельных районов страны, пришли к выводу, что для полной электрификации тех восьми районов, границы которых отмечены на карте, было бы необходимо не менее ста станций. Но, переходя от частного хозяйства районов к хозяйству общегосударственному и учитывая наши реальные возможности, мы должны были выделить для европейской части РСФСР тот крайний минимум опорных пунктов электрификации, без которого мы не можем обойтись. Несомненно, что для широкой электрификации необходимы соответствующие предпосылки. Предварительно придется подумать о подъеме добывающей промышленности, о развитии металлургии, машино– и электростроения, а также о тех первых шагах широкой помощи нашему земледелию, которая не терпит ни малейшей отсрочки. Успешность наших работ в области электрификации будет зависеть и от международных отношений, учесть которые в настоящее время не представляется возможным.
Если практика покажет, что наши предположения являются излишне осторожными, то в программах работ электрификации районов мы найдем готовый план более широкой электрификации. – Кржижановский указал рукой на Донбасс. – Наша программа-минимум – это прежде всего Донецкий бассейн, наиболее важный экономический район всей страны, решающий судьбы нашего топливоснабжения и нашей металлургии. Район этот по преимуществу антрацитовый... Антрацитовое дело нам придется особенно усиленно развивать. Около местечка Штеровка намечается в первую очередь сооружение районной электростанции № 1, первоначальная мощность которой будет всего в 10 тысяч киловатт – эту мощность придется постепенно развивать до 100 тысяч, а радиус действия районной станции постепенно расширится на площадь с радиусом в 200 верст. Вот видите, как вспыхнула лампочка, отмечающая пункт расположения этой станции?..