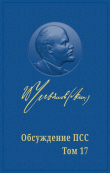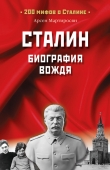Текст книги "Пройдённый путь (Книга 2 и 3)"
Автор книги: Семен Буденный
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 50 страниц)
Связь с основным штабом установили быстро. Клюев сообщил, что наши донесения о наступлении польских войск на львовском направлении направлены М. Н. Тухачевскому через штаб Юго-Западного фронта. Затем он информировал нас о положении на Западном фронте. Советские войска там продолжали отступление. Исключительно тяжелое положение сложилось в правофланговых 4-й и 15-й армиях, отрезанных противником и прижатых к прусской границе. 3-я и 16-я армии, а также мозырская группа Хвесина отходили на рубеж Гродно Липск – Свислочь.
Раздумывая над сообщением начальника основного штаба, мы все больше убеждались, что оказать помощь нашим отступавшим от Вислы войскам не можем. С выходом на люблинское направление Конная армия безнадежно запоздала, и все, о чем мы докладывали командующему Западным фронтом в донесении 19 августа, сбывалось. Подтвердились наши опасения об отступлении войск Юго-Западного фронта. Обнаружив отход Конармии, противник начал нас преследовать и уже вышел на реку Буг. Позже из захваченного приказа генерала Галлера стало известно, что наше движение от Львова противником было расценено как его крупный успех и использовано для повышения боевого духа войск. Мы же пока ничего не выиграли. Больше того, вместо двух дней, испрашиваемых нами для овладения Львовом, Конармия потеряла четверо суток.
Не трудно было представить, что в условиях отхода главных сил обоих фронтов наступление на Замостье – Красностав могло превратиться в обособленную операцию Конармии. Однако директиву требовалось выполнять, и мы немедленно начали готовить соединения к наступлению. Справедливости ради следует сказать, что М. Н. Тухачевский был против движения Конармии на Замостье и отдал директиву лишь по настоянию главкома{101}.
Выполняя последнюю директиву, Реввоенсовет армии принял решение к исходу 25 августа выдвинуться на 25-30 километров в сторону Замостья и занять район Скоморохи – Варенж – Комаров. Поскольку нам предстояло действовать с открытыми флангами, оперативное построение войск избрали в форме ромба. 4-й кавалерийской дивизии предстояло наступать в голове, за ней справа, уступом назад, – 14-й, а слева – 6-й. 11-я кавалерийская – армейский резерв – имела задачу двигаться в хвосте армии.
Учитывая горький опыт действий в тылу противника в отрыве от обозов второго разряда и при недостатке продовольствия, боеприпасов, Реввоенсовет особо указывал начдивам на необходимость загрузить дивизионные обозы всем необходимым из расчета на несколько дней боя и постоянно иметь их вблизи соединений.
Бронепоезда Конармии перебрасывались на железнодорожные участки Ковель – Владимир-Волынский, Ковель – Холм. Армейские артиллерийские и продовольственные летучки направлялись в Луцк, откуда боеприпасы и продукты автомашинами можно было доставить в дивизии. Туда же перемещался оперативный пункт основного штаба, чтобы иметь бесперебойную связь с полештармом, со штабом фронта и соседними армиями. В Луцк и Владимир-Волынский передвигались и санитарные поезда.
Утром 25 августа армия пришла в движение. Часов в 12 мы с полевым штабом и Особой бригадой выехали в Тартаков. Моросил дождь, дороги быстро портились, и это вызвало серьезное беспокойство за обозы и артиллерию.
В течение дня наши дивизии почти не встречали сопротивления противника. Лишь у реки Хучва в районе Лащув – Угнев разъезды обнаружили неприятельскую пехоту и кавалерию.
В 20 часов Конармия сосредоточилась на реке Западный Буг в готовности на следующий день начать движение к Замостью. Справа от нас, восточнее Грубешова, находилась 44-я, а слева, на рубеже Кристинополь – Сокаль, – 24-я стрелковые дивизии 12-й армии. Дождь не прекращался всю ночь, а к утру похолодало и разразился такой ливень, что в хате, где мы ночевали, промок потолок. Погода нам явно не благоприятствовала. На рассвете начдивы донесли, что дождь совершенно испортил дороги, движение обозов, а тем более артиллерии, стало невозможным.
Плохая погода и непролазная грязь вынудили нас приостановить наступление. До полудня нам удалось побывать в 14, 6 и 11-й дивизиях, побеседовать с бойцами, осмотреть обозы. А во второй половине дня мы созвали совещание старшего командного и политического состава, на которое были вызваны и Минин с Клюевым. Надо было посоветоваться, как лучше выполнить задачу нашими сравнительно небольшими силами и средствами.
Картина материального обеспечения частей, нарисованная в выступлениях командиров и политработников на совещании, была безрадостной. Оружие и боевая техника нуждались в ремонте, а производить его негде и некогда. Продовольствие и фураж поступали в крайне недостаточном количестве. Бойцы находились на голодном пайке. Лошади были сильно изнурены.
Тяжелое положение сложилось в частях с кадрами командного и политического состава. Выбыли из строя многие опытные комиссары и штабные работники, командиры бригад и полков. Заменившие их младшие командиры не были подготовлены к командной, политической и штабной работе в новых масштабах и нуждались в повседневных советах и помощи.
Совещание пришло к выводу о необходимости усилить партийно-политическую и культурно-воспитательную работу в частях. Было решено перевести членов партии из тыловых органов армии в боевые подразделения. По рекомендации совещания Реввоенсовет обратился в Политуправление Красной Армии, а также к московскому и петроградскому пролетариату с просьбой прислать в Конармию опытных политработников.
Много внимания было уделено улучшению медицинского обслуживания раненых и больных конармейцев. Нам не хватало медикаментов, перевязочных средств, врачебных инструментов, транспорта, постельных принадлежностей, подвижных госпиталей. Для раненых в госпиталях просто недоставало мест. Но главным бичом стали инфекционные болезни, которые порождались редкими банями, недоеданием, употреблением в пищу различной зелени.
А врачей не хватало. Известно, что большинство военных медиков с начала революции осталось в лагере белых. У нас работали лишь наиболее прогрессивная часть врачей, вставшая на сторону Советской власти, и некоторые медицинские работники, захваченные в плен вместе с белогвардейскими госпиталями. В конце гражданской войны Красная Армия пополнилась врачами выпуска 1919/20 г. Но и этого было недостаточно.
Каждому медработнику Конармии приходилось работать за троих. Начальник санслужбы армии Д. К. Дедов-Назрицкий, врачи Петров, Данилов, Рейтлингер, Сербинов, Французов, Очкин, Шмидт, Ишлонский, Гейнали, Ванеев, Гальперин, Желиковский, Мацкевич, Легов, Капланов и многие другие сбивались с ног. Трудно подобрать слова, в полной мере характеризующие героический труд наших врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров. Их работа была непрерывным подвигом. И все же им не хватало времени, чтобы оказать помощь всем пострадавшим. Кончался один обход, начинался другой. И зачастую так продолжалось до тех пор, пока врач не выбивался из сил или сам не заболевал.
Трудности работы медицинского персонала усугублялись большой подвижностью Конармии. Нередко оперировать приходилось прямо на колесах.
Большая часть забот о раненых и больных ложилась на плечи наших сестер милосердия, как их тогда называли. В подавляющем большинстве это были жены или сестры бойцов, командиров и политработников. Специального образования они не имели. Учились перевязывать и даже лечить прямо на фронте.
В армии хорошо знали Таисию Плотникову, Пелагею Тоцкую, Зинаиду Патрикееву, Елену Кузнецову, Марию Еремееву, Василису и Евдокию Чумаковых, Александру Волынскую, Неонилу Голубенко, Юлию Алексееву, Петрову-Круковскую и многих, многих других. В наступлении и обороне, в стужу и жару они были вместе с бойцами. Подвергаясь смертельной опасности, сестры милосердия перевязывали раненых под огнем противника и вытаскивали с поля боя. А нередко им приходилось отбиваться и защищать раненых от врага. Недаром у нас называли их сестрами-бойцами.
На совещании выяснилось, что в дивизиях собралось много раненых. Мы обязали начдивов выделить как можно больше повозок и всех раненых и больных доставить во Владимир-Волынский. Оттуда начальник санслужбы должен был эвакуировать их в тыловые госпитали.
Ночью участники совещания разъехались. К этому времени дождь перестал, подул ветер, очищая небо от облаков. Рассчитывая, что ветерок подсушит дороги, мы распорядились, чтобы с началом дня дивизии приступили к выполнению своих задач.
Наступило утро 27 августа. Соединения армии вошли в соприкосновение с противником и вели бой на реке Хучва. 14-я дивизия вышла в район Модринец Мирче и захватила переправу у Теребиня. Переправа находилась в 6-8 километрах юго-западнее Грубешова, занятого противником.
В центре при подходе к Тышевцам разъезды 4-й дивизии завязали перестрелку с разъездами белогвардейской казачьей бригады есаула Яковлева. Казаки стали разбрасывать листовки, в которых содержался призыв к конармейцам переходить на сторону белых и бороться против большевиков "за самостийность" Дона и Кубани. В момент, когда, преследуя этих агитаторов, разъезды дивизии столкнулись в Тышевцах с бригадой Яковлева, около батальона польской пехоты перешло в наступление из Лащува. Хорошо, что подошли главные силы 4-й дивизии. 2-я бригада с ходу развернулась против пехоты, а белоказаков атаковала 1-я бригада. В коротком бою более 200 казаков было изрублено и около 100 взято в плен. Остальные бежали к Комарову, бросив 3 орудия, несколько пулеметов и около 200 лошадей. Пленные сообщили, что есаул Яковлев застрелился. Польская пехота тоже понесла большие потери и отошла.
6-я кавалерийская дивизия встретила упорное сопротивление в районе Жеплин – Пшеводув – Белз. Здесь при поддержке бронепоезда, который курсировал по ветке Угнев – Кристинополь, противник пытался нанести удар по левому флангу армии. Бой принял ожесточенный характер. Дивизия развернулась и, отражая настойчивые контратаки, медленно теснила польские части к югу.
К концу дня все наши соединения выполнили задачи. 14-я дивизия удерживала переправу через реку Хучва в районе Теребиня, 4-я овладела Тышевцами, 6-я и 11-я, отбросив противника к югу, вышли на рубеж Телятин Новоселки – Гульча.
Постепенно стала вырисовываться группировка неприятельских войск, действовавших против Конармии. Пленные, захваченные в хуторе Теребинь, принадлежали 2-му полку 2-й пехотной дивизии легионеров. Они показали, что их соединение занимает район местечка Грабовец. Казаки, взятые в Тышевцах, сообщили, что бригада Яковлева численностью до 750 сабель состояла из 1-го Терского и 2-го Сводного Донского казачьих полков, сформированных в польском городе Калиш из бывших солдат корпуса русского генерала Бредова. Польское командование направило бригаду в Тышевцы с разведывательными целями, рассчитывая установить силы нашей армии и направление ее движения. Казаки рассказали также, что в Замостье перебрасываются 10-я польская и 6-я петлюровская пехотные дивизии.
Ценные показания дали солдаты 13-й польской пехотной и 1-й кавалерийской дивизий, плененные 6-й кавдивизией. По их словам, оба эти соединения сведены в специально созданную для операций против Конармии группу генерала Станислава Галлера. Обе действовали против нас под Львовом. 1-я кавалерийская двинулась за Конармией сразу же, как только мы начали отходить из Львовского района, а 13-ю пехотную перебросили по железной дороге в район Угнев – Белз. Сопоставление дат переброски позволило установить интересную деталь: противник начал стягивать в район Замостья войска для борьбы против Конармии еще до того, как нам стало известно об этом направлении. Видно, не плохо работала польская разведка.
Полученные сведения заставили нас задуматься. Особенно беспокоили фланги армии. С юга нам угрожала группа Галлера, а с севера – 2-я пехотная дивизия легионеров. Опасность особенно возросла после отхода наших соседей 44-й и 24-й стрелковых дивизий.
Пришлось двум своим дивизиям – 14-й и 11-й – специально поручить обеспечение флангов. Первой из них мы приказали двинуться на Конюхи, а второй – в направлении Семержа. В центре две самые крупные и наиболее опытные дивизии – 4-я и 6-я – должны были наступать на северо-запад и к исходу 28 августа овладеть Чесниками и Комаровом, в 15-20 километрах восточнее Замостья.
Ночью мы донесли М. Н. Тухачевскому о сложившейся обстановке. Он потребовал от 12-й армии перейти в наступление и поддержать нас. А нам предложил передать командарму 12 Особую кавбригаду.
Последнего понять было никак нельзя. Нам приходилось действовать, по сути дела, в тылу противника, стягивавшего превосходящие силы. А тут вместо усиления армию ослабляли. Ведь лишившись Особой бригады, мы вынуждены были выводить в резерв одну из дивизий, что резко снизило бы ударную силу армии. Мотивируя этим, обратились к командующему фронтом с просьбой оставить нам Особую кавбригаду. Он с нами согласился.
Весь день 28 августа снова шел проливной дождь. Но, несмотря на ненастье и плохие дороги, наступление проходило успешно.
Бригады А. Я. Пархоменко отбросили с реки Хучва полк 2-й дивизии легионеров и заняли Конюхи. Передовые части 4-й дивизии внезапным налетом захватили в хуторе Переела неприятельскую заставу, а затем разгромили до трех рот легионеров. К вечеру дивизия овладела Чесниками.
Снова наиболее жаркие бои выпали на долю 6-й дивизии. Пехота и конница противника, закрепившиеся в Лащуве и поддержанные сильным артиллерийским огнем, сопротивлялись довольно упорно. Но в конце концов не выдержали атаки и отошли. Развивая наступление, дивизия овладела Комаровом, где и расположилась на ночлег. В затылок ей, в.деревню Зубовице, вышла Особая бригада, а к ночи туда переместился и полештарм.
Спокойнее других прошел день у Ф. М. Морозова. Его части без боя заняли Рахане – Семерж.
За день армия продвинулась на 25-30 километров, и связь с оставшимися на Буге соединениями 12-й армии была полностью потеряна. Отстали наши обозы и артиллерия, завязшие на болотистых проселках. Тем не менее мы решили продолжать наступление и приказали войскам к исходу 29-го выйти в район Замостья. Левой колонне – 6-й и 11-й дивизиям – предстояло овладеть Замостьем и, выбросив передовые части на 15 километров западнее его, перерезать железную дорогу у станции Завада. Правая колонна – 4-я и 14-я дивизии – должна была охватить местечко с северо-востока и севера, чтобы поддержать левую.
Поскольку с углублением в тыл противника усилилась опасность внезапных ударов по нашим тылам, Рев-353
военсовет приказал начдивам подтянуть обозы ближе к войскам, пополнить части боеприпасами, вооружить всех ездовых винтовками, всегда иметь надежное охранение и круговую разведку, держать непрерывную связь с соседями и в случае нужды оказывать друг другу помощь, не ожидая распоряжений. Особое внимание обращалось на экономное расходование боеприпасов и продовольствия, ведь армейские базы снабжения оставались далеко позади, и не исключалось, что дивизии могли быть отрезаны от них.
Подготовив приказ, мы послали радиограммы командующему Западным фронтом и командарму 12, в которых вторично просили энергичным наступлением стрелковых дивизий сковать противника в районе Грабовец – Грубешов и группу генерала Галлера, угрожавшую нашему левому флангу.
На рассвете 29 августа начали поступать тревожные донесения из правой колонны. Врид начдив 4 И. В. Тюленев сообщал, что перед рассветом противник предпринял наступление и потеснил 1-ю бригаду. С помощью пришедшей на подмогу 2-й бригады положение сначала было восстановлено, но затем враг снова предпринял упорные атаки. Тяжелый бой вела и 14-я кавалерийская, которую со стороны Грабовца атаковала 2-я польская пехотная дивизия, поддержанная двумя бронепоездами.
Весьма сильное давление испытывали части А. Я. Пархоменко. Я приказал И. В. Тюленеву повернуть две бригады на северо-восток. Во взаимодействии с 14-й дивизией им предстояло контратаковать 2-ю пехотную дивизию противника и отрезать ей пути отхода на Грабовец.
Поручив С. А. Зотову следить за успешно наступавшей левой колонной и как можно чаще сообщать нам о ее действиях, мы с Ворошиловым отправились в 4-ю дивизию. К нашему приезду две ее бригады, достигнув железной дороги километрах в двенадцати от Замостья, повели наступление на Менчин и Хорышув-Польский. Лесисто-болотистая местность здесь лишила конармейцев маневренности и заставила действовать в пешем строю.
Противник, подтянув бронепоезда из Грубешова, буквально забросал наши части снарядами. Взрывы поднимали землю даже возле командного пункта начдива, который мы разыскали на опушке небольшой рощи. Наша же артиллерия, застрявшая в болоте, вынужденно молчала.
В таких условиях нельзя было надеяться на успех атаки спешенных частей, и я приказал И. В. Тюленеву частью сил прикрыться от ударов со стороны Замостья, а три полка посадить на лошадей и, перебросив к северу, в Завалюв, атаковать оттуда в конном строю.
Перелом наступил во второй половине дня. Скрытно переброшенные в Завалюв три полка И. В. Тюленева нанесли 2-й польской пехотной дивизии внезапный удар во фланг. Противник, бросив свои укрепления, начал откатываться к северу. Используя этот успех, перешла в контратаку и 14-я кавдивизия.
В Зубовице мы возвратились к вечеру. К большому удивлению, полештарма там не было. В деревне находились лишь обозы и два эскадрона Особой кавбригады. В доме, где размещался полевой штаб армии, лежал раненый комбриг К. И. Степной-Спижарный.
Константин Иванович рассказал, что в наше отсутствие польская конница из группы Галлера выбила части 44-й стрелковой дивизии из Тышовцев и прорвалась в тыл Конармии, Как только возникла опасность для Зубовице, С. А. Зотов свернул полештарм и выехал в Комаров. Особая бригада предприняла контратаку и отбросила конницу противника в Тышовцы. В этом бою и ранило комбрига.
Взяв с собой К. И. Степного-Спижарного, мы поехали разыскивать полевой штаб армии. Оставшемуся за комбрига Особой Е. И. Горячеву приказали установить тесную связь с начдивом 14 А. Я. Пархоменко и удерживать Зубовице.
В Комарове полештарма тоже не оказалось, он перешел в деревню Старо-Антоновка, что в 4-5 километрах севернее его. Окружившие нас жители наперебой рассказывали о страшных злодеяниях, чинимых белогвардейцами из бригады есаула Яковлева. Казаки устроили в Комарове жестокий погром. Они изнасиловали большинство женщин и девушек, вырезали 30 еврейских семей.
Зато с какой теплотой отзывались люди о наших бойцах, о комиссаре Бахтурове, который распорядился оказать пострадавшим жителям медицинскую помощь!
В Старо-Антоновку приехали, когда на землю уже опустилась густая, словно осязаемая темнота. В пути мы попали под дождь и были очень рады, когда нашли С. Н. Орловского в сухой и теплой хате. В довершение всего на столе кипел самовар.
– Вот счастливчик, живет как в раю, – улыбнулся Ворошилов, снимая мокрый френч.
– Да, но прежде чем добраться до этого рая, мы чуть не попали в настоящий ад, – ответил Орловский.
Вскоре зашел Степан Андреевич Зотов. Он сообщил, что 6-я дивизия вышла на подступы к Замостью, но овладеть им не смогла. По пути, в Томашове, был разгромлен штаб какой-то петлюровской части. Взято около 200 пленных.
Ф. М. Морозов выполнил свою задачу. В местечке Шевня его передовые части потрепали остатки казачьей бригады Яковлева, взяли пленных, отбили у противника много лошадей и орудие.
Таким образом, только две наши дивизии выполнили задачу дня и вышли в район Замостья. А 4-я и 14-я, которым не удалось овладеть Грабовцом, на ночь расположились южнее его, в лесисто-болотистой местности, обстреливаемой вражеской артиллерией.
Изучив результаты боев, сведения, добытые разведкой, показания пленных и захваченные у противника документы, мы смогли не только уточнить группировку противника, но и уяснить намерения польского командования. С севера, из района Грабовца, над нашим правым флангом нависали крупная по численности, хорошо вооруженная 2-я дивизия легионеров и некоторые части 6-й пехотной петлюровской дивизии. В Замостье вели активную оборону части 10-й польской пехотной дивизии и остатки казачьей бригады есаула Яковлева. С юга и юго-востока наступала группа Галлера. Здесь же находилась 9-я бригада 5-й пехотной дивизии.
Из захваченного приказа генерала Галлера мы узнали, что его группа имеет задачу ударить по левому флангу и тылу Первой Конной армии и во взаимодействии с другими польскими войсками разгромить ее. Пленные польские солдаты утверждали, что Конную армию скоро окружат и уничтожат.
А один заявил:
– Советские войска под Варшавой разгромлены. Полностью пленены две ваши армии.
Вначале мы не верили пленным, думали, что они пересказывают пропагандистские измышления, распространяемые в войсках для подъема морального духа. Но вскоре поняли – в их показаниях была значительная доля правды.
Л. Л. Клюев передал по радио оперативную сводку. В ней сообщалось, что 4-я армия, 3-й Конный корпус Г. Д. Гая и две стрелковые дивизии 15-й армии, отрезанные от главных сил Западного фронта, оказались вынужденными 26 августа перейти границу Восточной Пруссии. Соединения 15, 3, 16-й армий и мозырской группы с большими потерями отступили на восток. На фронте 12-й армии было без перемен, а 14-я вела тяжелые бои в районе города Буек.
Словом, обстановка для нас была безрадостной. Конармии приходилось действовать в тяжелых условиях погоды и местности, с ограниченным количеством боеприпасов и продовольствия, а главное – фактически в оперативном окружении превосходящих сил противника. Но задача овладеть Красноставом не отменялась, и мы приняли решение 30 августа продолжать наступление, надеясь еще на помощь 12-й армии.
Освободившись от неотложных дел, перед рассветом легли отдохнуть. Утомительные поездки в дивизии, холодный душ под дождем, казалось, сделают свое дело, но сон не шел. В голове роились тревожные мысли о тучах, которые сгущались вокруг армии. Мысленно я представлял себе наших уставших, насквозь промокших бойцов, пересчитывавших остатки патронов. Что-то принесет им новый день?
К утру дождь перестал, но небо, затянутое мутно-серым маревом, продолжало хмуриться. Мы с Климентом Ефремовичем в сопровождении эскадрона Реввоенсовета выехали к Морозову. Хотелось на месте ознакомиться с обстановкой и решить, направлять ли 11-ю дивизию на помощь 6-й или совместно с Особой бригадой двинуть против группы генерала Галлера.
Штаб Морозова разместился в Беловоле, южнее Замостья. Федор Максимович доложил, что ночь прошла спокойно. Две его бригады пока находились в районе Липско – Лабуне, а третья выступила из Комарова на Бархачев.
Предложив ему ждать указаний, мы двинулись к И. Р. Апанасенко. Но отъехали совсем немного, когда нас догнал связной из 3-й бригады Морозова. Комбриг Краснов доносил, что противник перешел в наступление и захватил Комаров.
Это был первый тревожный сигнал. Враг вышел нам в тыл. Я приказал передать начдиву, чтобы он немедленно выбил белополяков из Комарова, а затем развернул дивизию фронтом на юго-восток для обеспечения левого фланга армии.
Надо было торопиться, и мы решили проскочить в штаб 6-й дивизии напрямик через хутор Вепржец. В хуторе жители предупредили, что дальше в лесу стоят польские войска. И действительно, только мы миновали Вепржец, как из леса стала выходить вражеская пехота. За кустарником нас не заметили, а мы видели, как возле леса приземлился аэроплан. К нему бросились солдаты. Летчик высунулся из кабины и, размашисто жестикулируя, описывая руками круги, начал что-то рассказывать. Мы не могли его слышать, но по характерным жестам поняли, что он сообщает о своих наблюдениях с воздуха, об окружении Конной армии польскими войсками. Я подозвал И. М. Десятникова:
– Направьте к Морозову связного. Пусть сообщит о встреченной нами пехоте.
Мы повернули назад, чтобы проехать в 6-ю дивизию другой дорогой. И уже минут через сорок были в хуторе Пневек у И. Р. Апанасенко.
Он тоже порадовать ничем не мог. Все его бригады наступали на Замостье, но безрезультатно.
Упорная оборона противника в Замостье, появление неприятельской пехоты южнее его и вероятное ее движение на соединение с замостьевским гарнизоном создавали угрозу изоляции 6-й дивизии от главных сил армии. Особенно такая опасность возросла с вынужденным отклонением 11-й кавдивизии на юго-восток к Комарову. Сообщив И. Р. Апанасенко о появлении противника у Вепржеца и о положении у Морозова, я приказал оттянуть находившиеся за Замостьем две бригады, закрепиться на рубеже восточнее местечка и войти в огневую связь с 4-й кавдивизией.
Из Пневека поспешили в полевой штаб армии. Необходимо было срочно доложить новую обстановку командующему фронтом, выяснить положение 12-й армии.
В Старо-Антоновке нашим глазам предстала мрачная картина. Дома, которые занимал полештарм, лежали в развалинах. Дворы были усеяны трупами лошадей комендантского эскадрона. На улице, изрытой воронками, валялись разбитые повозки.
Зотова и Орловского разыскали на северной окраине деревни. Они рассказали, что после нашего отъезда противник занял Комаров и сразу же открыл по Старо-Антоновке сильный артиллерийский огонь, причем в основном по той части деревни, которую занимал полештарм. При первых же взрывах погибли часовой у денежного ящика и ординарец Ворошилова, кинувшийся спасать лошадей. Несколько бойцов комендантского эскадрона оказались раненными. Артобстрел повредил радиостанцию. Расследованием, которое провел С. Н. Орловский, было установлено, что ночью в Комаров ушел родственник местного ксендза. Он-то, как затем показали пленные, и дал белополякам сведения о размещении полештарма.
Оставаться в Старо-Антоновке было небезопасно. Противник мог повторить артиллерийский налет или ночью прорваться из Комарова. Решили перебраться на север, поближе к 4-й дивизии.
Перед отъездом всем начдивам дали указание оставаться на местах, вести круговую разведку и держать между собой локтевую связь. Поскольку путь в тыл был отрезан, распорядились подтянуть обозы ближе к частям, разгрузить их от обмундирования, выдав его на руки бойцам, максимальное количество повозок выделить для раненых и больных.
В Невирков, к новому месту размещения полештарма, выехали в кромешной темноте, под проливным дождем. Не видно было ни зги, только по слуху определялось направление движения лошадей, шлепавших по сплошной жидкой грязи. Часто повозки попадали в канавы, и тогда бойцы ощупью пробирались к ним, понукали коней, кричали и ругались.
В одном месте лошадь Ворошилова остановилась. Я подъехал к нему:
– В чем дело, Климент Ефремович?
– Не идет моя Волга, топчется на месте, – ответил он и снова начал понукать.
– Стойте, видно, впереди какое-то препятствие, – догадался я.
Ординарцы посветили, и Ворошилов ахнул, увидев, что его лошадь стоит на краю крутого обрыва.
Последние два километра дорога шла через сырой, заболоченный лес. И было похоже, будто мы с завязанными глазами пробираемся через неизведанные дебри, полные всевозможных подстерегавших нас ловушек.
Но вот наконец лес кончился, и впереди замерцали редкие, чуть видимые огоньки Невиркова. Дома для полештарма были уже приготовлены заранее высланными квартирьерами, и через несколько минут мы с Ворошиловым сидели в теплой комнате, довольные тем, что неприятное путешествие закончилось, можно посушить одежду и заняться делами.
Скоро у нас собрались Зотов, Орловский, Бородулин и комиссар полештарма Дижбит. Требовалось всесторонне обсудить наше незавидное положение. На юге и юго-востоке группа генерала Галлера заняла Тышовцы, Комаров, Вульку Лабиньску, отрезав нам пути сообщения со своим тылом и 12-й армией. На севере 2-я дивизия легионеров и части 6-й петлюровской дивизии удерживали Грабовец. 10-я пехотная дивизия прочно занимала Замостье.
Посоветовавшись, мы пришли к выводу, что наибольшую опасность для армии представляет группа Галлера. Отсюда и решение: двумя дивизиями – 14-й и 11-й – прикрыться со стороны Грабовца и Замостья, а на юг, против Галлера, повернуть 4-ю и 6-ю. Только разгром его соединений мог развязать нам руки для наступления на Красностав.
В два часа ночи разъезды, возглавляемые командирами – работниками полештарма, повезли приказ в войска. Приказ предписывал 14-й дивизии сменить 4-ю южнее Грабовца, а 11-й вместо 6-й занять рубеж восточнее и северо-восточнее Замостья. Затем 6-я дивизия из района Замостья, а 4-я – от Грабовца должны были нанести одновременный удар по Комарову. Особая бригада имела задачу удерживать позиции севернее Комарова, чтобы прикрыть развертывание 4-й дивизии.
От командиров и комиссаров соединений требовалось разъяснить бойцам, что враг намеревается зажать армию в кольцо и только успешное выполнение задач позволит сорвать этот замысел.
На 4-ю дивизию возлагались в этой операции наиболее сложные задачи и особенно большие надежды. Поэтому было естественно наше желание укрепить ее командование. Начальником дивизии Реввоенсовет назначил находившегося в резерве одного из наиболее опытных и отважных командиров – С. К. Тимошенко. А назначение командиром 3-й бригады Б. С. Горбачева, хорошего организатора, мужественного человека, награжденного двумя орденами Красного Знамени, и возвращение во 2-ю бригаду несомненно талантливого военачальника И. В. Тюленева рассматривалось как усиление основного бригадного звена.
Перегруппировка должна была закончиться к рассвету, а времени оставалось совсем мало. Тревожные мысли не покидали меня. "Успеют ли дивизии занять исходное положение?" – думал я, шагая по комнате.
По виду легко было понять, что Ворошилов волнуется не меньше. Пытаясь отвлечься, пробовал читать, но сосредоточиться не удавалось. Это видно было по тому, как он то и дело подымал голову и оглядывался на узкое, слезящееся под дождем окно. Наконец не выдержав, Климент Ефремович бросил книжку на стол:
– Да когда же это кончится? Льет и льет? Грязища непролазная, а бойцы и без того устали... Лошади изнурены до предела...
Беспокоились мы не напрасно. Дивизии еще не закончили перегруппировку, когда, упредив нас, противник сам перешел в наступление.
Позже из захваченных вражеских документов мы узнали, что 30 августа командующий 3-й польской армией генерал Сикорский отдал приказ на окружение и разгром Конармии в районе Замостья. Замысел его был прост. Генерал Галлер и командир 2-й дивизии легионеров полковник Жимерский должны были встречным ударом с юга и севера соединиться, захватить переправу на реке Хучва у Вербковице и окончательно отрезать нам пути отступления. Одновременно 10-я дивизия генерала Желиговского переходила в наступление из Замостья на Грубешов, чтобы разъединить силы нашей армии.