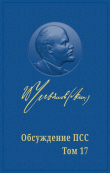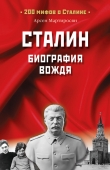Текст книги "Пройдённый путь (Книга 2 и 3)"
Автор книги: Семен Буденный
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 50 страниц)
6-й кавдивизии предлагалось, наступая в направлении Агайман, Кучкогус, занять и упорно оборонять район Кутузове, Петровское, Санбрум, Бредихин, иметь в Санбруме кулак не менее бригады на случай появления противника со стороны Серогоз.
Особой бригаде перейти в Ново-Троицкое. Один эскадрон оставить в Мартьяновке, откуда выслать сильный разъезд на Чаплинку. Здесь связаться с частями 6-й армии, получить от них ориентировку, ознакомить с нашим планом действий.
14-я кавдивизия сосредоточивалась в районе Рождественское и поступала в мой резерв.
Полештарм переходил в Отраду (50 километров восточнее Аскании-Нова).
Действия героев Первой Конной и 30 октября были выше всяких похвал. Боевой приказ дивизии выполнили с честью. Рейд красных конников явился полной неожиданностью для противника.
В Ново-Михайловке находился запасный полк корниловской пехотной дивизии. Лихой атакой конники смяли его и взяли в плен около тысячи вражеских солдат. Офицеры полка пытались отстреливаться, но все были уничтожены. В районе Ново-Алексеевки конники Тимошенко разгромили другой запасный полк – марковской пехотной дивизии, штаб 1-й армии, взяли в плен много вражеских солдат и офицеров, захватили обоз генерала Кутепова. Сам Кутепов 30 октября находился в Ново-Алексеевке. Здесь получил донесение от летчика, что к станции подходят крупные силы красных. Кутепов не поверил этому сообщению и даже приказал арестовать летчика за распространение панических слухов. Генерал сам лично выехал проверить сообщение летчика и, убедившись, что донесение правильное и красные конники рядом, бросил своих подчиненных и постыдно бежал на станцию Рыково. Свиту Кутепова наши передовые части захватили у станции Ново-Алексеевка в плен. Станция была занята 1-й кавбригадой 4-й дивизии в 18.00 без единого выстрела, так как белые, находившиеся там, приняли красных конников за своих. Поняв ошибку, около 40 офицеров, засев в пакгаузе, отчаянно сопротивлялись. Все они, в том числе четыре полковника, были убиты или пленены. В плен попал и председатель военно-судной части Врангеля генерал Морель, спешивший укрыться в Крыму. Нам достались богатые трофеи: 5 паровозов, свыше 200 вагонов, в том числе 16 со снарядами и 3 с авиачастями, много орудий, пулеметов, патронов.
Сальково защищал гарнизон, насчитывавший более 1500 штыков и 4 бронепоезда. Перед станцией была построена оборонительная полоса из окопов и проволочного заграждения. Атака в конном строю была бы связана с большими потерями. Конармейцы начали атаку спешившись. Белые оказывали ожесточенное сопротивление, но были выбиты из окопов и разгромлены. Взято до тысячи пленных. Захвачено артснабжение целой армии и много продовольствия.
Из опроса пленных и перебежчиков выяснилось, что линия железной дороги от Мелитополя до Салькова сплошь забита эшелонами. Жители рассказывали, что идет спешная погрузка хлеба и других запасов на суда. В Громовке конармейцы захватили в плен агента по закупке хлеба. Он заявил, что заготовил в Громовке в течение двух недель 40 тысяч пудов ржи и пшеницы.
В Геническе враг оставил не один миллион пудов зерна, награбленного Врангелем у крестьян Северной
Таврии и приготовленного к погрузке на суда для отправки за границу. Изъятие у врага такого количества хлеба было ценным подарком Первой Конной своей Родине, население которой, особенно в центральных промышленных областях, голодало. Мы наладили охрану хлеба. В городе восстановили Советскую власть.
В районе Геническ, Сальково красные конники захватили тыловые учреждения противника. Здесь же оказалась и американская миссия Красного Креста. Когда нам доложили об этом, Климент Ефремович написал записку секретарю РВС Орловскому: "Сергей Николаевич! Американскую миссию Красного Креста сейчас же направьте в Харьков в распоряжение РВС фронта... С этой публикой нужно обойтись возможно лучше. Член РВС – Ворошилов".
Сам Врангель в своих записках положение под Сальковом в ночь на 30 октября, когда уже наметилось движение Южной группы Конной армии к сальковскому перешейку, характеризует так:
"1-я Конная армия красных всей своей массой двинулась в тыл нашим армиям, стремясь отрезать их от Крыма. Между тем генерал Кутепов медлил. В течение целого дня 29 октября он продолжал оставаться в районе Серогоз. Я по радио передал ему приказание спешно двигаться к Салькову, стремясь прижать прорвавшегося противника к Сивашу. Однако было ясно, что противник успевает подойти к перешейку прежде, нежели части генерала Кутепова туда прибудут. Противник двигался беспрепятственно, и ожидать его в районе Салькова можно было к вечеру 30-го. Укрепленная позиция, прикрывшая выход из Крыма, была занята лишь слабыми караульными командами. Красные части с налета легко могли захватить сальковские дефиле, прервав всякую связь Крыма с армией. Необходимо было спешно занять дефиле войсками. Генералу Абрамову я послал приказание в ночь на 30-е направить к Салькову под прикрытием бронепоездов сосредоточенную в Мелитополе 7-ю пехотную дивизию. В течение ночи эшелоны с войсками двигались по железной дороге. Однако вследствие забитости путей движение шло крайне медленно. Мороз достиг 20°. Неприспособленные к таким холодам станционные водокачки замерзли. Эшелоны с войсками застряли в пути. Наступили жуткие часы. Под рукой у меня войск не было – доступ в Крым для противника был открыт. В течение всего дня 30-го все, что только можно было собрать из способного носить оружие, направлялось к Салькову: юнкерское училище из Симферополя, артиллерийская школа, мой конвой; из Феодосии были вытребованы не успевшие закончить формирования кубанские части генерала Фостикова. В сумерках передовые части красной конницы подошли к Салькову и завязали перестрелку с нашими слабыми частями".
Но тут случилось то, чего я так в глубине души опасался. Врангель вначале полагал, что ему удастся отразить наступление красных и удержаться в Северной Таврии, и на атаки частей фронта отвечал дерзкими контратаками. Но 30 октября Врангелю достаточно было посмотреть на карту с нанесенной обстановкой, чтобы с предельной ясностью понять наш замысел. Что ему оставалось делать? Принимать бой с превосходящими силами красных на равнинах Северной Таврии? Это было бы равносильно самоубийству. И Врангель дал войскам приказ, оставляя заслоны, спешно отходить в Крым, за перешейки, прикрыться ими.
Так как Перекоп был уже закрыт, вся масса белогвардейских войск двинулась к чонгарским позициям, куда выходила 1-я Конная. Ей предстояло выдержать исключительный по силе удар. Врангель приказал Кутепову объединить силы 1-й и 2-й армий и во что бы то ни стало пробиваться на Сальково. Кутепов отходил двумя колоннами: одна – в составе Кубанской и 2-й кавалерийской дивизий, Терско-Астраханской бригады – двигалась на Агайман, Кучкогус, Отраду, другая – 1-я кавалерийская и дроздовская пехотная дивизии – по маршруту Агайман, хутор Кутузова, Рождественка. Части, находившиеся в районе Мелитополя (Донской корпус и другие), отходили вслед за ударной группой вдоль железной дороги. В Сальково спешно вызывались из Симферополя подкрепления.
На войне нередко бывают такие моменты, когда судьба сражения, в котором принимают участие многие соединения, в какой-то момент оказывается в руках одного из них, подчас даже не основного. Так сложилась обстановка и сейчас.
Когда войска белых начали отступать, исход сражения, его успех в значительной мере встали в прямую зависимость от действий 2-й Конной армии. Ей ставилась задача 29 октября во что бы то ни стало прорваться на Серогозы, совместно с 6-й и 1-й Конной армиями окружить здесь наиболее сильную ударную группировку врага, в том числе такие подвижные части, как конный корпус Барбовича и Кубанская кавалерийская дивизия, и уничтожить. Эта центральная вражеская группировка была наиболее опасной. Ее ни в коем случае не следовало выпускать из района Серогоз.
Сейчас, как никогда, требовалась решительность в действиях, следовало проявить максимум инициативы и наступать, наступать, не считаясь ни с какими трудностями, врезаться во вражеские группировки, рассекать их, окружать, уничтожать по частям. Тогда Врангель был бы зажат в железные тиски и разбит. Но к сожалению, противнику удалось сковать действия 2-й Конной армии, сражение у никопольского плацдарма затянулось.
2-я Конная армия утром 28 октября и весь день вела разрозненные бои с отдельными неприятельскими частями. Ее дивизии согласно поставленным задачам наступали: 21-я – на Верхний Рогачик, который она и заняла совместно с 52-й стрелковой дивизией 6-й армии; 46-я и 3-я стрелковые, подчиненные командующему 2-й Конной, – на Елизаветовку и Днепровку. Здесь же наступала 2-я кавдивизия, получившая задачу содействовать пехоте. 16-я кавдивизия наступала из Балки на Орлянск.
Пехотной группе в составе 46-й и 3-й стрелковых дивизий удалось выбить части марковской пехотной дивизии из Днепровки и Елизаветовки (21 километр юго-восточнее Днепровки) и нанести ей поражение, взяв в плен до тысячи человек. Этот частичный успех и дал повод думать, что был разбит лучший корпус противника.
16-я кавдивизия попыталась с ходу взять село Малая Белозерка. Однако белые отразили атаки конармейцев и сами нанесли сильный удар. Отбросив 16-ю кавдивизию, белые окружили и взяли в плен два наших стрелковых полка (23-й и 24-й 3-й дивизии). После этого Миронов стал действовать осторожно. Армия прекратила преследование врага и начала перестраиваться, сосредоточивая крупный кулак в районе Большой Белозерки.
30-й дивизии и 2-й Конной противостояли только две Донские и 1-я Кубанская дивизии врага. Командарм 2-й Конной решил, что на него наступают главные силы Врангеля, и дал команду изменить направление наступления своих главных сил с южного на юго-восточное. Это, по сути дела, было отклонением от поставленной командованием фронта задачи. Между прочим, еще на совещании в Апостолово М. В. Фрунзе настоял на том, чтобы придать 2-й Конной армии ряд стрелковых дивизий, имея в виду, что они явятся надежной опорой для смелого маневра конницы в глубь вражеского расположения. Но Миронов не сумел использовать пехоту, и Фрунзе 46-ю и 3-ю стрелковые дивизии с 30 октября переподчинил 4-й армии.
Было еще время исправить ошибку. Армия могла, продвинувшись к югу всего на 20 – 25 километров, вклиниться между мелитопольской и серогозской группировками врага (между ними оставался разрыв в 35 километров), нанести первый удар по тылам, а второй – во фланг, что поставило бы противника в катастрофическое положение. Но время было упущено, и главные силы ударной группы генерала Кутепова обрушились на Первую Конную, которая в упорных боях с превосходящим по силам противником несла большие потери.
М. В. Фрунзе вынужден был строго предупредить Миронова. Он телеграфировал ему:
"Обращаю ваше внимание на отсутствие должной энергии и решительности в действиях вашей конницы. Вместо того чтобы согласно моему приказу, стянувшись в общую ударную массу, стремительно броситься в район Серогозы, Калашинская, главная масса ее весь день 30 октября пассивно провела в районе Б. Белозерка, отбивая атаку двух конных полков противника, явно имевшую цель прикрыть отход главных сил. Этим же непростительным бездействием не была дана своевременная помощь частям 1-й Конармии, вынужденным в районе Агайман выдерживать бой, не давший решающих результатов, с главной массой конницы противника.
Приказываю немедленно всеми силами вверенной вам конницы ударить в общем направлении на Ивановка, что в 20 верстах северо-восточнее Агайман. Ставлю задачей достичь этого пункта не позднее вечера 31 октября.
Об отданных распоряжениях донести.
Командюж – Фрунзе"{40}.
Серьезная задача возлагалась на 13-ю армию, в состав которой были включены большие силы конницы. Центр тяжести боевого дня 28 октября переместился на восток – на алексеевское и пологское направления. Здесь 4-я и 13-я армии добились значительных тактических успехов. Противник был сбит и вынужден в силу общей обстановки начать отход с той линии фронта, на которой собирался упорно обороняться.
4-я армия 29 октября без боя заняла Малую Белозерку, Тимошевку, Михайловку. 5-я и 9-я кавдивизии 13-й армии в это время овладели Мелитополем, а 2-я Донская стрелковая вышла в район Огарково, Георгиевка.
Однако 30 октября, когда 1-я Конная вышла к Чонгару и когда, собственно, решалась судьба операции, 4-я и 13-я армии, на наш взгляд, действовали недостаточно активно. Это дало возможность Врангелю снять с мелитопольского направления три дивизии. Две из них он перебросил в район Серогоз на усиление ударной группы, одну – в район Сальково, чтобы прикрыть Чонгарский полуостров на случай неожиданного прорыва сюда красных войск. Как видим, Врангель считался с подобной возможностью.
Вечером 30 октября М. В. Фрунзе отдал 4-й и 13-й армиям следующий приказ:
"Противник, сбитый на всех участках фронта, спешно отступает на Сальково, стараясь прорваться через преграждающую ему путь 1-ю Конармию. К вечеру сегодняшнего дня вероятное нахождение главных сил противника в районе Серогозы, Калашинская, Михайловка, Ивановка. Необходимо не допустить прорыва этих сил на Сальково, для чего приказываю:
Командарму 4 продолжать энергичное движение вперед, использовав все местные средства, двигаясь днем и ночью, не считаясь со сроками и рубежами, указанными в директиве № 0268/сек/821/оп.
Командарму 13, продолжая стремительное выдвижение пехотою, бросить конницу рейдом, не задерживаясь боями с арьергардами противника, находящимися перед фронтом армии, с тем чтобы выйти 31 октября в район Петровское, хут. Адама. От успешности выполнения данной задачи зависит разрешение основной задачи армии.
Командюж – Фрунзе"{41}.
Поручил начальнику полештарма связаться с командармом 13-й армии. Связь все время прерывалась, и начальник полештарма ничего толком не понял. К. Е. Ворошилов предложил обратиться непосредственно к командующему фронтом, но я возразил:
– Поздно, Климент Ефремович. Теперь всю лавину белогвардейских войск придется сдерживать нашей армии.
Как позже выяснилось, Главком С. С. Каменев тоже был озабочен сложившейся обстановкой. 2 ноября вечером из Орла Главком шлет срочную директиву о перегруппировке сил с целью прикрытия направления Сальково Громовка – Аскания-Нова. Главком отмечал, что пропущен целый день для наступления в направлении на Сальково, в результате чего в самые решительные моменты операции и в самых ответственных районах дрались только одна Латышская дивизия и 1-я Конная армия, без всякой помощи всех остальных частей фронта. В результате боев 1-я Конная армия, очевидно, потерпела неуспех и не исключена возможность, что наступление на Сальково, Громовка, Аскания-Нова прикрыто весьма слабо только одной 15-й дивизией, которая к тому же имеет задачу на Сиваш.
Директива{42}требовала произвести соответствующую перегруппировку. Но драгоценное время было потеряно.
Врангель получил возможность собрать свои силы в крепкий кулак, оставляя на пути отступления лишь заслоны. На 1-ю Конную легла вся тяжесть борьбы с сосредоточенными силами врага. В первой половине дня 30 октября 6-я и 11-я кавдивизии были атакованы в районе Агаймана конным корпусом генерала Барбовича. Коннице были приданы танки и 21 бронеавтомобиль.
Бойцы 1-й Конной сражались героически. Они неоднократно переходили в атаки, но были вынуждены оставить Агайман.
Особенно тяжелое положение сложилось для 11-й кавдивизии. Ее 1-ю бригаду атаковали вражеские танки. Молодые бойцы бригады, еще ни разу не встречавшиеся с танками, побежали. Спасая положение, вперед на конях вырвались начдив Морозов и комиссар дивизии Бахтуров. Им удалось повернуть бригаду и повести в контратаку. Но перелом в бою дался дорогой ценой: оба и Морозов и Бахтуров – погибли.
Тяжело переживали мы трагическую весть. И Морозов и Бахтуров были любимцами красных конников.
Федор Максимович Морозов – уроженец станицы Платовской. Крестьянин-батрак, в первые дни гражданской войны он вступил в красный партизанский отряд. Командовал взводом, затем – кавалерийским полком. Природный ум, отличная сметка, умение ориентироваться в любом положении в сочетании с огненным темпераментом, неуемной храбростью сделали из него в короткий срок опытного кавалерийского начальника. При разгроме Деникина он уже командовал бригадой и вскоре при переходе Конной армии на польский фронт – дивизией. Конники любили Морозова как родного отца, были готовы пойти за своим командиром в огонь и в воду. И Морозов любил конников, верил им. В своей деятельности он опирался на передовых воинов-коммунистов, постоянно заботился о том, чтобы в дивизии кипела партийно-политическая работа. Для этого он не жалел ни сил, ни времени,
– Главное в нашем бойце-коннике, – нередко говорил Морозов, – это глубокая вера в идеи революции, вера в идеи партии большевиков. А эту веру одним приказом в людские души не вложишь, надо, чтобы она укрепилась в сердце бойца, чтобы понял он, что Советская власть – его родная, кровная, без которой ему и дня не прожить. А раз она, Советская власть, его родная значит, и защищать ее надо умело, не щадя своей крови и самой жизни.
Под стать начдиву был и его комиссар Бахтуров. Павел Васильевич казак, учитель Качалинской станицы. В период калединщины возглавлял станичный ревком, проявил огромную энергию и талант организатора при формировании красных полков. В ноябре 1919 года Бахтурова назначили военкомдивом 6-й, а в августе 1920 года – военкомом 11-й кавдивизии. Бахтуров был исключительно яркой, одаренной личностью: красивый, богатырского телосложения, жизнерадостный, остроумный, блестящий оратор, поэт, музыкант. В нем сочетались высокая партийная принципиальность и душевная теплота. Умел он правдивым словом захватить в плен сердца конников.
Мне рассказывали потом, что в ночь на 31 октября Бахтуров долго не ложился спать, он сидел за столом и что-то писал. Оказалось, написал слова к песне. После гибели комиссара мне передали ее.
Песня начиналась так:
Из лесов, из-за суровых темных гор
Наша конница несется на простор.
На просторе хочет силушку собрать,
Чтоб последнюю буржуям битву дать...
Гибель начдива и комиссара в самый напряженный момент боя в ходе контратаки, когда решающим является не столько численный перевес той или иной стороны, сколько психологический настрой, дух бойцов, могла окончиться для дивизии трагически. Но этого не случилось. Красные конники не дрогнули. Командование дивизией принял командир 24-го полка Василий Васильевич Коробков. Дивизия отразила натиск врага, восстановила положение.
После окончания боя я побывал в 11-й кавдивизии. Выступил перед бойцами.
Минутой молчания мы почтили память героически погибших начдива и комиссара, комбрига Г. Колпакова. Мне тяжело было говорить о них, как о погибших, и я очень волновался.
Потом я вызвал из строя Василия Васильевича Коробкова и представил его бойцам.
– В самый решительный момент боя командир двадцать четвертого полка взял на себя командование дивизией и повел бойцов в атаку, – говорил я. – По поручению Реввоенсовета Конармии объявляю, что отныне Василий Васильевич Коробков – ваш боевой начдив. Служите, товарищи, под его началом так же, как вы это
делали при начдиве Морозове и комиссаре Бахтурове. У нас еще будут жаркие схватки. Войска Врангеля еще до конца не разбиты, и я призываю вас с новой силой ударить по врагу. Да здравствует Власть Советов!..
В ответ раздалось мощное конармейское "ура".
В. В. Коробков, командуя 11-й кавдивизией, успешно справлялся с боевыми задачами. После разгрома белогвардейских войск в Крыму, когда Конармия передислоцировалась в Екатеринославскую губернию, В. В. Коробков сильно заболел. Его сменил Ф. У. Лобачев.
Под Агайманом шли тяжелые бои. Маршевая бригада 6-й кавдивизии отошла на хутора, что в 3 – 5 верстах северо-западнее Успенской, а 2-я кавбригада 6-й кавдивизии с 62-м полком – в южном направлении. К вечеру 30 октября 2-я кавбригада 6-й кавдивизии сосредоточилась в Ново-Троицком, 2-я бригада 11-й кавдивизии – в Успенском. В Агайман вступил противник. Эту неприятную весть несколько скрасило сообщение комдива 14-й. После незначительного боя дивизия заняла Рождественское.
Надо было думать, как поступить в новой обстановке. Мы оказались на пути поспешно отступавших крупных вражеских сил. Следовало действовать смело, решительно и ни в коем случае не упускать управления из своих рук. Объединили две бригады 6-й кавдивизии и 62-й кавполк 11-й кавдивизии в одну группу.
Агайман надо было вернуть, в противном случае мы лишались стратегически важного пункта. Я приказал начдивам 6-й и 11-й совместными действиями разбить противника в Агаймане, после чего присоединиться к частям Конармии в районе Ново-Троицкое, Отрада.
Наша разведка постоянно добывала ценные сведения; это давало возможность своевременно принимать необходимые решения, чтобы упредить действия врага. В тот день, о котором идет речь, мы получили донесение, что соединения генерала Витковского (13-я, 34-я сводно-гвардейские и 6-я пехотная дивизии) группируются для последующего овладения Ново-Алексеевкой и обеспечения переправ на Крымский полуостров в районе станция Чонгар, Геническ. Общая численность войск группы – до 600 штыков и 1500 сабель. В Нижних и Верхних Серогозах группируется 1-я армия в составе корниловской, дроздовской и марковской пехотных дивизий, 1-й и 2-й кавдивизий. Кроме того, в состав 1-й армии входят несколько невыясненных полков пехоты и кавалерии. Общая численность 1-й армии – до 9 тысяч штыков и 6500 сабель при 9 бронеавтомобилях и 18 грузо-автомобилях, на которых установлены пулеметы. Задача 1-й армии та же, что и группы генерала Витковского. Нам предстояло сделать выбор – или отойти, или вступить в неравный бой, любой ценой задержать противника, не дать ему уйти в Крым. Мы выбрали последнее.
– Что ж, скрестим еще раз клинки с белогвардейцами, – сказал Климент Ефремович, – по-настоящему, по-большевистски. Может быть, в последний раз. Врангеля побьем, безусловно. А там и войне конец. Это будет "наш последний и решительный бой", – продекламировал он.
6-я и 11-я кавдивизий весь день 31 октября дрались с частями корниловской пехотной дивизии под Агайманом, предпринимали атаку за атакой, спешившись, отбивали яростные контратаки врага. К вечеру красные конники сломили сопротивление корниловцев и все-таки овладели Агайманом.
Обстановка накалялась с каждым часом. Колонны противника, отступавшего из районов Серогоз и Агаймана, обрушились в районе Ново-Алексеевки на 4-ю кавдивизию. Бой завязался жестокий. По железнодорожному полотну, ведя картечный огонь, двигались бронепоезда белых, а справа и слева от насыпи шли плотные цепи офицерских полков. В особенно тяжелое положение попала 3-я кавбригада, которой пришлось пробиваться буквально между колоннами противника. Начдив 4 С. К. Тимошенко сам несколько раз в строю конников бросался в контратаки. Он был дважды ранен, но продолжал руководить боем. Дивизия выдержала напор белых. В боях красные конники перебили много вражеских солдат, в течение двух дней захватили до 2 тысяч пленных, в том числе 15 офицеров.
В это же время яростным атакам в районе Рождественки подвергалась 14-я кавдивизия А. Я. Пархоменко. Белые наседали на нее с трех сторон. Весь день 31 октября и до вечера 1 ноября дивизия, показывая 100
чудеса отваги и мужества, сдерживала отчаянный напор врангелевцев. Только к исходу дня 1 ноября она вышла из боя и сосредоточилась в районе Ново-Троицкое.
Еще более жестокий бой проходил 31 октября в Отраде. О нем следует рассказать подробнее.
После первого дня наступления полештарм 1-й Конной и Особая кавбригада по моему указанию расположились в Отраде. Этот населенный пункт, дворов 200 – 300, занимал важное ключевое положение по отношению к Чонгару и Геническу. Через его центр проходила хорошая проселочная дорога. Село стояло на пригорке. От него далеко вокруг простиралась степь, что давало возможность вести круговой обзор. Забегая вперед, скажу, что именно благодаря этому, когда на Отраду навалились из Северной Таврии полчища врангелевцев, мы сумели обнаружить вражеские войска далеко на подходе к селу и вовремя подготовиться к бою. Словом, Отрада была во всех отношениях выгодным участком. Отсюда мне легче было руководить дивизиями во время боев.
Едва полештарм обосновался в Отраде, Лецкий сразу же установил связь со всеми дивизиями, уточнил обстановку на их участках и доложил мне. Я требовал от Лецкого далеко не отрываться с полештармом от дивизий. Трагический случай с Чапаевым, когда его штаб оторвался от основных сил и понес большой урон, был для нас уроком.
– Продолжать поддерживать надежную связь, – распорядился я.
На колокольне церкви установили наблюдательный пункт. Командиру эскадрона связи при полештарме С. М. Заславскому было приказано провести на колокольню линию связи.
Мне нравился командир эскадрона связи. С. А. Зотов, в бытность свою начальником полештарма, тоже не раз с похвалой отзывался о С. М. Заславском. Горячо преданный делу революции, честный, мужественный боец, Сергей Матвеевич был знатоком своего дела. Я не помнил случая, чтобы связь у нас отказывала.
Обстановка была тревожной.
Пришел Лецкий, крайне встревоженный.
– Донесение, – сказал он. – По некоторым данным, главные силы Врангеля двинулись в сторону Отрады.
Несколько раз перечитал я донесение и затем передал Ворошилову. Если оно не было ошибочным, нас ждали крупные неприятности. Хорошо продуманный, тщательно разработанный план разгрома врага ставился под удар.
– Что будем делать? – спрашиваю Ворошилова. – У нас ведь людей совсем мало.
– Надо выстоять. Любой ценой.
– И я так думаю. Приказ командюжа для нас – закон.
– Нам же это не в первый раз – драться с крупными вражескими силами, усмехнулся Ворошилов.
– Да, не в первый, – согласился я. – Не остановим врангелевцев, так изрядно потреплем.
Приказал Лецкому подтянуть к Отраде 4-ю кавдивизию С. К. Тимошенко. Она могла раньше других подойти к нам.
В селе расположились так. Полештарм обосновался в центре, на той самой улице, которая надвое делила село. Эскадрон связи, состоявший из четырех взводов – по 100 человек в каждом, и ординарческий кавдивизион – 2 эскадрона по 100 человек – оставались при полештарме. Они несли охрану, развозили почту по дивизиям, оперативные сводки, различные приказы и т. д. Командир кавдивизиона Десятников был храбрым, отчаянным конником. Да и все бойцы под стать своему командиру – смелые, находчивые, мужественные. Они не раз бывали в боях, имели по 3 – 4 ранения, обладали опытом ведения боя в любых условиях, особенно в населенной местности.
При полештарме находилась особая кавбригада, которой командовал Константин Иванович Степной-Спижарный. В бригаде два полка по 500 человек в каждом и артиллерийская батарея из четырех орудий. Первым полком командовал Е. И. Горячев, вторым – Г. М. Екимов, батареей – Митров.
Особая кавбригада расположилась на северной окраине села, примерно в двух километрах от полештарма.
Было ясно, что если вражеские войска до вечера не подойдут, то ночью они не осмелятся атаковать нас. И все-таки на душе тревожно.
Раздался писк телефонного аппарата. Снимаю трубку. Тревога! Белые прорвались к селу.
Полки Особой бригады занимали исходную позицию. Я вышел на улицу. Мне подали коня. Не вижу Ворошилова. Захожу вновь в избу. Климент Ефремович сидит за столом и орудует иголкой.
– Нашел время, – говорю. – Бросай!
– А что стряслось? – спокойно спрашивает он.
– Белые рядом!
– Ну и пусть. Раз пришли – встретим, как договорились. Сейчас приведу в порядок шинель и...
– Быстрее, – начинаю сердиться я.
– А куда торопиться? – смеется он.
Климент Ефремович был на редкость смелый человек. Его пренебрежение опасностью иногда выходило за рамки обычных представлений о храбрости. Он буквально играл со смертью. По этой причине не раз попадал в тяжелые переплеты и чудом оставался цел.
Я сказал Ворошилову, что поскачу в Особую бригаду, а его попросил тут людей организовать. Надо посадить на коней всех, кто только может владеть шашкой.
Когда я прискакал в Особую бригаду, Степной-Спижарный уже развернул полки для боя. Командир
1-го полка Горячев увел своих конников к ветряку – северо-западнее Отрады, построил фронтом к северу.
2-й полк прикрывал батарею. Вдали на фоне еще светлого горизонта темнели подходившие к селу массы белых. На Отраду наваливались несколько полков пехоты и конницы, поддерживаемых огнем артиллерии и броневиков.
Митров, увидев меня, сказал:
– Товарищ командарм, прикажите открыть огонь!
– Пусть ближе подойдут, потерпите!
Вот белые подошли на расстояние орудийного выстрела. Даю знак, и тотчас заговорили наши пушки.
Завязался ожесточенный артиллерийский бой. Метрах в ста от меня разорвался вражеский снаряд. На моих глазах был убит Екимов. Мы потеряли одного из лучших красных офицеров. Екимов долго командовал 2-м полком (раньше полк назывался Сибирским), принимал участие в ожесточенных боях против Колчака и Юденича.
На секунду под огнем врага люди дрогнули. И тут я решил, что поведу полк в атаку сам.
– Товарищ командарм, куда вы, нельзя вам! – крикнул Степной-Спижарный.
Конечно, с точки зрения штабных работников, мне не следовало лезть под пули. Я сам, подобно Чапаеву, учил командиров, где им надо находиться в бою, откуда лучше руководить боем. Но разве сейчас было время думать о своей безопасности?! Положение, в какое мы попали, было отчаянным – 4-я дивизия еще не давала о себе знать. Нас могли выручить лишь беззаветная храбрость и мужество конников, хладнокровие и смелость командиров. Я верил в своих людей.
– Шашки к бою! – скомандовал я. – За мной, в атаку, марш-марш!
Выхвачены шашки, коням даны шпоры, с места в карьер мы понеслись навстречу врагу. Неистовая стрельба с обеих сторон слилась в сплошной могучий рев. Глушило уши, до боли сдавливало голову, не слышно команд. Да и вряд ли кому нужно было что-то говорить и слушать. Цель атаки, ее направление для всех очевидны и ясны.
Стремительно несется полк на белых. Могучее "ура" раздается над степью. У меня в голове одна мысль – сдержать натиск врага, не дать ему прорваться к центру села, где находится полештарм. Я был уверен, что Ворошилов уже успел там подготовить людей и что врагу не удастся нас сломить.
Бойцы полка, который я повел в атаку, дрались беззаветно. Нам удалось отбросить белых от села. Я приказал Степному-Спижарному удержать северную часть Отрады во что бы то ни стало, а сам помчался к батарее Митрова, которая под прикрытием полка Горячева вела меткий огонь по белым. И вдруг слышу: