Большая книга стихов
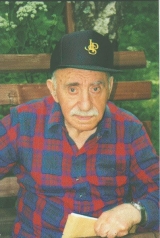
Текст книги "Большая книга стихов"
Автор книги: Семен Липкин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
РАЗМЫШЛЕНИЯ В СПЛИТЕ
Печальны одичавшие оливы,
А пальмы, как паломники, безмолвны,
И медленно свои взметают волны
Далмации корсарские заливы.
В проулочках – дыханье океана,
Туристок ошалелых мини-юбки,
И реют благовещенья голубки
Над мавзолеем Диоклетиана.
Но так же, как на площади старинной,
Видны и в небе связи временные,
И спутников мы слышим позывные
Сквозь воркованье стаи голубиной.
Давно ли в памяти живет совместность
Костра – с открытьем, с подвигом – расстрела,
С немудрою лисой – лозы незрелой?
Давно ль со словом бьется бессловестность?
Давно ли римлянин грустил державно?
Давно ль пришли авары и хорваты?
Мы поняли – и опытом богаты,
И горечью, – что родились недавно.
Мы чудно молоды и простодушны.
Хотя былого страсти много значат, —
День человечества едва лишь начат,
А впереди синеет путь воздушный.
1968
РАЗМЫШЛЕНИЯ В САРАЕВЕ
Мечеть в Сараеве, где стрелки на часах
Магометанское показывают время,
Где птицы тюркские – в славянских голосах,
Где Бог обозначает племя,
Где ангелы грустят на разных небесах.
Улыбка юная монаха-босняка
И феска плоская печального сефарда.
Народы сдвинулись, как скалы и века,
И серафимский запах нарда
Волна Авзонии несет издалека.
Одежда, говоры, базары и дворы
Здесь дышат нацией, повсюду вавилоны,
Столпотворения последние костры.
Иль не един разноплеменный
Сей мир, и все его двуногие миры?
На узкой улице прочел я след ноги
Увековеченный, – и понял страшный принцип
Столетья нашего, я услыхал шаги
И выстрел твой, Гаврила Принцип,
Дошедшие до нас, до тундры и тайги.
Когда в эрцгерцога ты выстрел произвел,
Чернорубашечный поход на Рим насытил
Ты кровью собственной, раскол марксистских школ
Ты возвестил, ты предвосхитил
Рев мюнхенских пивных и сталинский глагол.
Тогда-то ожили понятие вождей,
Камлание жреца – предвиденья замена,
Я здесь в Сараеве, почувствовал больней,
Что мы вернулись в род, в колено,
Сменили стойбищем сообщество людей…
Всегда пугает ночь, особенно в чужом,
В нерусском городе. Какая в ней тревога!
Вот милицейские машины за углом,
Их много, даже слишком много,
И крики близятся, как равномерный гром.
Студенты-бунтари нестройный режут круг
Толпы на площади, но почему-то снова
К ней возвращаются. Не силу, а недуг
Мятежное рождает слово,
И одиноко мне, и горько стало вдруг.
1968
ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ДОМА РЕМБРАНДТА
А.М.Любимову
I. ПРИГОРОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
2. УЛИЦА У КАНАЛА
Деревья движутся вслепую
Из мрака на зеленый свет,
И я внимательно рисую
Их групповой портрет.
Опасливых провинциалов,
Тревожит их, как трудный сон,
Новозастроенных кварталов
Огни, стекло, бетон.
Как человеческие руки,
Их ветви в темноте густой
Свидетельствуют о разлуке
С восторгом и мечтой.
Сперва казалось им побочным
Их отреченье от надежд,
Их приобщенье к правомочным
Недвижностям невежд.
Зачем на них смотрю я с болью
И сострадаю все живей
Ожесточенному безволью
Опущенных ветвей?
3. ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ
«Импорт-экспорт». «Врач». «Ван Гутен». «Ткани».
«Амстердамско-Роттердамский банк».
И среди фамилий и названий —
Буквы на дверях: «Дом Анны Франк».
Крепок дом и комнаты неплохи.
Снимки отблиставших кинозвезд.
Апокалипсис моей эпохи,
Как таблица умноженья, прост.
Звезды на стене, а ночь беззвездна
И не смеет заглянуть сюда.
Доченька, уснуть еще не поздно,
Чтобы не проснуться никогда.
Увядает в роще елисейской
Дерево познанья и добра,
А на почве низменной, житейской,
Начинается его пора.
Нелегко свести с концом начало.
Жизнь есть жизнь и деньги любят счет.
Вдоль дверей течет вода канала.
Знает ли, куда она течет?
4. НОЧНОЙ ДОЗОР
Как римляне времен упадка,
Еще не подводя итоги,
Деревья увядают сладко,
И признаки правопорядка —
Их красно-золотые тоги.
Еще не знают, что недуга
Свидетельство – листвы багрянец,
Что скоро их повалит вьюга,
Что в пламя, обвязавши туго,
Их бросит кельт или германец.
Не ведают, что сами пчелы
Свой мед бессильно обесценят,
Что дики будут новоселы,
Когда Октябрь на череп голый
Корону Августа наденет.
Развей безверие больное,
Но боль ума не утиши,
Ночной дозор моей души,
Мое прозрение ночное!
На площади не убран сор.
Бездомно каменеют души.
Зачем становятся все глуше
Твои шаги, ночной дозор?
Откуда страх у этих множеств —
От честных истин стать тусклей?
Не может в мире быть ничтожеств,
Родившихся от матерей!
Не бойтесь жить междоусобьем
Святынь, заветов и сердец,
быть образом и быть подобьем,
Когда прекрасен образец!
Не смейтесь над высоким слогом:
Правдовзыскующая речь
Долна, сама сгорая, жечь,
По людным двигаясь дорогам.
1968
СТЕПНАЯ ТРАВА
Песок течет, как время,
А зной звенит, как влага,
Там, где овечье племя
Молчит на дне оврага,
Где пастухи степные
У ивовой ограды
Вдруг вспомнят племенные
Забытые обряды.
Траве немного надо:
Густая общность многих,
Она сама – как стадо
Существ зеленоногих.
Когда летит в лазури
Рассветный ветер быстрый,
На их зеленой шкуре
Росы он гасит искры.
И может быть, степные
Вот эти овцеводы —
Суть листья травяные
Неведомой породы.
Как небосвод – с долиной,
Как холм песчаный – с далью,
Мы связаны единой
Надеждой и печалью.
1968
ТЕЛЕГА
И.Л.Лиснянской
К новым шумам привыкли давно уже сосны:
Звон бидонов на велосипеде,
Гул вагонов и смех в «Москвиче» иль в «Победе»,
Но внезапно – скрипучее эхо трагедий,
Этот эллинский грохот колесный.
На заре нашей жизни такие ж телеги
Так же пахли туманом и сеном
И не знали о чувстве травы сокровенном,
Деревенские, царские, с грузом военным, —
Унижали цветы и побеги…
Удивление сосен пред шумом тележным
И во мне, очевидно, проснулось,
И душа среди листьев зеленых очнулась,
И вернулась к прошедшему, и содрогнулась
Содроганием горьким и нежным.
Все, что сделал хорошего, стал вспоминать я, —
Оказалось, хорошего мало,
А дурное росло и к траве прижимало,
И у листьев найти я пытался начало
Терпеливого жизнеприятья.
Почему, я подумал, всегда безоружна
Многоликая клейкая мякоть,
А со мною поет и печалится дружно,
Почему мне так нужно, так радостно нужно,
Так позорно не хочется плакать?
1968
ОДЕССКИЙ ПЕРЕУЛОК
Акация, нежно желтея,
Касается старого дворика,
А там, в глубине, – галерея,
И прожитых лет одиссея
Еще не имеет историка.
Нам детство дается навеки,
Как мир, и завет, и поверие.
Я снова у дома, где греки,
Кляня почитателей Мекки,
В своей собирались гетерии.
Отсюда на родину плыли
И там возглавляли восстание,
А здесь нам иное сулили
Иные, пьянящие были,
Иных берегов очертания.
А здесь наши души сплетались,
А здесь оставались акации,
Платаны легко разрастались,
Восторженно листья братались,
Как часто братаются нации.
О кто, этих лет одиссея,
За нитью твоею последует?
Лишь море живет, не старея,
И время с триерой Тезея,
Все так же волнуясь, беседует.
1969
ОДЕССКАЯ СИНАГОГА
Обшарпанные стены,
Угрюмый, грязный вход.
На верхотуре где-то
Над скинией завета
Мяучит кот.
Раввин каштаноглазый —
Как хитрое дитя.
Он в сюртуке потертом
И может спорить с чертом
Полушутя.
Сегодня праздник Торы,
Но мало прихожан.
Их лица – как скрижали
Корысти и печали…
И здесь обман?
И здесь бояться надо
Унылых стукачей?
Шум, разговор банальный,
Трепещет поминальный
Огонь свечей.
Но вот несут святыню —
И дрогнули сердца.
В том бархате линялом —
Все, ставшее началом,
И нет конца!
Целуют отрешенно,
И плача, и смеясь,
Не золотые слитки,
А заповедей свитки,
Суть, смысл и связь.
Ты видишь их, о Боже,
Свершающих круги?
Я только лишь прохожий,
Но помоги мне, Боже,
О, помоги!
1969
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЕГИПТА
Гладит бога, просит, чтоб окрепла,
Женщина, болящая проказой,
Но поймет ли, что такое лепра,
Этот идол, крупный и безглазый?
Воздух пахнет знойно, пыльно, пряно,
Горяча земля и нелюдима,
И смеются люди каравана,
По всему видать, – из Мицраима.
Только мальчик в стираном хитоне
Слез с верблюда на песок сожженный,
И его прохладные ладони
Ласково коснулись прокаженной.
Он сказал: "Не камню истукана —
Это Мне слова ее молений".
И пред Богом люди каравана
Радостно упали на колени.
1969
ГОНЧАР
Когда еще не знал я слова
С его отрадой и тоской,
Богов из вещества земного
Изготовлял я в мастерской.
Порой, доверившись кувшину,
Я пил с собой наедине,
Свою замешивая глину
Не на воде, а на вине.
Не ведая духовной жажды,
Еще о правде не скорбя,
Я вылепил тебя однажды,
Прекраснобедрая, – тебя!
Но свет и для меня зажегся
С потусторонней высоты,
И, потрясенный, я отрекся
От рукотворной красоты.
Так почему же зодчий мира,
Зиждитель влаги и огня,
Глазами моего кумира
Все время смотрит на меня?
1969
КИПАРИС
За листвой, зеленеющей в зное,
Дышит море, и бледен закат.
Я один, но со мной – эти двое:
Воробьи в кипарисовой хвое
Серым тельцем блаженно дрожат.
Хорошо моим братикам младшим
В хрупкой хижине, в легкой тени,
И акация ангелом падшим
Наклоняется к иглам увядшим,
И, смутясь, ей внимают они.
Не о них ли душа укололась?
Не таит ли в себе кипарис
Твой тревожный, тревожащий голос
И улыбку, в которой веселость
И восточная горечь слились?
Ведь и я одарен увяданьем,
И на том эти ветви ловлю,
Что они пред последним свиданьем
С грустной завистью и ожиданьем
Смотрят: вправду ль живу и люблю?
1969
ПТИЦЫ ПОЮТ
Душа не есть нутро,
А рев и рык – не слово,
А слово есть добро,
И слова нет у злого.
Но если предаем
Себя любви и муке,
Становятся добром
Неведомые звуки.
Так, в роще, где с утра
Сумерничают ели,
Запели вдруг вчера
Две птицы. Как запели!
Им не даны слова,
Но так они певучи —
Два слабых существа, —
Что истиной созвучий,
Сквозь утренний туман,
Всю душу мне пронзили
И первый мой обман,
И первых строк бессилье,
И то, чем стала ты, —
Мой свет, судьба и горе,
И жажда правоты
С самим собой в раздоре.
1969
«Как ты много курила!..»
* * *
Как ты много курила!
Был бессвязен рассказ.
Ты, в слезах, говорила
То о нем, то о нас.
Одинокие тучки
Тихо шли за окном.
Ты тряслась, как в трясучке,
На диване чужом.
Комнатенку мы сняли,
Заплатили вперед,
Не сказали, но знали,
Что разлука придет,
Что на лифте взберется
На десятый этаж,
И во всем разберется,
И себя ты предашь,
И со мною не споря,
Никого не виня,
С беспощадностью горя
Ты уйдешь от меня.
1969
УЗНАВАНИЕ
Подумал я, взглянув на белый куст,
Что в белизне скрывается Ормузд:
Когда рукой смахнул я снег с ветвей,
Блеснули две звезды из-под бровей.
Подумал я, что тихая сосна
В молитвенный восторг погружена:
Когда рукой с нее смахнул я снег,
Услышал я твой простодушный смех.
Я узнаю во всем твои черты.
Так что же в мире ты и что не ты?
Все, что не ты, – не я и не мое,
Ненебо, неземля, небытие,
А все, что ты, – и я, и ты во мне,
И мир внутри меня, и мир вовне.
1969
ЗАКАТ В АПРЕЛЕ
Пред вечным днем я опускаю вежды.
Баратынский
Был он времени приспешник,
С ним буянил заодно,
А теперь утихомирился, —
Сквозь безлиственный орешник,
Как раскаявшийся грешник,
Грустный день глядит в окно.
Травяные смолкли речи,
Призадумались стволы,
Запылав, закат расширился,
И уносится далече,
Исцеляя от увечий,
Запах почвы и смолы.
Пусть тревоги вековые —
Наш сверкающий удел,
А кошелки мать-и-мачехи,
Золотисто-огневые,
Раскрываются впервые,
И впервые мир запел.
Снова жгучего прозренья
Над землей простерта сень,
Каин, Авель – снова мальчики,
Но в предчувствии боренья
Заурядный день творенья
Вновь горит, как первый день.
1969
НА ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ
Не видел сам, но мне сказали,
Что, уведя за косогор,
Цыганку старую связали
И рядом развели костер.
Туман одел передовую
И ту песчаную дугу,
Где оборотни жгли живую
На том, не нашем берегу.
А я, покуда мой начальник
Направился в политотдел,
Пошел к тебе сквозь низкий тальник,
Который за ночь поредел.
В избе, в больничном отделенье,
Черно смотрели образа,
И ты в счастливом удивленье
Раскрыла длинные, оленьи,
С печальным пламенем глаза.
Мы шли по тихому Заволжью,
И с наступленьем темноты
Костер казался грубой ложью,
А правдой – только я и ты.
Но разве не одной вязанкой
Мы, люди, стали с давних пор?
Не ты ли той была цыганкой?
Не я ль взошел на тот костер?
Не на меня ль ложится в мире
За все, чем болен он, – вина?
Мы оба на чужой квартире,
В окне – луна, в окне – война.
1969
СТРАХ
Поднимается ранний туман
Над железом загрезивших крыш,
Или то не туман, а дурман,
От которого странно грустишь?
Ты и шагу не можешь ступить,
Чтоб на лавочку сесть у окна, —
Или хочется что-то забыть,
А для этого память нужна?
Иль вселенной провидишь ты крах
И боишься остаться одна,
Иль божественный чувствуешь страх,
А для этого смелость нужна?
Все погибнет – и правда, и ложь —
В наступающем небытии,
Но боишься, что ты не умрешь,
Ибо гибели нет для любви.
1969
ЮЖНЫЕ ЦЕРКВИ
Есть Углич и Суздаль,
Чьи храмы прославлены,
Полно ли там, пусто ль, —
А в вечность оправлены.
Как музыка рощи,
Их многоголосие…
Есть церкви попроще
У нас, в Новороссии.
Не блещут нарядом,
Как мазанки – синие,
С базарами рядом
Те южные скинии.
Их камни в тумане
Предутреннем нежатся,
И в карты цыгане
За садиком режутся.
Как снасть рыболова,
Как труд виноградаря,
Здесь движется слово,
Лаская и радуя.
И нет здесь ни древа
Царей и ни древности, —
Лишь святость напева,
Лишь воздух душевности.
И лирника лира
Жужжит, сердцу близкая,
И пахнет не мирра —
Трава киммерийская.
1969
СУД
Понимая свое значенье,
Но тщеславием не греша,
В предварительном заключенье
Умирает во мне душа.
Умирает, и нет ей дела
До кощунственного ума.
Но когда ж разверзнется тело —
Государственная тюрьма?
Производится ли дознанье,
Не дают ли ей передач, —
Помогает ей жить сознанье,
Что по ней есть печаль и плач,
Что прекрасен многоголосый
Мир зеленый и голубой…
Но идут ночные допросы,
Продолжается мордобой,
И пора из тюрьмы телесной
Ей на волю выйти в гробу.
Что решит Судия небесный?
Как устроит ее судьбу?
Дальше ада, но ближе рая
Возвышается перевал.
Кто же к мертвой душе воззвал?
"Это Я по тебе, родная,
Горько плакал и тосковал".
1969
В НАЧАЛЕ ПОРЫ
Если верить молве, —
Мы в начале поры безотрадной.
Снег на южной траве,
На засохшей лозе виноградной,
На моей голове.
Днем тепло и светло,
Небеса поразительно сини,
Но сверлит как сверло
Мысль о долгой и скудной пустыне,
На душе тяжело.
И черны вечера,
И утра наливаются мутью.
Плоть моя – кожура.
Но чего же я жду всею сутью,
Всею болью ядра?
1969
ПОДОБИЕ
И снова день, самовлюбленный спорщик,
Вскипает в суете сует,
И снова тень, как некий заговорщик,
Тревожно прячет зыбкий след,
Вновь над прудом склонился клен-картежник,
В воде двоится лист-валет…
Да постыдись ты наконец, художник,
С предметом сравнивать предмет!
Тому, кто помышляет о посеве,
В подобье надобности нет,
Как матери, носящей семя в чреве,
Не нужен первенца портрет.
1970
«Листья бука, побитые градом…»
* * *
Листья бука, побитые градом,
На меня не смотрите с укором,
Листья бука, побитые градом, —
Есть судьба и пожестче.
Я б хотел умереть с вами рядом,
Умереть вон за тем косогором,
Я б хотел умереть с вами рядом
В той кизиловой роще.
1970
МОНАСТЫРСКИЕ СТЕНЫ
Висит ледяная глыба,
Обвалом грозит зима
Владимирского пошиба
И суздальского письма.
Что думает заключенный,
Какой он чувствует век
В тюрьме, где творят иконы
Рублев или пришлый грек?
Вздыхает князек опальный,
Состарен стражей двойной
За насыпью привокзальной,
За грязной, длинной стеной.
Фельдмаршал третьего рейха
Сидит на скудном пайке,
И чудной кисти еврейка
Глядит на него в тоске.
А более горький пленник,
На тех же ранен фронтах,
Ее больной соплеменник,
Ее живой современник,
Всей болью пишет впотьмах.
1970
ВОСКРЕСНОЕ УТРО В ЛЕСУ
Где, кузнечики, прятались вы до утра?
В той соломенной, что ли, сторожке?
И не вы ли, серебряных дел мастера,
Изготовили травам сережки?
Всюду птичьих базаров ганзейский союз,
Цехи тварей лесных и растений,
И, кустарь средь кустарников, я не боюсь
Ни чужой и ни собственной тени.
Предвечерние звоны незримо зовут,
Стали птицы и листья душевней.
Все мне кажется: входит ремесленный люд
Под веселые своды харчевни.
Все мне кажется: вьются былинки у губ
То с присловьем, то с шуткою хлесткой,
И толкует о тайном сообществе дуб
С молодой белошвейкой-березкой.
1970
«Я покину лес кудрявый…»
* * *
Я покину лес кудрявый,
Свет его полян,
Превращусь, как эти травы,
В розовый туман.
Огорчат меня удачи,
Рассмешат меня ошибки,
И в другой уклад
Унесу с собой горячий,
То бестрепетный, то зыбкий,
Твой прощальный взгляд.
1970
ПОДРАЖАНИЕ КАБИРУ
Я попал уловителю в сеть,
Но ячейки порвал я плечом.
Я хочу ничего не хотеть,
Я хочу не просить ни о чем.
Ты один, Ты один у того,
У кого никого, никого,
Но всего, но всего господин
У кого Ты один. Ты один.
1970
ЛИРА
От незрячего Омира
Перешла ко мне моя
Переимчивая лира —
Двуединая змея.
Никого не искушая
И не жаля никого,
Вспоминает, воскрешая,
Наше светлое родство.
И когда степняк иль горец
Жгли судьбу в чужом краю,
Робко трогал стихотворец
Лиру – добрую змею.
И она повествовала
Не про горе и беду,
А про то, как жизнь вставала,
Как готовили еду,
Как пастух огонь похитил,
Возмутив святой чертог,
Наши песни предвосхитил,
Нашей болью изнемог,
Чтобы не было поступка
Не для блага бытия,
Чтоб мудра был голубка,
Чтоб добра была змея.
1971
СЕЗАНН
Опять испортил я картину:
Не так на знойную равнину
Карьер отбрасывает тень.
Пойду, стаканчик опрокину,
Трухлявый, старый пень.
А день какой заходит в мире!
У землекопов в их трактире
Неспешно пьют и не хитрят.
Я с детства не терпел цифири,
И вот – мне шестьдесят.
Нужна еще одна попытка:
Свет обливает слишком жидко
Два яблока, что налились.
Художник пишет, как улитка
Свою пускает слизь.
Сын пекаря Иоахима
Мне говорит: "Непостижимо
Полотен ваших колдовство".
Я, дурень, плачу… Мимо, мимо,
Нет рядом никого!
Ко мне, – прости меня, Вергилий, —
Как слезы к горлу, подступили
Все неудачи долгих лет.
«Довольно малевать мазиле!» —
Кричат мне дети вслед.
Я плачу. Оттого ли плачу,
Что не могу решить задачу,
Что за работою умру,
Что на земле я меньше значу,
Чем листик на ветру?
Жизнь – штука страшная. Но в кисти
Нет рабства, низости, корысти.
Взгляни, какая вышина,
Каким огнем бушуют листья,
Как даль напряжена!
1971
БЕЛЫЙ ПЕПЕЛ
А был ли виноват
Небесный свод горелый,
Когда его пределы
Захватывал закат?
Смотри: как пепел белый
Снега кругом лежат.
Созвучием стихов
По энтропии прозы
Ударили морозы,
И тихий день таков,
Как белизна березы
На белизне снегов.
Но я отверг устав
Зимы самодовольной,
Мне от снежинки больно:
Она, меня узнав,
Звездой шестиугольной
Ложится на рукав.
1971
УТРЕННИЕ ПОКУПКИ
Весенним ветром вздута,
Покорна и громка,
Мутнеет от мазута
Чеченская река.
Две светлые пичужки
Уставились в нее, —
Как будто для просушки
Развешено белье.
Мостом, почти лубочным,
Иду в седьмом часу:
Хочу купить в молочном
Кефир и колбасу.
У женщин тех окраин,
Я с детства в это вник,
Так резок, так отчаян
И так отходчив крик.
Мне душно. Загрудинный
Я чувствую укол…
Меняются картины:
Я на базар пришел.
Как время нас чарует,
Какой везде уют,
Когда земля дарует,
А люди продают!
Беру у бизнесменки
Редиску и творог.
На родине чеченке
Пусть помогает Бог.
Пусть больше не отправит
Туда, где дни горчат,
Пусть горя поубавит,
Прибавит ей внучат,
Пусть к ней заходит в гости
Невидимым путем…
И вот опять замостье,
Пятиэтажный дом,
И ты передо мною
В гостиничном окне,
Но только не усвою, —
В окне или во мне?
1971
ПОРТРЕТ
Семейный праздник, закипая,
Шумит, сливается с движением весны,
Лишь ты недвижно смотришь со стены,
Непоправимо молодая.
Но, если б ты была жива,
Ужели бы закон свершился непреложный
И, как у прочих, были бы ничтожны
Твои заботы и слова?
Сияет мне как откровенье
Твоей задумчивой улыбки тихий свет,
И если воскресенья мертвых нет,
То наша память – воскресенье.
1971
ОБМАН
Шаман был женщиной. Он скашивал
Сверкающий зрачок,
Грозил кому-то жесткой дланью,
Урчал, угадывал, упрашивал,
Ложился на песок
И важно приступал к камланью.
Предпочитая всем событиям
Наполненность собой,
Достиг он славы громогласной,
Чаруя варваров наитием,
И звонкой ворожбой,
И даже сущностью двуснастной.
Неистовствам отделки тщательной
Внимал в толпе густой,
Ненужный всем стоящим рядом,
Пастух, ничем не примечательный,
Но странно молодой,
Со стариковским жгучим взглядом.
1971
ПОСЛЕ НЕПОГОДЫ
Тихо. Но прошло недавно лихо:
Пень торчит, как мертвая нога,
Серая береза, как лосиха,
Навзничь повалилась на снега.
Скоро лес расчистят и расчислят
И в порядок приведут опять…
Кто-то говорил: «Деревья мыслят».
Но ведь мыслить – значит сострадать,
Это значит – так проникнуть в слово,
Чтоб деянье в нем открылось вдруг,
Это значит – помнить боль былого,
Чтоб понять сегодняшний недуг,
Это значит – не витиевато
Выдумки нанизывать на нить,
А взглянуть на горе виновато
И свой взгляд в поступок превратить.
1972
ПАМЯТЬ
В памяти, даже в ее глубочайших провалах,
В детскую пору иль в поздних годинах войны,
В белых, зеленых, сиреневых, – буйных и вялых, —
Вспышках волны,
В книгах и в шумной курилке публичной читальни,
В темных кварталах, волшебно сбегающих в порт,
Где пароходы недавно оставили дальний
Вест или норд,
В школе, где слышались резкие звуки вокзала,
В доме, где прежних соседей никто не зовет, —
Ясно виднеется все, что судьбой моей стало,
Все, что живет.
Здесь отступили ворота от уличной кромки,
Где расстреляли в двадцатом рабочих парней,
Там уводили на бойню, в тот полдень негромкий,
Толпы теней.
Можно забыть очертания букв полустертых,
Можно и море забыть и, забыв, разлюбить,
Можно забыть и живущих, но мертвых, но мертвых
Можно ль забыть?
1972








