Большая книга стихов
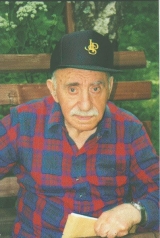
Текст книги "Большая книга стихов"
Автор книги: Семен Липкин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
ШТАБНАЯ СИМФОНИЯ
Лесных цветов счастливый
Утренний плач.
Уют неприхотливый
Брошенных дач.
Все прелести штабной картины,
Столы, столы…
Гул повторяют орудийный
Деревьев грубые стволы.
Владельцы этих зданий
Где-то в бегах,
В Сибири, в Туркестане,
В камских снегах.
Они здесь жили, как пришельцы,
Ушли в тылы,
А настоящие владельцы —
Деревьев грубые стволы.
Хотя б от них остался
Запах иль цвет!
Хотя бы вздох раздался
Чей-нибудь вслед!
Ушли, как ночь уходит в воду,
Как тени мглы,
И равнодушны к их уходу
Деревьев грубые стволы.
Здесь верить не умели,
Веря, страдать,
Смеяться в дни веселий,
В скорби рыдать,
Здесь ели много, пили много,
Боясь хулы.
Но кто ж хранил дыханье Бога?
Деревьев грубые стволы!
Отдел оперативный
Ходит волчком.
– Что делаешь, противный,
Люди кругом! —
Целует Верочка майора
Гасан-оглы.
Их тайну выболтают скоро
Деревьев грубые стволы.
И пусть мы негодуем,
Шутим, ворчим,
Но этим поцелуем,
Наглым, смешным,
Облагорожен гул горячий
И дух золы,
И эти брошенные дачи,
И эти грубые стволы.
1944
ГОРОДОК
Молодой городок.
Лебеда и песок
И уродливые дома.
Ни прохлады, ни цвета.
Суховейное лето.
Отвратительная зима.
Я тебя навещал,
Приезжать обещал,
Признаюсь, не очень любя.
Отчего же, угрюмый,
Ты вошел в мои думы
И забыть мне трудно тебя?
А какой в тебе прок —
Самому невдомек!
Не забыл тебя ради той —
Смуглолицей, учтивой,
Узкоглазой, красивой?
Пропади она с красотой!
Ради милых друзей?
Ради песни моей?
Чепуха, суета, обман!
Я друзей не взлелеял,
Ветер песню развеял,
Словно легкий, слабый дурман.
Ради трудных годов?
Ради чистых трудов?
Я не их на помощь зову.
Тут причина другая,
И, ее постигая,
Вижу: август зажег траву.
И один пешеход
Перед взором встает.
Он идет, не зная куда.
Невысокий, несмелый,
На траве обгорелой
Озирается иногда.
Справа – светлый простор.
Слева – серый бугор.
На бугре ликует базар.
Женский смех, разговоры
И веселые шпоры
Кривоногих, шумных мадьяр.
Ослабел он в пути,
А не смеет войти
В городок, где шпоры звенят,
Где его не забыли…
Побелевший от пыли,
Он пойдет назад, наугад.
Край родной, край родной
В этой шири степной
Сохрани его, защити!
Чтоб чужого не встретил,
Чтоб и сам не заметил,
Как сумел он к своим дойти!
Как с надеждой к своим
Он пришел невредим,
Как в душе сберег навсегда
Городок нелюбимый,
Где суровые зимы,
Суховей, песок, лебеда.
1944
СОЛОВЬИ
Поговорим о бродягах
С горькой мечтой о корчме.
Птицы в мужицких сермягах
Свищут в зеленой тюрьме.
До смерти им надоели
Баловни глупой судьбы —
Эти сановные ели,
Эти тупые дубы.
Осточертела до боли
Листьев могучая цепь.
Хочется в чистое поле,
Хочется в нищую степь.
Хочется жизни – голодной,
Но хоть на несколько дней,
Хоть на минуту – свободной,
Хоть на мгновенье – своей.
В диком, огнистом тумане
Песню беспечную спеть
И в разноцветном жупане
В марево смерти влететь.
1944
КВАРТИРА
Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.
Юнец-ремесленник, грустя,
Терзает балалайку.
– Я не хочу, – кричит дитя,
Колючую фуфайку! —
Прими их, муза моя, прими,
Будь за хозяйку.
Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.
Сосед за стенкой зол, как черт,
В тоске постель измята:
Живым вернулся Раппопорт
И все раппопортята!
Прими его, муза, прими,
Как брата.
Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.
У Раппопортов прежний гам
И ругань в прежнем стиле,
И прежним молятся богам
Лукавство и бессилье.
Прими их, муза моя, прими,
Они ведь просили.
Всего в квартире пять окон,
Одно выходит на балкон.
В четвертом – смех и патефон.
Чьи тайны там таятся?
Оно выходит на балкон
И все его боятся.
Прими его, муза моя, прими,
Не надо бояться.
В последней комнате темно,
Там негде повернуться,
Там смотрит женщина в окно
И хочет улыбнуться.
Не мучайся, муза, не мучай других,
Попробуй улыбнуться.
1944
СЧАСТЛИВЕЦ
Я мог бы валяться в ложбине степной,
Завеянный прахом, засыпанный солью,
Мертвец, озаренный последнею болью,
Последней улыбкой, последней мечтой.
Но вот – я живу. Я снова с тобой,
Я один из немногих счастливцев.
Я мог бы сгореть за кирпичной стеной
В каком-нибудь миром забытой Треблинке
И сделаться туком в бесплодном суглинке,
Иль смазочным маслом, иль просто золой.
Но вот – я живу. Я снова с тобой,
Я один из немногих счастливцев.
Я мог бы вернуться в свой город родной,
Где пахнут акации туго и пряно,
Где все незнакомо, и горько, и странно.
Я мог бы… Но я не вернулся домой.
Я только живу. Я снова с тобой,
Я один из немногих счастливцев.
1945
РОСА
С.Гроссману
Не тревожьтесь: вы только березы.
Что же льете вы терпкие слезы?
Ты, сосна, так и будешь сосною.
Что ж ты плачешь слезой смоляною?
Травы милые, лес подмосковный,
Неужели вы тоже виновны?
Только дачники, сладко балдея,
К счастью слабой душой тяготея,
Не хотят огорчиться слезою
И зовут эти слезы – росою.
И проходят, веселые, мимо,
Забывая, что эти росинки —
Горлом хлынувший плач Освенцима,
Бесприютные слезы Треблинки.
1945
МОРЮ
Тени заката сгустились в потемки.
Город родной превратился в обломки.
Все изменилось на нашей земле,
Резче морщины на Божьем челе,
Все изменилось на нашей планете,
Умерли сверстники, выросли дети,
Все изменилось и прахом пошло,
А не пошло, так быльем поросло!
Все изменило мечте и надежде,
Мы, только мы, все такие ж, как прежде:
Так же брожу у твоих берегов,
Так же моих ты не слышишь шагов.
1946
ДОГОВОР
Если в воздухе пахло землею
Или рвался снаряд в вышине,
Договор между Богом и мною
Открывался мне в дымном огне.
И я шел нескончаемым адом,
Телом раб, но душой господин,
И хотя были тысячи рядом,
Я всегда оставался один.
1946
У РУЧЬЯ
От платформы, от шума, от грубых гудков паровоза
В получасе ходьбы,
В тайнике у ручья уцелела случайно береза
От всеобщей судьбы.
Оттого ли, что корни пустила в неведомый глазу
Небольшой островок,
Но дыхание горя еще не ложилось ни разу
На блестящий листок.
Каждый лист ее счастлив, зеленый, веселый, певучий,
Кое-где золотой,
Только ветви ее, только белые ветви плакучи
И шумят над водой.
От нее, от блаженной, на вас не повеет участьем,
Ей недуг незнаком,
Только вся она светится полным, осмысленным счастьем,
Не отравленным злом.
Я, узнав, полюбил простодушное это величье,
Самобытный покой,
Этот сказочный свет и младенческое безразличье
К скучной скорби людской,
Этот взлет к небесам, этот рост белоствольный, могучий,
Чистоту, забытье…
Полюбил, а понять не сумел: отчего же плакучи
Ветви, ветви ее?
1946
ТОТ ЖЕ ПРИЗНАК
На окраине нашей Европы,
Где широк и суров кругозор,
Где мелькают весной антилопы
В ковылях у заснувших озер,
Где на треснувшем глиняном блюде
Солонцовых просторов степных
Низкорослые молятся люди
Желтым куклам в лоскутьях цветных,
Где великое дикое поле
Плавно сходит к хвалынской воде,
Видел я байронической боли
Тот же признак, что виден везде.
Средь уродливых, грубых диковин,
В дымных стойбищах с их тишиной,
Так же страстен и так же духовен
Поиск воли и дали иной.
1947
МУЗЫКА ЗЕМЛИ
Я не люблю ни опер, ни симфоний,
Ни прочих композиторских созданий.
Так первого столетья христиане,
Узнав, что светит свет потусторонний,
Что Бог нерукотворен и всемирен, —
Бежали грубых капищ и кумирен.
Нет, мне любезна музыка иная:
В горах свое движенье начиная,
Сперва заплачка плещется речная,
Потом запевка зыблется лесная,
И тихо дума шелестит степная,
В песках, в стозвонном зное исчезая.
Живем, ее не слыша и не зная,
Но вдруг, в одну волшебную минуту,
В душе подняв спасительную смуту,
Нам эта песнь откроется земная.
Бежим за нею следом, чтоб навеки
Исчезнуть, словно высохшие реки.
1947
НА ТЯНЬ-ШАНЕ
Бьется бабочка в горле кумгана,
Спит на жердочке беркут седой,
И глядит на них Зигмунд Сметана,
Элегантный варшавский портной.
Издалека занес его случай,
А другие исчезли в золе,
Там, за проволокою колючей,
И теперь он один на земле.
В мастерскую, кружась над саманом,
Залетает листок невзначай.
Над горами – туман. За туманом —
Вы подумайте только – Китай!
В этот час появляются люди:
Коновод на кобылке Сафо,
И семейство верхом на верблюде,
И в вельветовой куртке райфо.
День в пыли исчезает, как всадник,
Овцы тихо вбегают в закут.
Зябко прячет листы виноградник,
И опресноки в юрте пекут.
Точно так их пекли в Галилее,
Под навесом, вечерней порой…
И стоит с сантиметром на шее
Элегантный варшавский портной.
Не соринка в глазу, не слезинка, —
Это жжет его мертвым огнем,
Это ставшая прахом Треблинка
Жгучий пепел оставила в нем.
1948
ЗНАКОМЫЕ МЕСТА
Эти горные краски заката
Над белой повязкой.
Этот маленький город, зажатый
В подковке кавказской.
Этот княжеский парк, освещенный
До самых нагорий.
Уцелевшие чудом колонны
В садах санаторий.
Этот облик, спокойный и жуткий,
Разрушенных зданий.
Этот смех, эти грубые шутки
Вечерних гуляний.
Листьев липы на плитах обкома
Подвижные пятна, —
Как все это понятно, знакомо
И невероятно.
Те же горные краски заката
Сверкали когда-то.
Падал, двигаясь, отсвет пожара
На площадь базара.
Вот ракета взвилась и упала
В районе вокзала.
Низкой пыли волна пробежала,
Арба провизжала.
И по улицам этим, прижатым
К кизиловым скатам,
Шел я шагом не то виноватым,
Не то вороватым.
Но в душе никого не боялся,
Над смертью смеялся,
И в душе моей был в те мгновенья
Восторг вдохновенья,
И такое предчувствие счастья,
Свобода такая,
Что душа разрывалась на части,
Ликуя, сгорая…
1948
ВЕЧЕР НА ЧЕГЕМЕ
Вот сидит пехотинец
На почетной скамейке в кунацкой.
Молодой кабардинец
Возвратился со службы солдатской.
Просяную лепешку
Он в густую приправу макает,
Обо всем понемножку
Он в семейном кругу вспоминает.
На дворе, у сапетки,
Мать готовит цыпленка в сметане.
Дом построили предки, —
Есть об этом немало преданий.
На стене, где кремневка —
Память битвы за вольность Кавказа,
Где желтеет циновка,
Что нужна старику для намаза, —
Карта, вроде плаката:
План столичного города Вены…
День дошел до заката, —
Не погас разговор откровенный,
Разговор задушевный, —
Из чужих здесь одни лишь соседи,
И Чегем многогневный
Принимает участье в беседе.
Он течет у порога,
Как сказителя-старца поэма.
Звуки властного рога
В этом резком теченье Чегема!
Равнодушный, бесслезный,
Чуждый скорби и чуждый веселья,
Вечер тихо и грозно,
Как хозяин, вступает в ущелье.
1948
САПОЖНИК
Писанье читает сапожник
В серебряных круглых очках.
А был он когда-то безбожник,
Служил в краснозвездных войсках.
Знакомый станичник, хорунжий,
Деникинец был им пленен.
За это геройство на Сунже
Буденным он был оценен.
Домой он вернулся с заслугой,
С отрезанной напрочь ногой.
На станции встречен супругой,
Поплыл он в простор золотой.
Душистое зыблилось жито,
Шумела земля во хмелю.
Листочек, росою промытый,
К сухому прилип костылю.
В такое бы время – на жатву,
Дневать, ночевать на току,
А взялся за шило и дратву —
Спасибо, старался в полку.
Стучит молоточек по коже,
Всю четверть столетья стучит,
Душа только, Боже мой, Боже,
Всю четверть столетья молчит.
Сквозь кашель и душный, и нудный,
Сквозь кашель всю ночь напролет,
Рассказывать скучно и трудно,
Замолкнет, едва лишь начнет.
Старуха ничем не утешит,
Смеется блудливым смешком
И жирные волосы чешет
Беззубым стальным гребешком.
Шуршит за страницей страница,
Лучина давно не нужна.
Давно рассветает станица,
Давно уже в поле жена.
Он вышел. Ногою босою
Почувствовал: дышит земля.
Листочек, промытый росою,
Пристал – и упал с костыля.
О если бы назло удушью
Всей грудью прохладу вдохнуть,
В свою же заглохшую душу
Хотя бы на миг заглянуть.
О если бы, пусть задыхаясь,
Сказать этой ранней порой,
Что в жизни прекрасен лишь хаос,
И в нем-то и ясность и строй.
1948
РАННЕЕ ЛЕТО
Мы оставили хутор Веселый,
Потеряли печать при погрузке,
А туда уж вошли новоселы,
И команда велась не по-русски.
Мы поставили столик под вишней,
Застучал «ремингтон» запыленный…
– Ну, сегодня помог нам всевышний, —
Усмехнувшись, сказал батальонный.
А инструктор Никита Иваныч
Все смотрел, сдвинув светлые брови,
На блестевший, как лезвие, Маныч
И еще не остывший от крови.
Как поймет он, покинутый верой,
Что страшнее: потеря печати,
Или рокот воды красно-серой,
Или эхо немецких проклятий?
Столько нажито горечи за ночь,
Что ж сулит ему холод рассвета,
И воинственно блещущий Маныч,
И цветение раннего лета?
Искривил он язвительно губы,
Светит взгляд разумением ясным…
Нет, черты эти вовсе не грубы,
Страх лицо его сделал прекрасным!
Ах, инструктор Никита Ромашко,
Если б дожил и видел ты это, —
Как мне душно, и жутко, и тяжко
В сладком воздухе раннего лета!
Я не слышу немецких орудий,
Чужеземной не слышу я речи,
Но грозят мне те самые люди,
Что отвергли закон человечий.
Тупо жду рокового я срока,
Только дума одна неотвязна:
Страх свой должен я спрятать глубоко,
И улыбка моя безобразна.
1949
СТЕПНАЯ ПРИТЧА
Две недели я прожил у верблюдопаса.
Ел консервы, пока нам хватило запаса,
А потом перешел на болтушку мучную,
Но питаться, увы, приходилось вручную.
Нищета приводила меня в содроганье:
Ни куска полотна, только шкуры бараньи,
Ни стола, ни тарелки, ни нитки сученой,
Только черный чугунный казан закопченный.
Мой хозяин был старец, сухой и беззубый.
Мне внимая, сердечком он складывал губы
И выщипывал редкой бородки седины.
Пальцы были грязны, но изящны и длинны.
Он сказал мне с досадой, но с виду бесстрастно:
– Свысока на меня ты глядишь, а напрасно.
Я родился двенадцатым сыном зайсанга,
Я в Тибете бывал, доходил и до Ганга,
Если хочешь ты знать, то по тетке-меркитке
Из чингизовой мы происходим кибитки! —
Падежей избегая, чуждаясь глаголов,
Кое-как я спросил у потомка монголов:
– Отчего ж темнота, нищета и упадок? —
Он сказал: – То одна из нетрудных загадок.
Я отвечу тебе, как велит наш обычай,
Потускневшей в степи стародавнею притчей.
Был однажды великий Чингиз на ловитве,
Взял с собой он не только прославленных в битве,
Были те, кто и в книжной премудрости быстры,
По теперешним званьям большие министры.
Соизволил спросить побеждавший мечом:
– Наслаждение жизни, по-вашему, в чем?
Поклонился властителю Бен Джугутдин,
Из кавказских евреев был тот господин.
Свежий, стройный, курчавый, в камзоле атласном,
Он промолвил своим языком сладкогласным:
– Наслаждение жизни – в познании жизни,
А познание жизни – в желании жизни.
– Хорошо ты поешь, – отвечал Темучин, —
Только пенье твое не для слуха мужчин.
Ты что скажешь, – спросил побеждавший мечом, —
Наслаждение жизни, по-твоему, в чем?
Тут китаец оправил холеную косу
И ответил, как будто он рад был вопросу:
– Наслаждение жизни – в стремлении к смерти,
А стремление к смерти – презрение к смерти.
– Говоришь ты пустое! – воскликнул Чингиз. —
Ты что скажешь, бухарец? Омар, отзовись!
И ответил увидевший свет в бухаре
Знатный бек, – был он в золоте и в серебре:
– Наслаждение жизни – в покое и неге,
В беспокойной любви и в суровом набеге,
В том, чтоб на руку взять синецветную птицу
И охотиться в снежных горах на лисицу.
Молвил властный: – И этих я слов не приму.
Видно, слово сказать надо мне самому.
Только тот, кто страны переходит рубеж,
Подавляя свободу, отпор и мятеж,
Только тот, кто к победе ведет ненасытных,
Заставляя стенать и вопить беззащитных,
Тот, кто рубит ребенка, и птицу, и древо,
Тот, кто любит беременным вспарывать чрево,
Кто еще не родившихся режет ножом,
Разрушает настойчивый труд грабежом, —
Ненавистный чужбине и страшный отчизне,
Только тот познает наслаждение жизни!
…Солнце медленно гасло над степью ковыльной.
Мой хозяин добавил с усмешкой бессильной:
– Вот какой был порядок властителю сладок,
Потому-то пришло его племя в упадок.
1949
КАВКАЗ ПОДО МНОЮ
Отселе я вижу потоков рожденье…
Пушкин
У Маруси случилось большое несчастье:
Взяли мужа. В субботу повез он врача
И заехал к любовнице, пьяный отчасти.
В ту же ночь он поранил ее сгоряча:
С кабардинцем застал. Дали срок и угнали.
А Маруся жила с ним два года всего.
И полна она злобы, любви и печали,
Ненавидит его и жалеет его.
Камни тускло сбегают по ленте рекою,
И Маруся, в брезентовой куртке, в штанах,
Их ровняет беспомощной, сильной рукою,
И поток обрывается круто впотьмах.
Из окна у привода канатной дороги
Виден грейдерный путь, что над бездной повис.
В блеске солнца скользя, огибая отроги,
Вагонетки с породой спускаются вниз.
В облаках исчезая часа на четыре,
Возвращаются влажными: дождь на земле.
Здесь, под вечными льдами, в заоблачном мире,
Скалы нежатся в солнечном, ясном тепле.
Словно облако, мысль постепенно рождалась:
Здесь легко человека причислить к богам
Оттого, что под силу ему оказалось
Добывать из эльбрусского камня вольфрам.
Он сильнее становится с каждой попыткой,
Он взобрался недаром наверх по стволу!
…Вот Маруся вошла, освещая карбидкой
Транспортер, уплывающий в пыльную мглу.
Пусть моторы дробилки шумят на Эльбрусе,
Там, где горных орлов прекратился полет, —
Об одном говорят они тихой Марусе:
– Он вернется назад, он придет, он придет!
Пусть три тысячи двести над уровнем моря,
Пусть меня грузовик мимо бездны провез,
Все равно нахожусь я на уровне горя,
На божественном уровне горя и слез.
Потому-то могу я улыбкой утешной
На мгновенье в душе отразиться больной,
Потому-то, и жалкий, и слабый, и грешный,
Я сильнее Кавказа, Кавказ подо мной.
1950
ТОПОЛЯ В ГУНИБЕ
Многоярусный, многодостойный,
Прежде яростный, ныне спокойный,
Поднимается к небу Гуниб.
Не сгорел. Не исчез. Не погиб.
Ничего, кроме камня и славы,
Не осталось от дней Шамиля.
Ничего. Лишь одни тополя
Сохранили свой отсвет кровавый.
Я слыхал от людей: русский князь
В знак победи велел посадить их.
Высоко их семья поднялась,
Но молчат о суровых событьях.
На вершине гранитных громад
Ныне праздно зияют бойницы
Там виднеется зданье больницы,
Рядом школа, при ней интернат.
А на площади сонные парни
Ждут чего-то у входа в райком.
Пахнет мясом, вином, чесноком,
Кукурузным теплом из пекарни.
Что же смотрят на все тополя
С выраженьем угрюмой обиды?
Мнится мне: то стрелки Шамиля,
То его боевые мюриды.
1950
УТРО
Плавно сходят к морю ступени,
По бокам их – изваянные вазы,
Посредине – белый виноградарь,
В руках его зеленые кисти.
Чуть пониже – глиняные дети
На концах бесформенных пальцев
Держат глобус (или мяч футбольный),
Еще ниже, вдоль берега, – рельсы,
И когда товарные вагоны,
Грубо грохоча, пробегают,
Между ними, в странных очертаньях,
Так волшебно волнуется море,
И в куске, на мгновенье окаймленном
Платформой, колесами, дымом,
Бесстрашными кажутся чайки.
Поднимаешься в город – пахнет
Жасминами, утренним чадом,
И каспийский ветер не в силах
Этот запах теплый развеять.
Ты идешь на базарную площадь,
Что лежит у подножья Кавказа.
Восковые кисточки липы,
Коготки шиповника в палисадах,
На прилавках – яблоки и книги,
Вывески на нескольких наречьях,
Голые руки сонных хозяек,
Достающие из-за окон
Вяленой баранины полоски,
От хмеля веселые горцы
В твердых трапециях черных бурок
И папах из коричневой мерлушки,
Вдалеке, за базарной пылью,
Правильные линии кряжей,
Параллельные буркам и папахам, —
Все пронизано солнцем и ветром
И незримой связано связью,
Исполненной чудного смысла,
Но обманчивого представленья,
Что законы низменной жизни
Мудро управляют вселенной,
Что земле неизвестно горе,
Что молодые не умирают,
Что не слышишь ты приближенья
Неизбежного грозного рока.
1950
СОСНЫ
На сосны я смотрел с террасы,
На то, на это деревцо.
Они, как люди чуждой расы,
Казались на одно лицо.
Но длился труд мой плодоносный,
Свой свет на все он излучал,
И начал различать я сосны,
Как я калмыков различал.
У этой рост красив и долог,
У той опоры нет в земле.
От веток ломких, от иголок,
Не схожи тени на стволе.
Вон та горда своим убором,
Но так недуг ее тяжел,
Что планочкой пришлось с забором
Соединить непрочный ствол.
Ее жалеют: не жилица.
Слабее всех она в саду.
Лишь ночью тихо золотится,
Вонзаясь иглами в звезду.
Вон та не даст расти клубнике,
Ее невинный облик – ложь.
О той расскажешь только в книге,
Об этой в песне запоешь.
Нет безразличия былого,
Я новых нахожу друзей,
И отзывается, как слово,
Их робкий шум в душе моей.
1951
ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ
Тихо напевает арычок
О звезде над Тихим океаном
И о том, что белый кабачок
При дороге вырос под каштаном.
Пестики, покрытые пыльцой,
Средь листвы колеблемый фонарик…
Кружку пива пьет товарищ Цой,
Загорелый, высохший малярик.
В тайники тоскующей души
Проникают запахи соблазна.
Шашлыки, пельмени, беляши, —
Вкусно, жирно, дешево и грязно.
Все похоже на родной уют,
На стене – следы густой олифы,
Предлагая сорок разных блюд,
Сверху вниз бегут иероглифы.
Дальше – рынок. Продают собак.
А на среднеазиатском лессе
Набухает рис. Пахуч табак.
Хороши пшеничные колосья.
Что в полях желтеет вдалеке?
Кореянка. И над нею звонок
Комариный плач. В тугом мешке
Неподвижен за спиной ребенок.
Старый Цой, о чем же ты грустишь?
Может, погрузился ты в нирвану?
Иль в твою насильственную тишь
Ворвалась тоска по океану?
Здесь чужая, знойная земля,
В воздухе – безумье и тревога,
И бежит, и кружится, пыля,
Грейдерная бойкая дорога.
1950








