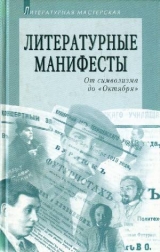
Текст книги "Литературные манифесты: От символизма до «Октября»"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Акмеизм
Наследие символизма и акмеизм
Для внимательного читателя ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает. И то, что символические произведения уже почти не появляются, а если и появляются, то крайне слабые, даже с точки зрения символизма, и то, что все чаще и чаще раздаются голоса в пользу пересмотра еще так недавно бесспорных ценностей и репутаций, и то, что появились футуристы, эгофутуристы и прочие гиены, всегда следующие за львом [17]17
Пусть не подумает читатель, что этой фразой я ставлю крест над всеми крайними устремлениями современного искусства…
[Закрыть]. На смену символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова ακμή – высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно-твердый и ясный взгляд на жизнь), – во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом.
Французский символизм, родоначальник всего символизма как школы, выдвинул на передний план чисто литературные задачи: свободный стих, более своеобразный и зыбкий слог, метафору, вознесенную превыше всего, и пресловутую «теорию соответствий». Последнее выдает с головой его не романскую и следовательно не национальную, наносную почву. Романский дух слишком любит стихию света, разделяющего предметы, четко вырисовывающего линию; эта же символическая слиянность всех образов и вещей, изменчивость их облика, могла родиться только в туманной мгле германских лесов. Мистик сказал бы, что символизм во Франции был прямым последствием Седана. Но наряду с этим он вскрыл во французской литературе аристократическую жажду редкого и труднодостижимого и таким образом спас ее от угрожающего ей вульгарного натурализма.
Мы, русские, не может считаться с французским символизмом, хотя бы уже потому, что новое течение, о котором я говорил выше, отдает решительное предпочтение романскому духу перед германским. Подобно тому, как французы искали новый, более свободный стих, акмеисты стремятся разбивать оковы метра пропуском слогов, более чем когда-либо свободной перестановкой ударений, и уже есть стихотворения, написанные по вновь продуманной силлабической системе стихосложения. Головокружительность символических метафор приучила их к смелым поворотам мысли; зыбкость слов, к которым они прислушивались, побудила искать в живой народной речи новых – с более устойчивым содержанием; и светлая ирония, не подрывающая корней нашей веры, – ирония, которая не могла не проявляться хоть изредка у романских писателей, – стала теперь на место той безнадежной, немецкой серьезности, которую так возлелеяли наши символисты. Наконец, высоко ценя символистов за то, что они указали нам на значение в искусстве символа, мы не согласны приносить ему в жертву прочих способов поэтического воздействия и ищем их полной согласованности. Этим мы отвечаем на вопрос о сравнительной «прекрасной трудности» двух течений: акмеистом труднее быть, чем символистом, как труднее построить собор, чем башню. А один из принципов нового направления – всегда идти по линии наибольшего сопротивления.
Германский символизм в лице своих родоначальников Ницше и Ибсена воздвигал вопрос о роли человека в мироздании, индивидуума в обществе и разрешал его, находя какую-нибудь объективную цель или догмат, которым должно было служить. В этом сказывалось, что германский символизм не чувствует самоценности каждого явления, не нуждающейся ни в каком оправдании извне. Для нас иерархия в мире явлений – только удельный вес каждого из них, причем вес ничтожнейшего все-таки неизмеримо больше отсутствия веса, небытия, и поэтому перед лицом небытия – все явления братья.
Мы не решились бы заставить атом поклониться Богу, если бы это не было в его природе. Но, ощущая себя явлениями среди явлений, мы становимся причастны мировому ритму, принимаем все воздействия на нас и в свою очередь воздействуем сами. Наш долг, наша воля, наше счастье и наша трагедия – ежечасно угадывать то, чем будет следующий час для нас, для нашего дела, для всего мира, и торопить его приближение. И как высшая награда, ни на миг не останавливая нашего внимания, грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда. Бунтовать же во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним – открытая дверь. Здесь этика становится эстетикой, расширяясь до области последней. Здесь индивидуализм в высшем своем напряжении творит общественность. Здесь Бог становится Богом живым, потому что человек почувствовал себя достойным такого Бога. Здесь смерть – занавес, отделяющий нас от актеров, от зрителей, и во вдохновении игры мы презираем трусливое заглядывание, – что будет дальше? Как адамисты мы немного лесные звери и, во всяком случае, не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению. Но тут время говорить русскому символизму.
Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Некоторые его искания в этом направлении почти приближались к созданию мифа. И он вправе спросить идущее ему на смену течение, только ли звериными добродетелями оно может похвастать и какое у него отношение к непознаваемому. Первое, что на такой вопрос может ответить акмеизм, будет указанием на то, что непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать. Второе, что все попытки в этом направлении – нецеломудренны. Вся красота, все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от земли и ни с какими успехами авиации не станут ближе. Бедность воображения обнаружит тот, кто эволюцию личности будет представлять себе всегда в условиях времени и пространства. Как можем мы вспоминать наши прежние существования (если это не явно литературный прием), когда мы были в бездне, где мириады иных возможностей бытия, о которых мы ничего не знаем, кроме того, что они существуют? Ведь каждая из них отрицается нашим бытием и в свою очередь отрицает его. Детски мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания – вот то, что нам дает неведомое. Франсуа Виллон, спрашивая, где теперь прекраснейшие дамы древности, отвечает сам себе горестным восклицанием:
«…Mais oú sont les neiges d’antan!»
И это сильнее дает нам почувствовать нездешнее, чем целые томы рассуждений, на какой стороне луны находятся души усопших… Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками – вот принцип акмеизма. Это не значит, чтобы он отвергал для себя право изображать душу в те моменты, когда она дрожит, приближаясь к иному; но тогда она должна только содрогаться. Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теология останется на своем престоле, но ни ее низводить до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят. Что же касается ангелов, демонов, стихийных и прочих духов, то они входят в состав материала художников и не должны больше земной тяжестью перевешивать другие, взятые им образы.
Всякое направление испытывает влюбленность к тем или иным творцам и эпохам. Дорогие могилы связывают людей больше всего. В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них – краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии. Шекспир показал нам внутренний мир человека, Рабле – тело и его радости, мудрую физиологичность, Виллон поведал нам о жизни, нимало не сомневающейся в самой себе, хотя знающей все – и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие. Теофиль Готье для этой жизни нашел в искусстве достойные одежды безупречных форм. Соединить в себе эти четыре момента – вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами.
Н. Гумилев
«Аполлон», 1913, № 1.
Некоторые течения в современной русской поэзии
Символическоедвижение в России можно к настоящему времени счесть, в главном его русле, завершенным. Выросшее из декадентства, оно достигло усилиями целой плеяды талантов того, что по ходу развития должно было оказаться апофеозом и что оказалось катастрофой… Причины этой катастрофы коренились глубоко в самом движении. Помимо причин случайных, как разрозненность сил, отсутствие вождя единого и т. д., здесь более всего действовали внутренние пороки самого движения.
Метод приближенияимеет большое значение в математике, но к искусству он неприложим. Бесконечное приближение квадрата через восьмиугольник, шестнадцатиугольник и т. д. к кругу мыслимо математически, но никак не artis mente. Искусство знает только квадрат, только круг. Искусство есть состояние равновесия, прежде всего. Искусство есть прочность. Символизм принципиально пренебрег этими законами искусства. Символизм старался использовать текучесть слова… Теории Потебни устанавливают с несомненностью подвижность всего мыслимого за словом и за сочетаниями слов; один и тот же образ не только для разных людей, но и для одного и того же человека в разное время – значит разное. Символисты сознательно поставили себе целью пользоваться, главным образом, этой текучестью, усиливать ее всеми мерами и тем самым нарушили царственную прерогативу искусства – быть спокойным во всех положениях и при всяких методах.
Заставляя слова вступать в соединения не в одной плоскости, а и непредвидимо разных, символисты строили словесный монумент не по законам веса, но мечтали удержать его одними проволоками «соответствий». Они любили облекаться в тогу непонятности; это они сказали, что поэт не понимает сам себя, что, вообще, понимаемое искусство есть пошлость… Но непонятность их была проще, чем они думали.
За этой бедой шла горшая. Что могло поставить преграды вторжению символа в любую область мысли, если бесконечная значимость составляла его неотъемлемый признак? С полной последовательностью Георгий Чулков захотел отдать во власть символа всю область политико-общественных исканий своего времени. С еще большей последовательностью ввел в символизм мистику, религию, теософию и спиритизм Вячеслав Иванов. Оба эти примера тем характерны, что еретиками оказывались сами символисты; ересь заводилась в центре. Ничьи вассалы не вступали в такие бесконечные комбинации ссор и мира – в сфере теорий, как вассалы символа. И удивительно ли, что символисты одного из благороднейших своих деятелей проглядели: Иннокентий Анненский был увенчан не ими.
К основным порокам символизма в круге разрушивших его причин нельзя не отнести также и ряды частных противоречий, живших в отдельных деятелях. Героическая деятельность Валерия Брюсова может быть определена как опыт сочетания принципов французского Парнаса с мечтами русского символизма. Это – типичная драма воли и среды, личности и момента. Сладостная пытка, на которую обрек себя наследник одного из образов Владимира Соловьева, Александр Блок, желая своим сначала резко импрессионистическим, позднее лиро-магическим приемом дать этому образу символическое обоснование, еще до сих пор длится, разрешаясь частично то отпадами Блока в реализм, то мертвыми паузами. Творчество Бальмонта оттого похоже на протуберанцы солнца, что ему вечно надо вырываться из ссыхающейся коры символизма. Федор Сологуб никогда не скрывал непримиримого противоречия между идеологией символистов, которую он полуисповедовал, и своей собственной – солипсической.
Катастрофа символизма совершилась в тишине, – хотя при поднятом занавесе. Ослепительные «венки сонетов» засыпали сцену. Одна за другой кончали самоубийством мечты о мифе, о трагедии, о великом эпосе, о великой в простоте своей лирике. Из «слепительного да» обратно выявлялось «непримиримое нет». Символ стал талисманом и обладающих им нашлось несметное количество. Смысл этой катастрофы был многозначителен. Значила она ни больше, ни меньше как то, что символизм не был выразителем духа России, – тот, по крайней мере, символизм, который был методом наших символистов. Ни «Дионис» Вячеслава Иванова, ни «телеграфист» Андрея Белого, ни пресловутая «тройка» Блока не оказались имеющими общую с Россией меру.
Искупителем символизма явился бы Николай Клюев, но он не символист. Клюев хранит в себе народное отношение в слову как к незыблемой твердыне, как к Алмазу Непорочному. Ему и в голову не могло бы прийти, что «слова – хамелеоны»; поставить в песню слово незначущее, шаткое да валкое ему показалось бы преступлением; сплести слова между собою не очень тесно, да с причудами, не с такою прочностью и простотой, как бревна сруба, для него невозможно. Вздох облегчения пронесся от его книг. Вяло отнесся к нему символизм. Радостно приветствовал его акмеизм…
Новый век влил новую кровь в поэзию русскую. Начало второго десятилетия – как раз та фаза века, когда впервые намечаются черты его будущего лика. Некоторые черты новейшей поэзии уже определились, особенно в противоположении предыдущему периоду. Между многочисленными книгами этой новой поэзии было несколько интересных; среди немалого количества кружков выделился Цех Поэтов. Газетные критики уже в самом названии этом подметили противопоставление прямых поэтических задач – оракульским, жреческим и иным. Но не заметила критика, что эта скромность, прежде всего, обусловлена тем, что Цех, принимая на себя культуру стиха, вместе с тем принял все бремя, всю тяжесть неисполненных задач предыдущего поколения поэтов. Непреклонно отвергая все, что наросло на поэзии от методологических увлечений, Цех полностью признал высоко поставленный именно символистами идеал поэта. Цех приступил к работе без всяких предвзятых теорий. К концу первого года выкристаллизовались уже выразимые точно тезы.
Резко очерченные индивидуальности представляются Цеху большой ценностью; в этом смысле традиция не прервана. Тем глубже кажется единство некоторых основных линий мироощущения. Эти линии приблизительно названы двумя словами: акмеизм и адамизм. Борьба между акмеизмом и символизмом, если это борьба, а не занятие покинутой крепости, есть, прежде всего, борьба за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю. Символизм, в конце концов, заполнив мир «соответствиями», обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами, и умалил его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще. Звезда Маир, если она есть, прекрасна на своем месте, а не как невесомая точка опоры невесомой мечты. Тройка удала и хороша своими бубенцами, ямщиком и конями, а не притянутой под ее покров политикой. И не только роза, звезда Маир, тройка – хороши, т. е. не только хорошо все уже давно прекрасное, но и уродство может быть прекрасно. После всех «неприятий» мир бесповоротно принят акмеизмом, во всей совокупности красот и безобразий. Отныне безобразно только то, что безобразно, что недовоплощено, что завяло между бытием и небытием.
Первым этапом выявления этой любви к миру была экзотика. Как бы вновь сотворенные, в поэзию хлынули звери; слоны, жирафы, львы, попугаи с Антильских островов наполняли ранние стихи Н. Гумилева. Тогда нельзя было еще думать, что это уже идет Адам. Но мало-помалу стали находить себе выражение и адамистические ощущения.
Знаменательной в этом смысле является книга М. Зенкевича «Дикая Порфира». С юношеской зоркостью он вновь и вновь увидел нерасторжимое единство земли и человека, в остывающей планете он увидел изрытое струпьями тело Иова, и в теле человеческом – железо земли. Сняв наслоения тысячелетних культур, он понял себя как «зверя», «лишенного и когтей и шерсти», и не менее «радостным миром» представился ему микрокосм человеческого тела, чем микрокосм остывающих и вспыхивающих солнц. Махайродусы и ящеры – доисторическая жизнь земли – пленили его воображение; ожили камни и металлы, во всем он понял «скрытое единство живой души, тупого вещества».
Но этот новый Адам пришел не на шестой день творения в нетронутый и девственный мир, а в русскую современность. Он и здесь огляделся тем же ясным, зорким оком, принял все, что увидел, и пропел жизни и миру аллилуйя. «И майор, и поп, и землемер», «женщина веснущатая», и шахтер, который «залихватски жарит на гармошке» и «слезливая старуха-гадалка» – все вошло в любовный взор Адама… Владимир Нарбут, выпустивший сначала книжку стихов, в которой предметов и вещей было больше, чем образов, во второй книжке («Аллилуйя») является поэтом, осмысленно и непреклонно возлюбившим землю. Описывая украинский мелкопоместный быт, уродство маленьких уютов, он не является простым реалистом, как могло бы показаться взгляду, легкому на сравнения, в победителях ищущему побежденных. От реалиста Владимира Нарбута отличает присутствие того химического синтеза, сплавляющего явление с поэтом, который и сниться никакому, даже самому хорошему, реалисту не может. Этот синтез дает совсем другую природу всем вещам, которых коснулся поэт. Горшки, коряги и макитры в поэзии, например, Ивана Никитина совсем не те, что в поэзии Владимира Нарбута. Горшки Никитина существовали не хуже и до того, как он написал о них стихи. Горшки Нарбута рождаются впервые, когда он пишет своего «Горшечника», как невиданные доселе, но отныне реальные явления. Оттого же нежить всякая у Нарбута так жива, и в такой же полной воплощенности входит в рай новой поэзии, как и звери Гумилева, как человек Зенкевича.
Новый Адам не был бы самим собой и изменил бы своей задаче, – опять назвать имена мира и тем вызвать всю тварь из влажного сумрака в прозрачный воздух, – если бы он, после зверей Африки и образов русской провинции, не увидел и человека, рожденного современной русской культурой. О, какой это истонченный, изломанный, изогнувшийся человек! Адам как истинный художник понял, что здесь он должен уступить место Еве. Женская рука, женское чутье, женский взор здесь более уместны… Лирика Анны Ахматовой остроумно и нежно подошла к этой задаче, достаточно трудной. О «Вечере» много писали. Многим сразу стали дорогими изящная печаль, нелживость и бесхитростность этой книги. Но мало кто заметил, что пессимизм «Вечера» – акмеистичен, что «называя» уродцев неврастении и всякой иной тоски, Анна Ахматова в несчастных этих зверенышах любит не то, что искалечено в них, а то, что осталось от Адама, ликующего в раю своем. Эти «остатки» она ласкает в поэзии своей рукой почти мастера.
Труднее всего было проложить новый путь к лирике; к эпосу дорога не так была засорена, но к лирике безупречных слов надо было пробиваться. Не оттого ли и называлась юношеская книга Н. Гумилева «Путь конквистадоров».
Действительно, надо было иметь много отваги и бескорыстной любви к будущему, чтобы в то время, когда расцвета своего достигла лиромагическая поэзия, исповедать и в лирике завет Теофиля Готье:
Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал
Бесстрастней! —
Стих, мрамор иль металл.
Как новый и бесстрашный архитектор, Н. Гумилев решил употреблять в поэзии только «бесстрастный материал». В этом решении тем большая видна дерзость, что по характеру своей поэзии Н. Гумилев скорее всего лирик, – музыка Верлена, магия Блока, – вот какие первоклассные твердыни он не побоялся атаковать из любви к беспристрастию. Во всяком случае, путь к новой лирике и к ничем неограничиваемым темам открыт.
Итак, это просто-напросто Парнас – новые Адамы, – скажут нам любители «кругов» в истории. Нет, это не Парнас. Адам не ювелир, и он не в чарах вечности. Если Леконт-де-Лиль и полюбился Зенкевичу, то – «Сном Ягуара». Если Гумилеву и дорог холод в красоте, то это холод Теофиля Готье, а не парнасцев. А уж какие же парнасцы Нарбут или Ахматова?
Нет, просто с новым веком пришло новое ощущение жизни и искусства. Стало ясно, что символизм не есть состояние равновесия, а потому возможен только для отдельных частей произведения искусства, а не для созданий в целом. Новые поэты не парнасцы, потому что им не дорога сама отвлеченная вечность. Они и не импрессионисты, потому что каждое рядовое мгновение не является для них художественной самоцелью. Они не символисты, потому что не ищут в каждом мгновении просвета в вечность. Они акмеисты, потому что они берут в искусство те мгновения, которые могут быть вечными.
Сергей Городецкий
«Аполлон», № 1, 1913.



![Книга Нищита интеллигенции, или Тело власти III [опыт рефлексии комплекса бытия] автора Сергей Кутолин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nischita-intelligencii-ili-telo-vlasti-iii-opyt-refleksii-kompleksa-bytiya-273516.jpg)




