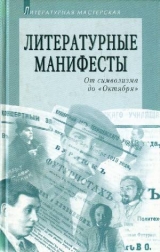
Текст книги "Литературные манифесты: От символизма до «Октября»"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Две стихии в современном символизме
Символизм и религиозное творчество
Символ есть знак, или ознаменование. То, что он означает, или знаменует, не есть какая-либо определенная идея. Нельзя сказать, что змея как символ значит только «мудрость», а крест как символ только «жертва искупительного страдания». Иначе символ – простой гиероглиф, и сочетание нескольких символов – образное иносказание, шифрованное сообщение, подлежащее прочтению при помощи найденного ключа. Если символ – гиероглиф, то гиероглиф таинственный, ибо многозначащий, многосмысленный. В разных сферах сознания один и тот же символ приобретает разное значение. Так, змея имеет ознаменовательное отношение одновременно к земле и воплощению, полу и смерти, зрению и познанию, соблазну и освящению.
Подобно солнечному лучу, символ прорезывает все планы бытия и все сферы сознания и знаменует в каждом плане иные сущности, исполняет в каждой сфере иное назначение. Поистине, как все нисходящее из Божественного лона, и символ – по слову Симеона о младенце Иисусе – σημείον άντιλεγό ενον, «знак противоречивый», «предмет пререканий». В каждой точке пересечения символа, как луча нисходящего, со сферою сознания он является знамением, смысл которого образно и полно раскрывается в соответствующем мифе. Оттого змея в одном мифе представляет одну, в другом – другую сущность. Но то, что связывает всю символику змеи, все значения змеиного символа, есть великий космогонический миф, в котором каждый аспект змеи-символа находит свое место в иерархии планов Божественного всеединства.
Символика – система символов; символизм – искусство, основанное на символах. Оно вполне утверждает свой принцип, когда разоблачает сознанию вещи как символы, а символы как мифы. Раскрывая в вещах окружающей действительности символы, т. е. знамения иной действительности, оно представляет ее знаменательной. Другими словами, оно позволяет осознать связь и смысл существующего не только в сфере земного эмпирического сознания, но и в сферах иных. Так, истинное символическое искусство прикасается к области религии, поскольку религия есть, прежде всего, чувствование связи всего сущего и смысла всяческой жизни. Вот отчего можно говорить о символизме и религиозном творчестве как о величинах, находящихся в некотором взаимоотношении.
Что до религиозного творчества, мы имеем в виду лишь одну сторону его, ту из многообразных его энергий, которая проявляется в деятельности художественной. Художество было религиозным, когда и поскольку оно непосредственно служило целям религии. Ремесленниками такого художества были, например, делатели кумиров в язычестве, средневековые иконописцы, безыменные строители готических храмов. Этими художниками владела религиозная идея. Но когда Вл. Соловьев говорит о художниках будущего: «не только религиозная идея будет владеть ими, но они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земными воплощениями» [10]10
Первая речь о Достоевском. Собр. Соч., т. III, с. 175.
[Закрыть], – он ставит этим теургамзадачу еще более важную, чем та, которую разрешали художники древние, и понимает художественное религиозное творчество в еще более возвышенном смысле.
К художнику, сознательному преемнику творческих усилий Мировой Души, теургу, относится завет:
Творящей
Матери наследник, воззови
Преображение вселенной.
(«Кормчие Звезды»)
Но как может человек способствовать своим творчеством вселенскому преображению? Населит ли он землю созданиями рук своих? Наполнит ли воздух своими гармониями? Заставит ли реки течь в предначертанных им берегах, и ветви деревьев распростираться по предуказанному плану? Напечатлеет ли свой идеал на лице земли и свой замысел на формах жизни? Будет ли художник-теург – художник-тиран, о каком мечтал Ницше, художник-поработитель, который переоценит все ценности эстетические и разобьет старые скрижали красоты, последовав единственно своей «воле к могуществу»?.. Или такой художник, который «трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит»?
Мы думаем, что теургический принцип в художестве есть принцип наименьшей насильственности и наибольшей восприимчивости. Не налагать свою волю на поверхность вещей – есть высший завет художника, но прозревать и благовествовать сокровенную волю сущностей. Как повивальная бабка облегчает процесс родов, так должен он облегчать вещам выявление красоты; чуткими пальцами призван он снимать пелены, заграждающие рождение слова. Он утончит слух и будет слышать, «что говорят вещи»; изощрит зрение и научится понимать смысл форм и видеть разум явлений. Нежными и вещими станут его творческие прикосновения. Глина сама будет слагаться под его перстами в образ, которого она ждала, и слова в созвучия, предуставленные в стихии языка. Только эта открытость духа сделает художника носителем божественного откровения.
Вот почему мы защищаем реализм в художестве, понимая под ним принцип верности вещам, каковы они суть в явлении и в существе своем, и находим менее плодотворным, менее пригодным для целей религиозного творчества эстетический идеализм; под идеализмом же разумеем утверждение творческой свободы в комбинации элементов, данных в опыте художнического наблюдения и ясновидения, и правило верности не вещам, а постулатам личного эстетического мировосприятия – красоте как отвлеченному началу. Мы не говорим о философском реализме и философском идеализме по существу; не обсуждаем и вопроса о том, не являются ли в конечном счете создания идеалистического искусства, в равной мере с произведениями искусства реалистического, соответствующими реальной истине, – и если так, то при каких условиях. Избирая метод чисто описательный, мы рассуждаем об имманентном творчеству миросозерцании художника и надеемся утвердить результат, что только реалистическое миросозерцание, как психологическая основа творческого процесса и как первый импульс к творчеству, обеспечивает религиозную ценность художественного произведения: чтобы «сознательно управлять земными воплощениями религиозной идеи», художник, прежде всего, должен верить в реальность воплощаемого.
Ознаменовательное и преобразовательное начало творчества
Нам кажется, что во все эпохи искусства два внутренних момента, два тяготения, глубоко заложенные в самой природе его, направляли его пути и определяли его развитие. Если миметическую способность человека, его стремление к подражательному воспроизведению наблюденного и пережитого мы будем рассматривать как некоторый постоянный субстрат художественной деятельности, ее психологическую «материальную подоснову» (ύλη, – сказал бы Аристотель), – то динамические элементы творчества, его оформливающие энергии, движущие и образующие силы проявятся в двух равно исконных потребностях, из коих одну мы назовем потребностью ознаменования вещей, другую – потребностью их преобразования.
Итак, подражание (μίμησις), по нашему мнению, есть непременный ингредиент художественного творчества, основное влечение, которым человек пользуется, поскольку становится художником для удовлетворения двух различных по своему существу нужд и запросов: в целях ознаменования вещей, их простого выявления в форме и в звуке, или эмморфозы, – с одной стороны; в целях преобразовательного их изменения, или метаморфозы, – с другой.
Человек уступает этому влечению подражательности или для того, чтобы вызвать в других наиболее близкое, по возможности адекватное представление о той или иной вещи, или же для того, чтобы создать представление о вещи, заведомо отличное от нее, намеренно ей не адекватное, но более угодное и желанное, нежели самая вещь. Реализм и идеализм изначала соприсутствуют задачам и устремлениям деятельности художественной, – и как бы они ни переплетались между собой, в какие бы ни входили они взаимные сочетания, оба везде различимы как формы типа женского, рецептивного (реализм) и мужеского, инициативного (идеализм).
Реализм, как принцип ознаменования вещей (res), многообразен и разнолик, в зависимости от того, в какой мере напряжена и действенна, при этом ознаменовании, миметическая сила художника. Когда подражательность (μίμησις) утверждается до преобладания, мы говорим о натурализме; при крайнем ослаблении подражательности, мы имеем перед собой феномен чистой символики. Соединение нескольких линий на рисунке дикаря или ребенка достаточно для наглядного ознаменования человека, зверя, растения. Простое наименование вещей, перечисление предметов есть уже элемент поэзии, от Гомера до перечней Андре Жида. Но как натурализм, так и гиероглифический символизм и номинализм принадлежат кругу реализма, потому что художник, имея перед собой объектом вещь, поглощен чувствованием ее реального бытия и, вызывая ее своею магией в представлении других людей, не вносит в свое ознаменование ничего субъективного.
Будучи по отношению к своему предмету чисто восприимчивым, только рецептивным, художник-реалист ставит своею задачею беспримесное приятие объекта в свою душу и передачу его чужой душе. Напротив, художник-идеалист или возвращает вещи иными, чем воспринимает, переработав их не только отрицательно, путем отвлечения, но и положительно, путем присоединения к ним новых черт, подсказанных ассоциациями идей, возникшими в процессе творчества, – или же дает неоправданные наблюдением сочетания, чада самовластной, своенравной своей фантазии.
В древнейшем искусстве естественно господствует начало ознаменования; и обрядово-служебный, гиератический характер художества архаического, делает его символическим по преимуществу, так как предметом его служат вещи не земной, а Божественной действительности. Это – символический реализм, имеющий целью создать предметы, безусловно соответствующие вещам божественным и потому могущие служить их фетишами. Идеалистическая закваска еще неуловима в акте художественного творчества или, по крайней мере, действенна лишь бессознательно. Стремление оживить символику приближением к наблюдаемой действительности, более активное пробуждение миметической способности ведет искусство к той точке равновесия между ознаменованием и преобразованием, где художник уже дерзает провозгласить свой идеал Божественной вещи совершенным подобием самой вещи.
Так, Фидий соблазняет эллинов признать сотворенного им Зевса истинною иконою олимпийской красоты; и поскольку народное мнение было согласно в том, что видевший Фидиев кумир уже не может более быть несчастным в жизни, т. е., другими словами, лицезрением этого лика стал почти равен, по освящающему значению испытанного им блаженного созерцания, по могущественной и благодатной силе им пережитого, тем посвященным, которые зрели свет элевсинских таинств, навсегда делающих человека беспечальным, – поскольку, через много веков после Фидия, мнение флорентийской общины было согласно в том, что воистину лик Богоматери явлен миру кистью Чимабуэ, – постольку искусство еще служит целям правого ознаменования, и художник еще женственно-восприимчив к откровению, воплотившемуся в религиозном сознании народа.
Но раз ступив на путь идеализма, художник неминуемо пойдет далее по наклонной плоскости личного дерзновения; рано или поздно, он откажется от принципа символического ознаменования, ради красоты своего свободно расцветшего в душе « идеала», который он передаст толпе как произведение своеймечты, своего « творчества», чтобы пленить ее зрелищем красоты, толькокрасоты, быть может, не существующей в действительности ни здесь, ни выше, но тем более милой, как залетная птица из сказочных стран; рано или поздно станет и провозгласит себя художник обманчивой Сиреной, волшебником, вызывающим по произволу обманы, которые дороже тьмы низких истин, рано или поздно он подымет этот мятеж против истины из недоверия к сокровенным возможностям ее осуществления в красоте.
Когда Платон упрекает искусство в том, что оно берет своею моделью не идеи вещей, а самые вещи, делаясь органом только миметической способности человека, он может быть понят двояко, смотря по тому, в какой мере мы согласимся признать в нем философа-реалиста или философа-идеалиста. Поскольку идеи Платона суть rês realissimae, вещи воистину, он требует от искусства столь близкого ознаменования этих вещей, при котором случайные признаки их отображения в физическом мире должны отпасть, как затемняющие правое зрение пелены, т. е. требует символического реализма. Поскольку, однако, идеи Платона, в истолковании позднейших мыслителей, обращаются в «понятия» (Begriffe) в формально-логическом или гносеологическом смысле, постольку эстетика начинает видеть в нем поборника идеалистического искусства, свободного творчества, избавившего себя от счетов с данными как наблюдаемой, так и прозреваемой действительности, от долга верности вещам, познаваемым опытом, равно внешним или внутренним…
Реалистический символизм
Стихотворение Бодлера «Соответствия» (Correspondances) было признано пионерами новейшего символизма основоположительным учением и как бы исповеданием веры новой поэтической школы. Бодлер говорит:
Природа – храм. Из его живых столпов вырываются порой смутные слова. В этом храме человек проходит чрез лес символов; они провожают его родными, знающими взглядами. «Подобно долгим эхо, которые смешиваются вдалеке и там сливаются в сумрачное, глубокое единство, пространное как ночь и как свет, – подобно долгим эхо отвечают один другому благоухания, и цвета, и звуки» [11]11
La Nature est un temple où ies vivants piliersLaissent parfois échapper de confuses paroles.L’nomine у passe à travers la forêt de symboles,Qui l’observent avec des regards familiers.Comme de longs échos qui de loin se confondentDans une ténébreuse et profonde unité,Vaste comme la nuit et comme la clarté,Les couleurs, Ies parfums et Ies sons se répondent.
[Закрыть].
Итак, поэт разоблачает реальную тайну природы, всецело живой и всецело основанной на сокровенных соответствиях, родствах и созвучиях того, что мертвенному неведению нашему мнится разделенным между собою и несогласным, случайно близким и безжизненно-немым; в природе звучит для слышащих многоустое вечное слово.
Провозглашение объективной правды, как таковой, не может не быть признано реализмом; и так как стихотворение в то же время изъясняет реальное существо природы как символа другими новыми символами (храма, столпов, слова, взора и т. д.), мы должны признать его относящимся к типу реалистического символизма. Итак, в самой колыбели современного символизма мы находим чистый образец ознаменовательного творчества, в вышераскрытом смысле этого термина.
Каковы были корни этого типа, станет явным из сличения разбираемого сонета с некоторыми местами из мистико-романтических повестей Бальзака «Lambert» и «Séraphita». Мы читаем в рассказе «Louis Lambert»: «Все вещи, относящиеся вследствие облеченности формою к области единственного чувства – зрения, могут быть сведены к нескольким первоначальным телам, принципы которых находятся в воздухе, в свете или в принципах воздуха и света. Звук есть видоизменение воздуха; все цвета – видоизменения света; каждое благоухание – сочетание воздуха и света. Итак, четыре выявления материи чувству человека – звук, цвет, запах и форма – имеют единое происхождение… Мысль, родственная свету, выражается словом, представляющим собою звук». В другом месте той же повести высказана следующая гипотеза: «Быть может, благоухания суть идеи. Ничего нет невозможного в чудесных видоизменениях человеческой субстанции». И в «Серафите» мы находим такое сближение: «Они обрели принцип мелодии, слыша песнопения неба, которые производили ощущения красок, благовоний и мыслей и напоминали бесчисленные подробности всех творений, как земная песня воскрешает мельчайшие воспоминания о любви». В другой связи Бальзак высказывается о том же предмете так: «Мне приходило на мысль, что цвета и листва деревьев имеют в себе гармонию, которая выявляется нашему сознанию, очаровывая наш глаз, как музыкальные фразы вызывают тысячи воспоминаний в сердце любящих и любимых… Я знаю, где цветет цветок поющий, где светится свет, одаренный речью, где сверкают и живут краски благоухающие». Самое имя «Соответствия» («Correspondances») встречается как термин, знаменующий общение высших и низших миров, по Якову Беме и Сведенборгу, в повести «Серафита».
Вот источники стихотворения, сыгравшего роль символа веры новой поэтической школы: мистическое исследование скрытой правды о вещах, откровение о вещах более вещных, чем самые вещи (res realiores), о воспринятом мистическим познанием бытии, более существенном, чем самая существенность; и эти разоблачения почерпнул символист и декадент Бодлер в творениях реалиста и романтика Бальзака.
Но если из этого примера явною станет связь, сочетавшая тот тип современного символизма, который мы называем реалистическим, как с литературным движением реализма, так и со школой романтизма, изобилующего в лице таких романтиков, как Новалис, аналогиями мистической символики, то, с другой стороны, он питает свей корни в творчестве Гете. Вопрос о значении символа для целей искусства живо занимал Шиллера в эпоху усвоения им философии Канта; и хотя сам Шиллер остался, по преимуществу, идеалистом, Гете, которому он сообщил все выводы своего кантианства, использовал понятие символа в своем, гетевском, объективно-познавательном и вместе мистическом смысле и могущественно оплодотворил им свое личное творчество. Гете говорит, что ему передано «покрывало Поэзии из рук Истины» («der Dichtung Schleier aus der Hand der Wahrheit»), как бы повторяя стих старого вещего певца эпохи ознаменовательной – Данта: «mirate la dottrina che s’asconde sotto’l velame dei versi strani» – «дивитесь учению, сокровенному под покрывалом стихов странных» [12]12
Мистик Новалис также убежден, что поэзия – «das absolut Reelle; je poëtischer, je wahrer».
[Закрыть]. И современный поэт типа реалистического символизма слышит родное в заветах художника из Wilhelm Meisters Wanderjahre того же Гете:
«Как природа в многообразии своем открывает единого Бога, так в просторах искусства творчески дышит единый дух, единый смысл вечного типа. Это есть чувствование истины, которая облекается только в прекрасное и смело устремляется навстречу последней ясности самого светлого дня» [13]13
Wie Natur im VielgebildeEinen Gott nur offenbart,So im weiten KunstgefildeWebt ein Sinn der ewigen Art.Dieses ist der Sinn der Wahrheit,Die sich nur mit Schönem schmückt,Und getrost der höchsten KlarheitHellsten Tags entgegenblickt.
[Закрыть].
И далее: «Пусть всегда стоит свежею перед художником радостная роза жизни, изобильно окруженная своими сестрами, обложенная вокруг плодами осени, дабы она возбуждала своею явною тайной чувствование ее сокровенной жизни» [14]14
Das sie von geheimen LebenOffenbaren Sinn erregt.
[Закрыть].
Вызвать непосредственное постижение сокровенной жизни сущего, снимающим все пелены изображением явного таинства этой жизни – такую задачу ставит себе только реалистический символист, видящий глубочайшую истинную реальность вещей, realia in rebus, и не отказывающий в относительной реальности и феноменальному постольку, поскольку оно вмещает реальнейшую действительность, в нем сокрытую и им же ознаменованную. «Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss» – «все преходящее – только символ». К идеалистическому искусству Гете приближается единственным вполне законным и для реализма равно приемлемым и священным требованием (вспомним, что идеи Платона суть res) – настойчивым требованием раскрытия и утверждения общего типа в сменяющемся и неустойчивом многообразии явлений: «в просторах искусства творчески дышит единый дух, единый смысл вечного типа».
Идеалистический символизм
Но, кроме элементов символизма реалистического, в новой поэзии изначала обозначались и черты идеалистического символизма, по существу своему разноприродного первому. Стихотворение «Соответствия» Бодлер продолжает так:
«Есть запахи свежие, как детское тело, сладкие, как гобой, зеленые, как луга; и есть другие, развратные, пышные и победно-торжествующие, вокруг распростирающие обаяние вещей бессмертных, – таковы амбра, мускус, бензой и ладан; они поют восторги духа и упоение чувств» [15]15
Il est des parfums frais comme la chair d’enfants,Doux comme les hautbois, verts comme les prairies;Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,Ayant l’expansion des choses infinies,Comme l’ambre, le muse, le benjoin et l’encens,Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.
[Закрыть].
Не правда ли, поэт покидает здесь свою основную мысль о стройном соответствии в природе как о мистическом начале ее скрытой жизни и явной тайне ее феноменального воплощения? Он останавливается на примерах, на частностях и ограничивается тем, что соблазнительно заставляет нас ощутить в воспоминании ряд благоуханий и сочетать их навязчивыми ассоциациями с рядом зрительных или звуковых восприятий? Не достигнем ли мы путем переживания этого параллелизма чувственных впечатлений, только обогащения своего воспринимающего я? В смысл этого параллелизма по отношению к загадке сокровенной жизни естества мы не имеем никакого прозрения. Но мы стали более чуткими; более утонченными, мы сделали эксперимент и чувствуем себя ободренными к дальнейшему экспериментализму, и притом наиболее в области искусственного. Да и само понятие психологического эксперимента есть уже понятие искусственного переживания. Тайна вещи, res, почти забыта; зато пиршественная роскошь нашего всепознающего и от всего вкушающего яцарственно умножена. Соломон велел строить храм – и предался наслаждению; он спел своей возлюбленной, сестре своей, песнь песней – и утонул в негах гарема.
Здесь появляется второй лик Бодлера – лик парнасца. Парнассизм Бодлера обусловил, прежде всего, всю техническую и формальную сторону его поэзии. Его канонически правильный и строгий стих, дивной чеканки, его размеренные, выдержанные строфы, его любовь к метафоре, которая остается зачастую еще только риторическою метафорой, не пресуществляясь в символ, его лапидарность, его консерватизм в приемах внешней поэтической и музыкальной изобразительности, преобладание пластики над музыкой в строке, выработанной как бы в скульптурной мастерской Бенвенуто Челлини, – все это – наследие парнасской эстетики, которой Верлен противопоставляет свой завет верности духу музыки и песни:
De la musique avant toute chose;
Et pour cela préfère l’impaire,
Plus vague et plus soluble dans l’air,
Sous rien en lui qui pèse ou qui pose.
Бодлер не мог бы «свернуть шею красноречию» по завету Верлена («prends l’éloquence et tords-lui son cou») или хотя бы только в принципе пожелать осуществления такого стиха, который бы производил впечатление неопределенности и «растворялся в воздухе»; Бодлер желал, чтобы стих имел вес металла и позу статуи. Его красота – мраморный кумир в знаменитом и чисто парнасском стихотворении «La Beauté».
Из преданий Парнаса возникло в новом символизме предпочтение искусственного естественному. Из преданий Парнаса – искание редкого и экзотического. Все, что декадентство утверждало радикально и доводило до последней, до крайней черты, было завещано ему Парнасом в умеренной, разумной дозе или в зародыше. Декадентство, как таковое, есть только мнимый бунт против каноники идеалистического, классического искусства. Оно само по себе глубоко идеалистично, и даже канонично; по крайней мере, оно тотчас взялось за работу над формулами и уставами искусства и уважало в поэзии превыше всего мастерство (la maîtrise, die Mache).
Что усвоило себе декадентство из стихии искусства символического? Оно тотчас устремилось к символам и нашло данною ту реалистическую символику, о которой мы говорили; прикоснулось к ней и прошло мимо нее, вырабатывая иную форму субъективной идеалистической символики. Вот пример. Пересыпание золотого песку есть образ нечуждый символике религиозной: он имеет отношение к высшим состояниям мистического созерцания. Как же пользуется им Vielé Griffin? Для прославления химеры, для апофеоза иллюзии. Горсть песку достаточна для поэта, чтобы вообразить себя владельцем груд золота. Самые тусклые дни самого ничтожного существования он волен превратить мечтой в «духовную вечность» (éteraité spirituelle).
Итак, с одной стороны, канон Возрождения и классицизма, новый Парнас, древняя античная преемственность и глубокое, но самодовольное сознание поры упадка и одряхления благородной генеалогии этой преемственности, чисто латинское самоопределение новейшего искусства, как искусства поздних потомков и царственных эпигонов, и чисто александрийское представление о красоте увядания, о роскошной, утонченной прелести цветущего тления; с другой стороны, ушедшие под землю ключи средневековой мистики и прислушивание к их глубокому рокоту, предчувствие нового откровения явной тайны о внутренней жизни мира и смысле ее, реализм, романтизм и прерафаэлитское братство – оба эти потока влились в жилы современного символизма и сделали его явление гибридным, двуликим, еще не дифференцированным единством, предоставив судьбам его дальнейшей эволюции проявить в раздельности каждое из двух внешне слитых, внутренне противоборствующих его начал.
Реалистический символизм и мифотворчество
Мы установили происхождение идеалистического символизма от античного эстетического канона чрез посредство Парнаса, и происхождение реалистического символизма от мистического реализма средних веков чрез посредство романтизма и при участии символизма Гете. Принцип идеалистического символизма был определен нами как психологический и субъективный, принцип реалистического символизма как объективный и мистический. Для первого типа символ – средство, для второго – цель. Приближение к цели наиболее полного символического раскрытия действительности есть мифотворчество. Реалистический символизм идет путем символа, к мифу; миф – уже содержится в символе, он имманентен ему; созерцание символа раскрывает в символе миф.
Мифотворчество возникает на почве символизма реалистического. Идеалистический символизм может дать новые воспроизведения древнего мифа, он украсит его и приблизит к современному сознанию, он вдохнет в него новое содержание философское и психологическое; но, гальванизуя его таким образом или, если угодно, возводя его в «перл создания», он, во-первых, не сотворит нового мифа, во-вторых – отнимет жизнь у старого, оставив нам его мертвый слепок или призрачное отражение. Ибо миф – отображение реальностей, и всякое иное истолкование подлинного мифа есть его искажение. Новый же миф есть новое откровение тех же реальностей; и как не может случиться, чтобы кем-либо втайне обретенное постижение некоторой безусловной истины не сделалось всеобщим, как только это постижение возвещено хотя бы немногим, так невозможно, чтобы адекватное ознаменование раскрывшейся познающему духу объективной правды о вещах не было принято всеми как нечто важное, верное, необходимое и не стало бы истинным мифом, в смысле общепринятой формы эстетического и мистического восприятия этой новой правды.
Постигая то, что в творчестве типа идеалистического служит суррогатом мифа, мы изучаем душу художника, его субъективный мир, и в той мере, в какой этот последний аналогичен нашему, ценим творение, как отвечающее внутренним запросам времени и сказавшее за нас, что просилось на наши уста. В истинном же мифе мы уже не видим ни личности его творца, ни собственной личности, а непосредственно веруем в правду нового прозрения. Создание идеалистического символизма есть, при maximume его всенародности, только изобретение, суммирующее усилия наших исканий; миф, выросший из символа, принятого как ознаменование сознанной сущею, хотя и прикровенной реальности, есть обретение, упраздняющее самое искание до той поры, пока то же познание не будет углублено дальнейшим проникновением в его еще глубже лежащий смысл.
Ибо в те далекие эпохи, когда мифы творились воистину, они отвечали вопросам испытующего разума тем, что знаменовали realia in rebus. Не для того чтобы украсить понятие солнца или окрасить его восприятие определенным оттенком, древний человек нарек его Титаном Гиперионом или лучезарным Гелиосом, но чтобы ознаменовать его ближе и правдивее, чем если бы он изобразил его в виде нечеловекоподобного светлого диска; представляя его неутомимым титаном или юным богом с чашею в руках, древний человек утверждал о нем нечто более действительное, нежели видимый диск. И когда приходил другой мифотворец и возражал первому, что Солнце не Гелиос и Гиперион вместе, а именно Гелиос, тогда как Гиперион его отец, – и когда пришли потом новые мифотворцы и сказали, что Гелиос – Феб, и, наконец, еще позднее, пришли орфики и мистики и провозгласили, что Гелиос – тот же Дионис, что доселе известен был только как Никтелиос, ночное Солнце, – то спорили о всем этом испытатели сокровенного существа единой res, и каждый стремился сказать о той же res нечто утлубленнейшее и реальнейшее, чем его предшественник, восходя, таким образом, от менее к более субстанциальному познанию вещи Божественной. Сущность мифотворчества характернее всего сказывается в те мгновения колебаний, когда в ожидании расцветающего мифа, который должен быть не изобретением, а обретением, человек не знает в точности, каковою окажется скрытая сущность установленной, но еще не выявившейся мистическому сознанию или утраченной, забытой им религиозной величины. Отсюда надпись: «неведомому богу» на афинском жертвеннике, отсюда посвящение «или богу или богине» на алтаре палатинском.
Из чего следует, что творится миф ясновидением веры и является вещим сном, непроизвольным видением, «астральным» (как говорили древние тайновидцы бытия) гиероглифом последней истины о вещи сущей воистину. Миф есть воспоминание о мистическом событии, о космическом таинстве. Поистине небо сходило на землю, любило и оплодотворяло ее, как повествует Эсхил, говоря о ливне Урана, пролившемся на разверстую Гею.
В «Яри» С. Городецкого есть несколько не лучших в книге стихов, в которых молодой поэт, предчувствуя тайну мифа, метко очерчивает его происхождение («Великая Мать»):
Ты пришла золотая царица,
И лицо запрокинула в небо,
Розовея у тайн Диониса.
И колосья насущного хлеба
Розоватые подняли лица,
Чтобы зерна тобой налилися.
Ты уйдешь, золотая царица,
Разольются всенощные тени;
Но верна будет алому мигу
Рожь, причастница тайновидений,
И старуха, ломая ковригу,
Скажет сказку о перьях Жар-Птицы.
Реальное мистическое событие – в данном случае брак Деметры и Диониса – событие, совершившееся в высшем плане бытия, сохранилось в памяти хлебных колосьев, так как душа вещей физического мира (в приведенных стихах: ржи) есть, поистине, причастница тайновидений и тайнодеяний плана Божественного; и человек, причащаясь хлебу, делается в свою очередь причастником тех же изначальных тайн, которые и вспоминает неясною, только ознаменовательною памятью потусторонних событий: в этой смутности воспоминания – глубочайшее существо мифа. Явственного прозрения в мистерию брака между Логосом и Душою Земли – в народном мифе и быть не может; и старуха, ломая ковригу, расскажет только далекую и неверную, при всей своей великой ознаменовательной правдивости, «сказку» про перья Жар-Птицы.
Так верит поэт, так он познает интуитивным своим познаванием. Мифотворчество – творчество веры. Задача мифотворчества, поистине, – «вещей обличение невидимых». И реалистический символизм – откровение того, что художник видит, как реальность, в кристалле низшей реальности. Такое тайновидение мы встречаем у Тютчева, которого признаем величайшим в нашей литературе представителем реалистического символизма.



![Книга Нищита интеллигенции, или Тело власти III [опыт рефлексии комплекса бытия] автора Сергей Кутолин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nischita-intelligencii-ili-telo-vlasti-iii-opyt-refleksii-kompleksa-bytiya-273516.jpg)




