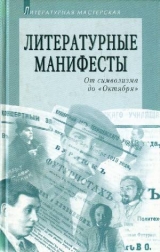
Текст книги "Литературные манифесты: От символизма до «Октября»"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Экономика и искусство
Развитие производительных сил ставит людей в такие отношения, при которых личное присвоение некоторых предметов оказывается более удобным для производительного процесса. Сообразно с этим изменяются правовые понятия первобытного человека. Психологияобщества приспособляется к его экономии. На данной экономической основе роковым образом возвышается соответствующая ей идеологическая надстройка. Но, с другой стороны, каждый новый шаг в развитии производительных сил ставит людей, в их повседневной житейской практике, в новые взаимные положения, не соответствующие отживающим отношениям производства. Эти новые, небывалые положения отражаются на психологии людей, очень сильно ее изменяют. В каком же направлении? Одни члены общества отстаивают старые порядки – это люди застоя. Другие – те, которым невыгоден старый порядок, – стоят за поступательное движение; их психология видоизменяется в направлении тех отношений производства, которыми заменятсясо временем старые, отживающие экономические отношения. Приспособление психологии к экономии, как видите, продолжается, но медленная психологическая эволюция предшествуетэкономической революции [4]4
По существу, это тот же самый психологический процесс, который переживает теперь европейский пролетариат: его психология уже приспособляется к новым, будущим отношениям производства.
[Закрыть].
Раз совершилась эта революция, устанавливается полное соответствие между психологией общества и экономией. Тогда на почве новой экономии происходит полный расцвет новой психологии. В течение некоторого времени это соответствие остается ненарушимым; оно даже все более и более упрочивается. Но мало-помалу показываются ростки нового разлада; психология передового класса, по указанной выше причине, опять переживает старые отношения производства: ни на минуту не переставая приспособляться к экономии, она опять приспособляется к новымотношениям производства, составляющим зародыш экономии будущего. Ну разве же это не две стороны одного и того же процесса?
До сих пор мы иллюстрировали мысль Маркса главным образом примерами из области имущественного права. Это право есть, несомненно, та же идеология, но идеология первого, так сказать, низшего порядка. Как надо понимать взгляд Маркса на идеологии высшего порядка – на науку, на философию, на искусство и т. д.?
В развитии этих идеологий экономия является основой в том смысле, что общество должно достигнуть известной степени благосостояния для того, чтобы выделить из себя известный слой людей, посвящающих свои силы исключительно научным и прочим подобным занятиям. Далее, самое направление умственной работы в обществе определяется его отношениями производства. О науках еще Вико сказал, что они вырастают из общественных нужд. По отношению к такой науке, как политическая экономия, это ясно для всякого, кто хоть немного знаком с ее историей. Граф Пеккио справедливо заметил, что политическая экономия в особенности подтверждает то правило, что практика всегда и везде предшествует науке. Конечно, и это можно истолковать в очень отвлеченном смысле; можно сказать: «ну, разумеется, для науки нужен опыт, и чем больше опыта, тем полнее наука». Дело не в том. Сравните экономические взгляды Аристотеля или Ксенофонта со взглядами Адама Смита или Рикардо, и вы увидите, что между экономической наукой древней Греции, с одной стороны, и экономической наукой буржуазного общества – с другой, существует не только количественная, но и качественнаяразница: совсем иная точка зрения, совсем иное отношение к предмету. Чем объясняется эта разница? Да просто тем, что изменились самые явления: отношения производства в буржуазном обществе не похожи на античные отношения производства. Различные отношения в производстве создают различные взгляды в науке. Мало этого. Сравните взгляды Рикардо со взглядами какого-нибудь Бастиа, и вы увидите, что эти люди различно смотрят на отношения производства, оставшиеся по своему общему характерунеизменными, – на буржуазныеотношения производства. Почему это? Потому что в эпоху Рикардо эти отношения только еще расцветали, только еще упрочивались, а во время Бастиа они уже начали клониться к упадку. Различные состояния тех же самых отношений производства необходимо должны были отразиться на взглядах тех людей, которые их защищали.
Или возьмем науку государственного права. Как, почему развивалась ее теория? «Научная разработка государственного права, – говорит профессор Гумплович, – начинается лишь там, где господствующие классы приходят между собой в столкновение по поводу принадлежащей каждому из них сферы власти. Так, первая большая политическая борьба, с которой мы встречаемся во второй половине европейских средних веков, борьба между светской и духовной властью, борьба между императором и папой, дает первый толчок развитию немецкой науки, государственного права. Вторым спорным политическим вопросом, внесшим раздвоение в среду господствующих классов и давшим толчок публицистической разработке соответствующей части государственного права, был вопрос об избрании императоров» и т. д.
Что такое взаимные отношения классов? Это, прежде всего, именно те отношения, в которые люди становятся друг к другу в общественном производительном процессе: отношения производства. Эти отношения находят свое выражение в политической организации общества и в политической борьбе разных классов, а эта борьба служит толчком для возникновения и развития различных политических теорий: на экономической основе необходимо возвышается соответствующая ей идеологическая надстройка.
Но и это все идеологии, если не первого, то, во всяком случае, и не самого высшего порядка. Как обстоит дело, например, с философией, с искусством? Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны сделать некоторое отступление.
Гельвеции исходил из того положения, что l’homme n’est que sensibilité. С этой точки зрения ясно, что человек будет избегать неприятных ощущений и стараться приобрести приятные. Это неизбежный, естественный эгоизм чувствующей материи. Но если это так, то каким образом возникают у человека совершенно бескорыстные стремления: любовь к истине, героизм? Такова была задача, которую нужно было разрешить Гельвецию. Он не сумел разрешить ее, а чтобы выпутаться из затруднения, он просто зачеркнул тот самый «х», ту самую неизвестную величину, определить которую он взялся. Он стал говорить, что нет ни одного ученого, который бескорыстно любил бы истину, что каждый человек видит в ней лишь путь к славе – путь к деньгам, а в деньгах – средства доставления себе приятных физических ощущений, например, для покупки вкусной пищи или belles esclaves. Нечего и говорить, насколько несостоятельны такие объяснения. В них сказалась лишь неспособность французского метафизическогоматериализма справляться с вопросами развития.
Отцу современного диалектического материализма приписывают такой взгляд на историю человеческой мысли, который был бы ничем иным, как повторением метафизических рассуждений Гельвеция. Взгляд Маркса на историю, например, философии, часто понимается приблизительно так: если Кант занимался вопросами трансцендентальной эстетики, если он говорил о категориях рассудка или об антиномиях разума, то у него это одни фразы: ему в действительности вовсе неинтересны были ни эстетика, ни антиномии, ни категории, ему нужно было только одно: доставить классу, к которому он принадлежал, т. е. немецкой мелкой буржуазии, как можно больше вкусных блюд и «прекрасных невольниц». Категории и антиномии казались ему прекрасным средством для этого, вот он и стал «разводить» их. Нужно ли уверять, что это совершеннейшие пустяки?! Когда Маркс говорит, что данная теория соответствует такому-то периоду экономического развития общества, то он вовсе не хочет сказать этим, что мыслящие представители класса, господствовавшего в течение этого периода, сознательно подгоняли свои взгляды к интересам своих более или менее богатых, более или менее щедрых благодетелей.
Сикофанты были, разумеется, всегда и везде, но не они двигали вперед человеческий разум. Те же, которые действительно двигали его, заботились об истине, а не об интересах сильных мира сего.
«На различных формах собственности, – говорит Маркс, – на общественных условиях существования возвышается целая надстройка различных своеобразных чувств и иллюзий, взглядов и понятий. Все это творится и формируется целым классом на почве материальных условий его существования и соответствующих им общественных отношений». Процесс возникновения идеологической надстройки совершается незаметным для людей образом. Они рассматривают эту надстройку не как временный продукт временных отношений, а как нечто естественное и обязательное по своей собственной сущности. Отдельные лица, взгляды и чувства которых складываются под влиянием воспитания и вообще окружающей обстановки, могут быть преисполнены самого искреннего, вполне самоотверженного отношенияк тем взглядам и к тем формам общежития, которые исторически возникли на почве более или менее узких классовых интересов. То же и с целыми партиями. Французские демократы 1848 г. выражали стремления мелкой буржуазии. Мелкая буржуазия естественно стремилась отстоять свои классовые интересы. Но «было бы, однако, ограниченностью думать, – говорит Маркс, – что мелкая буржуазия сознательно стремится отстоять эгоистичный классовый интересе. Наоборот, она полагает, что частные условия ее освобождения представляют собою общие условия, при которых только и может быть достигнуто спасение современного общества и устранена борьба классов. Точно так же не следует думать, будто все представители мелкой буржуазии – лавочники или поклонники лавочников. По своему образованию и личному положению они могут быть, как небо от земли, далеки от лавочников. Представителями мелкой буржуазии их делает то обстоятельство, что их мысль не выходит за пределы житейской обстановки мелкой буржуазии и что поэтому они приходят к тем же задачам и решениям в теории, к которым мелкий буржуа приходит благодаря своим материальным интересам и своему общественному положению, на практике. Таково вообще отношение между политическими и литературными представителями данного класса, с одной стороны, и самим этим классом, с другой».
Это Маркс говорит в своей книге о coup d’état Наполеона III. В другом своем произведении он, может быть, еще лучше выясняет нам психологическую диалектику классов. Речь идет у него о той освободительной роли, которую иногда приходится играть отдельным классам:
«Ни один класс не может сыграть этой роли, не вызвав на время энтузиазма в себе и в массе. В течение этого времени он братается со всем обществом, его признают всеобщим представителем, ему сочувствуют как таковому; в течение этого времени права и требования этого класса действительно являются правами и требованиями всего общества, а сам он – головой этого общества и его сердцем. Только во имя всеобщих прав общества отдельный класс может требовать себе господства над всеми другими. Чтобы взять приступом эту роль освободителя и вместе с тем политического эксплуататора всех общественных сфер в интересах своей собственной сферы, недостаточно энергии и духовной самоуверенности. Чтобы одно сословие явилось как бы охватывающим все общество, для этого нужно, чтобы все общественные недуги были, наоборот, сконцентрированы в каком-нибудь другом классе, нужно, чтобы известное сословие явилось сословием, вызывающим всеобщее отвращение, олицетворением того, что всех стесняет… Чтобы одно сословие явилось сословием-освободителем par excellence нужно, чтобы какое-нибудь другое сословие явилось в общем сознании, наоборот, сословием-поработителем. Отрицательно-универсальное значение французского дворянства и духовенства обусловило положительно-универсальное значение соседнего с ними и стоявшего против них класса буржуазии».
После этого предварительного объяснения уже нетрудно выяснить себе взгляд Маркса на идеологии высшего порядка, например: на философию и на искусства. Но для большей наглядности мы сопоставим его со взглядом И. Тэна.
«Чтобы понять данное художественное произведение, данного артиста, данную группу артистов, – говорит этот писатель, – надо с точностью представить себе общее состояние умов и нравов их времени. Там лежит последнее объяснение; там находится первая причина, определяющая собою все остальное. Эта истина подтверждается опытом. В самом деле, если мы проследим главные эпохи истории искусства, мы найдем, что искусства, появляются и исчезают вместе с известными состояниями умов и нравов, с которыми они связаны. Например, греческая трагедия, – трагедия Эсхила, Софокла и Еврипида, – является вместе с победой греков над персами, в героическую эпоху небольших городских республик, в момент того великого напряжения, благодаря которому они завоевали свою независимость и установили свою гегемонию в цивилизованном мире. Эта трагедия исчезает вместе с этой независимостью и этой энергией, когда измельчание характеров и македонское завоевание отдают Грецию во власть иностранцев. – Точно так же готическая архитектура развивается вместе с окончательным установлением феодального порядка в эпоху полувозрождения одиннадцатого столетия, в то время, когда общество, избавленное от норманских набегов и от разбойников, устанавливается более прочным образом: она исчезает в то время, когда военный режим более или менее крупных баронов разлагается в конце XV столетия, вместе со всеми теми нравами, которые из него вытекали, вследствие возникновения новейших монархий. Подобно этому голландская живопись расцветает в тот славный момент, когда благодаря своему упорству и своему мужеству Голландия окончательно сбрасывает испанское иго, успешно борется с Англией, становится самым богатым, самым промышленным, самым цветущим государством Европы; она падает в начале XVIII века, когда Голландия спускается до второстепенной роли, уступив первую Англии, и становится просто банком, торговым домом, содержимым в величайшем порядке, мирным и благоустроенным, в котором человек может вести спокойную жизнь благоразумного буржуа, не имеющего честолюбивых замыслов, не испытывающего глубоких потрясений. Наконец, подобно этому и французская трагедия появляется в то время, когда при Людовике XIV прочно установившаяся монархия несет с собою господство приличий, придворную жизнь, блеск и элегантность прирученной аристократии, и исчезает, когда дворянское общество и придворные нравы упраздняются революцией… Как натуралисты изучают физическую температуру для того, чтобы понять появление того или другого растения, овса или маиса, сосны или алоэ, точно так же надо изучить моральную температуру для того, чтобы объяснить появление того или другого вида искусства: языческой скульптуры или реалистической живописи, мистической архитектуры или классической литературы, сладострастной музыки или идеалистической поэзии. Произведения человеческого духа, как и произведения живой природы, объясняются только их средою».
Со всем этим, безусловно, согласится любой последователь Маркса; да, именно всякое художественное произведение, как и любую философскую систему, можно объяснить состоянием умов и нравов данного времени. Но чем объясняется это общее состояние умов и нравов? Последователи Маркса думают, что оно объясняется общественным строем, свойствами социальной среды. «Всякое изменение в положении людей ведет к изменению в их психике», – говорит тот же Тэн. И это справедливо. Спрашивается только, чем же вызываются изменения в положении общественного человека, т. е. в общественном строе? Только по этому вопросу «экономические материалисты» расходятся с Тэном.
Для Тэна задача истории как науки есть в последнем счете « психологическая задача». Общее состояние умов и нравов создает у него не только различные виды искусства, литературы и философии, но и промышленность данного народа, все его общественные учреждения. А это значит, что социальная среда имеет свою последнюю причину в «состоянии умов и нравов».
Таким образом, выходит, что психикаобщественного человека определяется его положением, а его положениеопределяется его психикой. Это уже знакомая нам антиномия, с которой никак не могли справиться просветители XVIII в. Тэн не разрешил этой антиномии. Он только дал в ряде замечательных произведений множество блестящих иллюстраций ее первого положения, тезиса: состояние умов и нравов определяется социальной средой.
Французские современники Тэна, оспаривавшие его эстетическую теорию, выдвигали вперед антитезис: свойства социальной среды определяются состоянием умов и нравов. Подобный спор можно вести до второго пришествия, не только не разрешая роковой антиномии, но даже не замечая ее существования.
Только историческая теория Маркса разрешает антиномию и тем приводит спор к благополучному окончанию, или, по крайней мере, дает возможность благополучно закончить его людям, имеющим уши, чтобы слышать, и головной мозг, чтобы размышлять.
Свойства социальной среды определяются состоянием производительных сил в каждое данное время. Раз дано состояние производительных сил, даны и свойства социальной среды, дана и соответствующая ей психология, дано и взаимодействие между средой, с одной стороны, и умами и нравами – с другой. Брюнетьер совершенно прав, говоря, что мы не только приспособляемся к среде, но и приспособляем ее к своим нуждам. Вы спросите, откуда же берутся нужды, не соответствующие свойствам окружающей нас среды? Они порождаются в нас – и, говоря это, мы имеем в виду не только материальные, но и все так называемые духовные нужды людей, – все тем же историческим движением, все тем же развитием производительных сил, благодаря которому всякий данный общественный строй, рано или поздно, оказывается неудовлетворительным, устарелым, требующим радикальной перестройки, а, может быть, и прямо годным только на слом.
Г. В. Плеханов
Бельтов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. 1-е изд. – Петербург, 1895.
Символизм
О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы
В эпоху наивной теологии и догматической метафизики область Непознаваемогопостоянно смешивалась с областью непознанного. Люди не умели их разграничить и не понимали всей глубины и безнадежности своего незнания. Мистическое чувство вторгалось в пределы точных опытных исследований и разрушало их. С другой стороны, грубый материализм догматических форм порабощал религиозное чувство.
Новейшая теория познания воздвигла несокрушимую плотину, которая навеки отделила твердую землю, доступную людям, от безграничного и темного океана, лежащего за пределами, нашего познания. И волны этого океана уже более не могут вторгаться в обитаемую землю, в область точной науки. Фундамент, первые гранитные глыбы циклопической постройки – великой теории познания XIX века заложил Кант. С тех пор работа над ней идет непрерывно, плотина воздвигается все выше и выше.
Никогда еще пограничная черта науки и веры не была такой резкой и неумолимой, никогда еще глаза людей не испытывали такого невыносимого контраста тени и света. Между тем как по сю сторону явлений твердая почва науки залита ярким светом, область, лежащая по ту сторону плотины, по выражению Карлейля, – «глубина священного незнания», ночь, из которой все мы вышли и в которую должны неминуемо вернуться, более непроницаема, чем когда-либо. В прежние времена метафизика набрасывала на нее свой блестящий и туманный покров. Первобытная легенда хотя немного освещала эту бездну своим тусклым, но утешительным светом.
Теперь последний догматический покров навеки сорван, последний мистический дух потухает. И вот современные люди стоят, беззащитные, – лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны.
Куда бы мы ни уходили, как бы мы не прятались за плотину научной критики, всем существом мы чувствуем близость тайны, близость океана. Никаких преград! Мы свободны и одиноки!.. С этим ужасом не может сравниться никакой порабощенный мистицизм прошлых веков. Никогда еще люди так не чувствовали сердцем необходимости верить и так не понимали разумом невозможности верить. В этом болезненном, неразрешимом диссонансе, этом трагическом противоречии, так же как в небывалой умственной свободе, в смелости отрицания, заключается наиболее характерная черта мистической потребности XIX века.
Наше время должно определить двумя противоположными чертами – это время самого крайнего материализмаи вместе с тем самых страстных идеальныхпорывов духа. Мы присутствуем при великой, многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, двух диаметрально противоположных миросозерцании. Последние требования религиозного чувства сталкиваются с последними выводами опытных знаний.
Умственная борьба, наполняющая XIX век, не могла не отразиться на современной литературе.
Преобладающий вкус толпы – до сих пор реалистический. Художественный материализм соответствует научному и нравственному материализму. Пошлая сторона отрицания, отсутствие высшей идеальной культуры, цивилизованное варварство среди грандиозных изобретений техники – все это наложило своеобразную печать на отношение современной толпы к искусству.
Недавно Э. Золя сказал следующие весьма характерные слова о молодых поэтах Франции, так называемых символистах, некоему m. Huret – газетному интервьюисту, написавшему книгу «L’enquête sur l’évolution en France». Я приведу слова эти буквально, чтобы не ослабить их переводом: «Mais que vient-on offrir pour nous remplacer? Pour faire contre-poids à l’immense labeur positiviste de ces cinquante dernières années, on nous montre une vague etiquette „symboliste“, recouvrant quelque vers de pacotille. Pour clore l’etonnante fin de ce siècle énorme, pour formuler cette angoisse universelle du doute cet ébranlement des ésprits assoiffés de certitude, voici le ramage obscur, voici les quatre sous de vers de mirliton de quelques assidus de brasserie… En s’attardant à des bêtises, à des niaiseries pareilles, à ce moment si grave de revolution des idées, ils me font l’effet tôus ces jeunesgens, qui ont tous de trente à quarante ans, de coquilles de noisettes qui danseraient sur la chute du Niagara» [5]5
Что они предлагают, чтобы нас заменить? Как на противовес огромной позитивной работе последних пятидесяти лет указывают на неопределенный этикет «символизм», прикрывающий бездарные вирши. Чтобы завершить изумительный конец этого громадного века, чтобы выразить всеобщую горечь сомнения, тревогу умов, жаждущих чего-нибудь незыблемого, нам предлагают неясное щебетание, грошовые вздорные песенки, сочиненные трактирными завсегдатаями! Все эти молодыелюди (которым, кстати сказать, за тридцать, за сорок лет), занятые в столь важный момент исторической эволюции идей подобными глупостями, подобным ребячеством, кажутся мне ореховыми скорлупками, пляшущими на водопаде Ниагары.
[Закрыть].
Автор «Ругон-Маккаров» имеет право торжествовать. Кажется, ни одно из гениальнейших произведений прошлого не пользовалось таким материальным успехом, таким ореолом газетной громоподобной рекламы, как позитивный роман. Журналисты с благоговением и завистью высчитывают, какой вышины пирамиду можно бы воздвигнуть из желтых томиков «Nana» и «Pot bouille».
На русский язык, на который не переведены удобопонятным образом даже величайшие произведения мировой литературы, последний роман Золя переводится с изумительным рвением по пяти, по шести раз. Тот же самый любознательный Гюре отыскал главу поэтов-символистов, Поля Верлена, в его любимом, плохеньком кафе на бульваре Saint Michel. Перед репортером был человек уже не молодой, сильно помятый жизнью, с чувственным «лицом фавна», с мечтательным и нежным взором, с огромным, лысым черепом. Поль Верлен беден. Не без гордости, свойственной «униженным и оскорбленным», он называет своей единственной матерью «l’assistance publique» – общественное призрение. Конечно, такому человеку далеко до академических кресел рядом с П. Лоти, о которых пламенно и ревниво мечтает Золя.
Но все-таки автор «Débacle», как истинный парижанин, слишком увлечен современностью, шумом и суетой литературного мгновения.
Непростительная ошибка – думать, что художественный идеализм – какое-то вчерашнее изобретение парижской моды. Это возвращение к древнему, вечному, никогда не умиравшему.
Вот чем страшны, должно быть, для Золя эти молодые литературные мятежники. Какое мне дело, что один из двух – нищий, полжизни проведший в тюрьмах и больницах, а другой – литературный владыка – не сегодня, так завтра член академии? Какое мне дело, что у одного пирамида желтых томиков, а у символистов – «quatre sous de vers de mirliton»? Да, и четыре лирических стиха могут быть прекраснее и правдивее целой серии грандиозных романов. Сила этих мечтателей в их возмущении.
В сущности, все поколение конца XIX века носит в душе своей то же возмущение против удушающего мертвенного позитивизма, который камнем лежит на нашем сердце. Очень может быть, что они погибнут, что им ничего не удастся сделать. Но придут другие и все-таки будут продолжать их дело, потому это дело – живое.
«Да, скоро и с великой жаждой взыщутся люди за вполне изгнанным на время чистым и благородным». Вот, что предрек автор «Фауста» 60 лет тому назад, и мы теперь замечаем, что слова его начинают исполняться: «И что такое реальность сама по себе? Нам доставляет удовольствие ее правдивое изображение, которое может дать нам более отчетливое знание о некоторых вещах; но собственно польза для высшего, что в нас есть, заключается в идеале, который исходит из сердца поэта». Потом Гете формулировал эту мысль еще более сильно: « чем несоизмеримее и для ума недостижимее данное поэтическое произведение, тем оно прекраснее» [6]6
Из «Разговоров Гете с Эккерманом», пер. Д. Н. Аверкиева.
[Закрыть].
Золя не мешало бы вспомнить, что эти слова принадлежат не своевольным мечтателям-символистам, жалким ореховым скорлупам, пляшущим на Ниагаре, а величайшему поэту-натуралисту XIX века.
Тот же Гете говорил, что поэтическое произведение должно быть символично. Что такое символ?
В Акрополе над архитравом Парфенона до наших дней сохранились немногие следы барельефа, изображающего самую обыденную и, по-видимому, незначительную сцену: нагие, стройные юноши ведут молодых коней и спокойно и радостно мускулистыми руками они укрощают их. Все это исполнено с большим реализмом, если хотите даже натурализмом, – знанием человеческого тела и природы. Но ведь едва ли не больший натурализм – в египетских фресках. И однако, они совсем иначе действуют на зрителя. Вы смотрите на них, как на любопытный этнографический документ, так же, как на страницу современного экспериментального романа. Что-то совсем другое привлекает вас к барельефу Парфенона. Вы чувствуете в нем веяние идеальнойчеловеческой культуры, символсвободного эллинского духа. Человек укрощает зверя. Это – не только сцена из будничной жизни, но вместе с тем – целое откровение божественной стороны нашего духа. Вот почему такое неистребимое величие, такое спокойствие и полнота жизни в искалеченном обломке мрамора, над которым пролетели тысячелетия. Подобный символизм проникает все создания греческого искусства. Разве Алькестис Эврипида, умирающая, чтобы спасти мужа, – не символ материнской жалости, которая одухотворяет любовь мужчины и женщины? Разве Антигона Софокла – не символ религиозно-девственной красоты женских характеров, которая впоследствии отразилась в средневековых Мадоннах?
У Ибсена в «Норе» есть характерная подробность: во время важного для всей драмы диалога двух действующих лиц входит служанка и вносит лампу. Сразу в освещенной комнате тон разговора меняется. Черта достойная физиолога-натуралиста. Смена физической темноты и света действует на наш внутренний мир. Под реалистической подробностью скрывается художественный символ. Трудно сказать почему, но вы долго не забудете этого многозначительного соответствия между переменой разговора и лампой, которая озаряет туманные вечерние сумерки.
Символы должны естественно и невольно выливаться из глубины действительности. Если же автор искусственно их придумывает, чтобы выразить какую-нибудь идею, они превращаются в мертвые аллегории, которые ничего, кроме отвращения, как все мертвое, не могут возбудить. Последние минуты агонии mme Bovary, сопровождаемые пошленькой песенкой шарманщика о любви, сцена сумасшествия в первых лучах восходящего солнца после трагической ночи в «Gespenster» написаны с более беспощадным психологическим натурализмом, с большим проникновением в реальную действительность, чем самые смелые человеческие документы позитивного романа. Но у Ибсена и Флобера рядом с течением выраженных словами мыслей вы невольно чувствуете другое более глубокое течение.
«Мысль изреченная есть ложь». В поэзии то, что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм делает самый стиль, самое художественное вещество поэзии одухотворенным, прозрачным, насквозь просвечивающим, как тонкие стенки алебастровой амфоры, в которой зажжено пламя.
Символами могут быть и характеры. Санчо-Панса и Фауст, Дон-Кихот и Гамлет, Дон-Жуан и Фальстаф, по выражению Гете, – schwankende Gestalten.
Сновидения, которые преследуют человечество, иногда повторяются из века в век, от поколения к поколению сопутствуют ему. Идея таких символических характеровникакими словами нельзя передать, ибо слова только определяют, ограничивают мысль, а символы выражают безграничную сторону мысли.
Вместе с тем мы не можем довольствоваться грубоватой фотографической точностью экспериментальных снимков. Мы требуем и предчувствуем, по намекам Флобера, Мопассана, Тургенева, Ибсена, новые, еще не открытые миры впечатлительности. Эта жадность к неиспытанному, погоня за неуловимыми оттенками, за темным и бессознательным в нашей чувствительности – характерная черта грядущей идеальной поэзии. Еще Бодлер и Эдгар По говорили, что прекрасное должно несколько удивлять, казаться неожиданным и редким. Французские критики более или менее удачно назвали эту черту – импрессионизмом.
Таковы три главных элемента нового искусства: мистическое содержание, символыи расширение художественной впечатлительности…
Д. С. Мережковский
О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893.



![Книга Нищита интеллигенции, или Тело власти III [опыт рефлексии комплекса бытия] автора Сергей Кутолин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nischita-intelligencii-ili-telo-vlasti-iii-opyt-refleksii-kompleksa-bytiya-273516.jpg)




