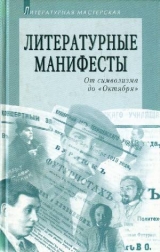
Текст книги "Литературные манифесты: От символизма до «Октября»"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Литературные манифесты
От символизма до «Октября»
От редакции
Сборник эстетических манифестов «От символизма до „Октября“», составленный Н. Л. Бродским и Н. П. Сидоровым и призванный отразить все многообразие литературной жизни в России 1890-1920-х гг., впервые увидел свет в 1924 г. Спустя пять лет книга была переиздана, теперь уже при участии В. Л. Львова-Рогачевского и уже не «Новой Москвой» (которую к тому моменту поглотил «Московский рабочий»), а «Федерацией», основанной под эгидой Федерации объединений советских писателей.
Незначительный, казалось бы, отрезок времени, разделивший издания 1924 и 1929 гг., стал целой эпохой в истории советской литературы. Суть происходивших тогда процессов характеризуют и издательские метаморфозы, и даже изменения, внесенные в заглавие книги: вместо прежнего «От символизма до„Октября“» – «От символизма кОктябрю» (причем теперь этот заголовок занял второе место, вытесненный названием изначально предполагавшейся, но не осуществившейся серии – «Литературные манифесты»).
Вряд ли, работая над своей хрестоматией, сами составители догадывались, что в недалеком будущем многогранная издательская деятельность, развернувшаяся в годы НЭПа, разгул эстетических страстей, «быстрая смена и пестрота литературных школ» закончатся полным их разгромом и утверждением единой общегосударственной политики, в том числе и в области искусства. Несомненно, завершение эпохи напряженных эстетических исканий – процесс естественный и закономерный, как несомненно и то, что естественность его в России в середине 1920-х гг. была нарушена вторжением чуждых искусству идей о социальной основе литературных школ. Подобный ложный подход к анализу художественного творчества заранее предполагал деление на «чистых» и «нечистых» – на объединения «упадочнические», «отживающие» свой век и на те, которые готовы выйти «на арену строительства жизни новых общественных сил».
На роль «строителей нового мира» претендовали пролетарские поэты, с чем, если судить по расположению материала, были согласны составители, поместившие декларации этой школы в конец книги. Но сколь бы громогласными ни были заявления творцов пролетарской литературы о том, что именно за ними будущее, предложенные ими «схематичные» планы созидания нового искусства свидетельствовали о сомнениях и неуверенности в собственных силах. Тщательно, но безуспешно скрываемые ими предчувствия грядущего «гигантского сдвига», несущего с собой гибель, полностью оправдались.
В 1920-е гг. «апокалиптические» настроения были свойственны поэтам, входившим в самые разные группировки. «У нас есть чувство конца, чувство последних глубин», – писал в своем «Бедекере по экспрессионизму» И. Соколов. «Чувство конца», но оптимистически окрашенное, знакомо было и поэтам-биокосмистам, которые включили в повестку дня «вопрос о реализации личного бессмертия». К единой сущности мира – Люмену – пробивалась «обнаженная, босоногая душа, вдыхая горечь и гарь мировых смерчей», и падала на своем пути «в черный колодезь и напрасно хваталась за ускользающие дали» – в теориях люминистов. Вершины эта «похоронная» тенденция достигла в манифесте ничевоков, издали наблюдавших всеобщее умирание поэзии, «ставящих диагноз паралича и констатирующих с математической точностью летальный исход».
Несмотря на абсурдность и невразумительность некоторых заявлений ничевоков, диагноз сформулирован ими верно: «Фокус современного кризиса явлений мира и мироощущений Ничевоком прояснен: кризис – в нас, в духе нашем. В поэтпроизведениях кризис этот разрешается источением образа, метра, ритма, инструментовки, концовки. <…> Источение сведет искусство на нет, уничтожит его: приведет к ничего и в Ничего». Эта оценка, как покажется вначале, больше подходит для характеристики искусства «конца века», чем для того, которое должно было родиться в обновленной революцией России. Однако восстановление в хронологическом порядке «эволюции литературных направлений в их сосуществовании и последовательной смене» (задача, выдвинутая и во многом решенная составителями сборника) помогает увидеть не нарушенную социальным взрывом связь между до– и пореволюционным искусством в России, причем пореволюционная эпоха воспринимается как завершение предыдущего цикла.
Расцвет поэзии на рубеже XIX–XX вв. ознаменовал начало новой эры – Серебряного века, который не оборвался в одночасье с приходом к власти большевиков. Мощная волна новых идей, перевернувших культурную жизнь России в первые десятилетия уходящего века, настигла и тех, кто ошибочно полагал, будто «революционные перевороты» в искусстве обусловлены переменами в общественной жизни. На деле же вышло так, что время самых грандиозных преобразований в сфере социальной и политической совпало с постепенным угасанием новаторских тенденций в искусстве. Предвестниками этого возвращения «на круги своя» были уже футуристические школы 1910-х гг., уводящие поэзию к ее истокам, – хотя сами поэты-футуристы не сомневались, что им принадлежит будущее. Отчаянный их бунт против устоявшихся эстетических норм – обида тех, кому не суждено было стать соучастниками революции в искусстве, совершенной прежде, чем они вошли в литературу. И поэты следующего за футуристами поколения – поколения 1920-х гг., чья юность совпала с социальной катастрофой, не были рождены в «минуты роковые» для судеб культуры. Им, как и «декадентам» 1890-х гг., достались не лавры первооткрывателей, а иная, тяжелая участь: завершить не ими начатое дело. Исполнив свое предназначение, они ушли в небытие, уступив место истинным ревнителям социалистической эстетики, уже никак не связанным с Серебряным веком.
В «Литературных манифестах» деятельность «декадентов» от советской литературы – имажинистов, экспрессионистов, классиков и неоклассиков, эмоционалистов, фуистов и проч. – представлена со всей возможной полнотой: в этом заключено главное достоинство предпринятого в 1920-е гг. издания. Не менее удачна мысль объединить в одной книге манифесты поэтов и прозаиков, стоявших у истоков модернизма, с эстетическими декларациями тех, кто должен был подвести итог очередному этапу развития русского искусства.
От составителей
Предлагаемая книга имеет задачей ознакомить интересующихся судьбами новейшей русской литературы с ее теоретическими заявлениями и обоснованиями, выразившимися в ряде деклараций, манифестов, статей, стихотворений. Всем бросались в глаза быстрая смена и пестрота литературных школ за последние три десятилетия, в которых так трудно было ориентироваться рядовому читателю. Некоторые из этих течений были недолговечны, умерли почти в день своего рождения, но они наполняли шумом литературную жизнь и будучи показательными для того распада общественной жизни и мысли, который определял предреволюционную эпоху, имеют право на внимание вдумчивого любителя русского словесного искусства. Не все направления манифестировали свои взгляды на задачи поэтического творчества, – поэтому пришлось освещать некоторые литературные школы теоретическими статьями, имевшими в свое время возбуждающее и руководящее влияние (таковы, например, статьи В. Соловьева, Г. Плеханова и др.). Отнюдь не стремясь представить материал с исчерпывающей полнотой, мы не включали иногда в наш сборник статей, может быть, и существенных для понимания крупного литературного деятеля той или и иной поэтической школы, но имевших слишком личный характер (например, известная статья А. Блока «О современном состоянии русского символизма»). Материал расположен нами по школам и в хронологическом порядке, давая читателю возможность установить эволюцию литературных направлений в их сосуществовании и в последовательной смене. В наши дни повышенного интереса к теории и социологии искусства и стремления подвести итог сложным исканиям «большого» литературного стиля, который бы ответил запросам нашей современности, имеющей столь великий исторический смысл, эта оглядка на этапы пройденного литературного пути в его теоретических формулах необходима, прежде всего, для уяснения очередных задач искусства поэзии как жизнетворчества и жизнепонимания: это историческое обозрение поможет отчетливей представить социальные основы литературных школ, упадочность одних и творческую устремленность других, как результат борьбы отживающих и выходящих на арену строительства жизни новых общественных сил. Составители полагают, что этот сборник трудно находимых материалов может пригодиться для студий, кружков, стремящихся оформить свое литературное мировоззрение в соответствии с социальными проблемами нашего времени.
Считаем долгом выразить глубокую благодарность Е. Ф. Никитиной и В. Львову-Рогачевскому, сообщившим нам ряд ценных библиографических указаний и передавшим в наш сборник рукописный манифест люминистов.
4 ноября 1923 г.
Введение
Общий смысл искусства (1890)
Дерево, прекрасно растущее в природе, и оно же, прекрасно написанное на полотне, производят однородное эстетическое впечатление, подлежат одинаковой эстетической оценке, – недаром и слово для ее выражения употребляется в обоих случаях одно и то же. Но если бы все ограничивалось такою видимою, поверхностною однородностью, то можно было бы спросить и действительно спрашивали: зачем это удвоение красоты? Не детская ли забава повторять на картине то, что уже имеет прекрасное существование в природе? Обыкновенно на это отвечают (например, Тэн в своей «Philosophie de l’art»), что искусство воспроизводит не самые предметы и явления действительности, а только то, что видит в них художник, а истинный художник видит в них лишь их типические, характерные черты; эстетический элемент природных явлений, пройдя через сознание и воображение художника, очищается от всех материальных случайностей и, таким образом, усиливается, выступает ярче; красота, разлитая в природе, в ее формах и красках, на картине является сосредоточенною, сгущенною, подчеркнутою. Этим объяснением нельзя окончательно удовлетвориться уже по тому одному, что к целым важным отраслям искусства оно вовсе неприменимо. Какие явления природы подчеркнуты, например, в сонатах Бетховена? – Очевидно, эстетическая связь искусства и природы гораздо глубже и значительнее. Поистине, она состоит не в повторении, а в продолжении того художественного дела, которое начато природой, – в дальнейшем и более полном разрешении той же эстетической задачи…
Красота нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира [1]1
О красоте как идеальной причине существования материи см. в статьях о «Цельном знании» (Журн. Мин. Нар Пр. 1877 и 1878 гг.). (Помещены в 1 томе Собрания сочинений.)
[Закрыть].
Но не совершено ли уже помимо нас это дело всемирного просветления? Природная красота уже облекла мир своим лучезарным покрывалом, безобразный хаос бессильно шевелится под стройным образом космоса и не может сбросить его с себя ни в беспредельном просторе небесных светил, ни в тесном круге земных организмов. Не должно ли наше искусство заботиться только о том, чтобы облечь в красоту одни человеческие отношения, воплотить в ощутительных образах истинный смысл человеческой жизни? Но в природе темные силы только побеждены, а не убеждены всемирным смыслом, самая эта победа есть поверхностная и неполная, и красота природы есть именно только покрывало, наброшенное на злую жизнь, а не преображение этой жизни. Поэтому-то человек с его разумным сознанием должен быть не только целью природного процесса, но и средством для обратного, более глубокого и полного воздействия на природу со стороны идеального начала. Мы знаем, что реализация этого начала уже в самой природе имеет различные степени глубины, причем всякому углублению положительной стороны соответствует и углубление, внутреннее усиление отрицательной. Если в неорганическом веществе дурное начало действует только как тяжесть и косность, то в мире органическом оно проявляется уже как смерть и разложение (причем и тут безобразие не так явно торжествует в разрушении растений, как в смерти и разложении животных, и между ними у высших более, чем у низших), а в человеке оно, кроме более сложного и усиленного своего проявления с физической стороны, выражает еще и свою глубочайшую сущность, как нравственное зло. Но тут же и возможность окончательного над ним торжества и совершенного воплощения этого торжества в красоте нетленной и вечной…
Достойное, идеальное бытие требует одинакового простора для целого и для частей, – следовательно, это не есть свобода от особенностей, а только от их исключительности. Полнота этой свободы требует, чтобы все частные элементы находили себя друг в друге и в целом, каждое полагало себя в другом и другое в себе, ощущало в своей частности единство целого и в целом свою частность, – одним словом, абсолютная солидарность всего существующего, Бог все во всех.
Полное чувственное осуществление этой всеобщей солидарности или положительного всеединства – совершенная красота не как отражение только идеи от материи, а действительное ее присутствие в материи, – предполагает, прежде всего, глубочайшее и теснейшее взаимодействие между внутренним, или духовным, и внешним, или вещественным бытием. Это есть основное, собственно эстетическое требование, здесь специфическое отличие красоты от двух других аспектов абсолютной идеи. Идеальное содержание, остающееся только внутреннею принадлежностью духа, его воли и мысли, лишено красоты, а отсутствие красоты есть бессилие идеи. В самом деле, пока дух неспособен дать своему внутреннему содержанию непосредственного внешнего выражения, воплотиться в материальном явлении, и пока, с другой стороны, вещество неспособно к восприятию идеального действия духа, неспособно проникнуться им, претвориться или пресуществиться в него, до тех пор, значит, между этими главными областями бытия нет солидарности, а это значит, что у самой идеи, которая именно и есть совершенная солидарность всего существующего, нет еще здесь, в этом ее явлении, достаточно силы для окончательного осуществления или исполнения ее сущности. Абстрактный, неспособный к творческому воплощению дух и бездушное, неспособное к одухотворению вещество – оба несообразны с идеальным или достойным бытием и оба носят на себе явный признак своего недостоинства в том, что ни тот, ни другой не могут быть прекрасными. Для полноты этого последнего качества требуются таким образом: 1) непосредственная материализация духовной сущности и 2) всецелое одухотворение материального явления как собственной неотделимой формы идеального содержания. К этому двоякому условию необходимо присоединяется или, лучше сказать, прямо из него вытекает третье: при непосредственном и нераздельном соединении в красоте духовного содержания с чувственным выражением, при их полном взаимном проникновении, материальное явление, действительно ставшее прекрасным, т. е. действительно воплотившее в себе идею, должно стать таким же пребывающим и бессмертным, как сама идея. По гегельянской эстетике красота есть воплощение универсальной и вечной идеи в частных и преходящих явлениях, причем они так и остаются преходящими, исчезают как отдельные волны в потоке материального процесса, лишь на минуту отражая сияние вечной идеи. Но это возможно только при безразличном равнодушном отношении между духовным началом и материальным явлением. Подлинная же и совершенная красота, выражая полную солидарность и взаимное проникновение этих двух элементов, необходимо должна делать один из них (материальный) действительно причастным бессмертию другого.
Обращаясь к прекрасным явлениям физического мира, мы найдем, что они далеко не исполняют указанных требований или условий совершенной красоты. Во-первых, идеальное содержание в природной красоте недостаточно прозрачно, оно не открывает здесь всей своей таинственной глубины, а обнаруживает лишь свои общие очертания, иллюстрирует, так сказать, в частных конкретных явлениях самые элементарные признаки и определения абсолютной идеи. Так свет в своих чувственных качествах обнаруживает всепроницаемость и невесомость идеального начала; растения своим видимым образом проявляют экспансивность жизненной идеи и общее стремление земной Души к высшим формам бытия; красивые животные выражают интенсивность жизненных мотивов, объединенных в сложном целом и уравновешенных настолько, чтобы допускать свободную игру жизненных сил и т. д. Во всем этом, несомненно, воплощается идея, но лишь самым общим и поверхностным образом, с внешней своей стороны. Этой поверхностной материализации идеального начала в природной красоте соответствует здесь столь же поверхностное одухотворение материи, откуда возможность кажущегося противоречия формы с содержанием: типически злой зверь может быть весьма красивым (противоречие здесь только кажущееся, именно потому, что природная красота по своему поверхностному характеру вообще не способна выражать идею жизни в ее внутреннем, нравственном качестве, а лишь в ее внешних физических принадлежностях, каковы – сила, быстрота, свобода движения и т. п.). С этим же связано и третье существенное несовершенство природной красоты: так как она лишь снаружи и вообще прикрывает безобразие материального бытия; а не проникает его внутренно и всецело (во всех частях), то и сохраняется эта красота неизменною и вековечною лишь вообще, в своих общих образцах – родах и видах, каждое же отдельное прекрасное явление и существо в своей собственной жизни остается под властью материального процесса, который сначала прорывает его прекрасную форму, а потом и совсем его разрушает. С точки зрения натурализма эта непрочность всех индивидуальных явлений красоты есть роковой неизбежный закон. Но чтобы примириться хотя бы только теоретически с этим торжеством всеразрушающего материального процесса, должно признать (как и делают последовательные умы этого направления) красоту и вообще все идеальное в мире за субъективную иллюзию человеческого воображения. Но мы знаем, что красота имеет объективное значение, что она действует вне человеческого мира, что сама природа неравнодушна к красоте. А в таком случае, если ей не удается осуществить совершенную красоту в области физической жизни, то недаром же она путем великих трудов и усилий, страшных катастроф и безобразных, но необходимых для окончательной цели порождений поднялась из этой низшей области в сферу сознательной жизни человеческой. Задача, неисполнимая средствами физической жизни, должна быть исполнена средствами человеческого творчества.
Отсюда троякая задача искусства вообще: 1) прямая объективация тех глубочайших внутренних определений и качеств живой идеи, которые не могут быть выражены природой; 2) одухотворение природной красоты и чрез это 3) увековечение ее индивидуальных явлений. Это есть превращение физической жизни в духовную, т. е. в такую, которая, во-первых, имеет сама в себе свое слово, или откровение, способна непосредственно выражаться вовне, которая, во-вторых, способна внутренно преображать, одухотворять материю или истинно в ней воплощаться и которая, втретьих, свободна от власти материального процесса и потому пребывает вечно. Совершенное воплощение этой духовной полноты в нашей действительности, осуществление в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного организма есть высшая задача искусства. Ясно, что исполнение этой задачи должно совпасть с концом всего мирового процесса. Пока история еще продолжается, мы можем иметь только частные и отрывочные предварения(антиципации) совершенной красоты; существующие ныне искусства в величайших своих произведениях, схватывая проблески вечной красоты в нашей текущей действительности и продолжая их далее, предваряют, дают предощущать нездешнюю, грядущую для нас действительность и служат, таким образом, переходом и связующим звеном между красотою природы и красотою будущей жизни. Понимаемое таким образом искусство перестает быть пустою забавою и становится делом важным и назидательным, но отнюдь не в смысле дидактической проповеди, а лишь в смысле вдохновенного пророчества. Что такое высокое значение искусства не есть произвольное требование, явствует из той неразрывной связи, которая некогда действительно существовала между искусством и религиею. Эту первоначальную нераздельность религиозного и художественного дела мы не считаем, конечно, за идеал. Истинная, полная красота требует большего простора для человеческого элемента и предполагает более высокое и сложное развитие социальной жизни, нежели какое могло быть достигнуто в первобытной культуре. На современное отчуждение между религией и искусством мы смотрим как на переход от их древней слитности к будущему свободному синтезу. Ведь и та совершенная жизнь, предварения которой мы находим в истинном художестве, основана будет не на поглощении человеческого элемента божественным, а на их свободном взаимодействии.
Теперь мы можем дать общее определение действительного искусства по существу: всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния, или в свете будущего мира, есть художественное произведение.
Эти предварения совершенной красоты в человеческом искусстве бывают трех родов: 1) прямые, или магические, когда глубочайшие внутренние состояния, связывающие нас с подлинною сущностью вещей и с нездешним миром (или, если угодно, с бытием an sich всего существующего), прорываясь сквозь всякие условности и материальные ограничения, находят себе прямое и полное выражение в прекрасных звуках и словах (музыка и отчасти чистая лирика) [2]2
Разумею такие лирические стихотворения (а также лирические места в некоторых поэмах и драмах), эстетическое впечатление которых не исчерпывается теми мыслями и образами, из которых состоит их словесноесодержание. Вероятно, на это намекал Лермонтов в известных стихах:
Есть звуки – значеньеТемно, иль ничтожно,Но им без волненьяВнимать невозможно.
[Закрыть]; 2) косвенные, чрез усиление(потенцирование) данной красоты, когда внутренний существенный и вечный смысл жизни, скрытый в частных и случайных явлениях природного и человеческого мира и лишь смутно и недостаточно выраженный в их естественной красоте, открывается и уясняется художником чрез воспроизведение этих явлений в сосредоточенном, очищенном, идеализованном виде: так архитектура воспроизводит в идеализованном виде известные правильные формы природных тел и выражает победу этих идеальных форм над основным антиидеальным свойством вещества – тяжестью; классическая скульптура, идеализуя красоту человеческой формы и строго соблюдая тонкую, но точную линию, отделяющую телесную красоту от плотской, предваряет в изображении ту духовную телесность, которая некогда откроется нам в живой действительности; пейзажная живопись (и отчасти лирическая поэзия) воспроизводит в сосредоточенном виде идеальную сторону сложных явлений внешней природы, очищая их ото всех материальных случайностей (даже от трехмерной протяженности), а живопись (и поэзия) религиозная есть идеализованное воспроизведение тех явлений из истории человечества, в которых заранее открывался высший смысл нашей жизни. 3) Третий отрицательный род эстетического предварения будущей совершенной действительности есть косвенный, чрез отражениеидеала от несоответствующей ему среды, типически усиленной художником для большей яркости отражения. Несоответствие между данною действительностью и идеалом или высшим смыслом жизни может быть различного рода: во-первых, известная человеческая действительность, по-своемусовершенная и прекрасная именно в смысле природногочеловека, не удовлетворяет, однако, тому абсолютному идеалу, для которого предназначены духовныйчеловек и человечество. Ахилл и Гектор, Приам и Агамемнон, Кришна, Арджуна и Рама, – несомненно, прекрасны, но чем художественнее изображены они и их дела, тем яснее в окончательном результате, что не они настоящие люди, и что не их подвиги составляют настоящее человеческое дело. По всему вероятию, Гомер, – а авторы индийских поэм, наверное, – не имели в виду этой мысли, и мы должны назвать героический эпос бессознательным и смутным отражением абсолютного идеала от прекрасной, но не адекватной ему человеческой действительности, которая поэтому и обречена на гибель:
Будет некогда день, и погибнет священная Троя.
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.
Новейшие поэты, возвращаясь к темам античного эпоса, сознательно и в виде всеобщей истины выражают ту идею, которая сама собою конкретно выступает в их образцах. Таково «Торжество победителей» Шиллера:
Все великое земное
Разлетается как дым:
Ныне жребий выпал Трое,
Завтра выпадет другим…
и еще яснее (как подчеркнутое впечатление) в балладе Жуковского:
Отуманилася Ида,
Омрачился Илион,
Спит во мраке стан Атрида,
На равнине битвы – сон…
и т. д.
Более глубокие отношения к неосуществленному идеалу находим мы в трагедии, где сами изображаемые лица проникнуты сознанием внутреннего противоречия между своею действительностью и тем, что должно быть. Комедия, с другой стороны, усиливает и углубляет чувство идеала тем, что, во-первых, подчеркивает ту сторону действительности, которая ни в каком смысле не может быть названа прекрасною, а, во-вторых, представляет лиц, живущих этой действительностью, как вполне довольныхею, чем усугубляется их противоречие с идеалом. Это самодовольство, и никак не внешние свойства сюжета, составляет существенный признак комического в отличие от трагического элемента. Так, например, Эдип, убивший своего отца и женившийся на своей матери, мог бы быть, несмотря на это, лицом высококомическим, если бы он относился к своим странным приключениям с благодушным самодовольством, находя, что все случилось нечаянно и он ни в чем не виноват, а потому и может спокойно пользоваться доставшимся ему царством [3]3
Разумеется, комизм был бы возможен здесь именно потому, что преступление не было личным намеренным действием. Сознательный преступник, довольный самим собою и своими делами, не трагичен, но отвратителен, а никак не комичен.
[Закрыть].
Определяя комедию как отрицательное предварение жизненной красоты чрез типичное изображение антиидеальной действительности в ее самодовольстве, под этим самодовольством мы разумеем, конечно, никак не довольство того или другого действующего лица тем или другим частным положением, а лишь общее довольство целым данным строем жизни, вполне разделяемое и теми действующими лицами, которые чем-нибудь недовольны в данную минуту. Так, мольеровские герои, конечно, весьма недовольны, когда их бьют палками, но они вполне удовлетворяются тем порядком вещей, при котором битье палками есть одна из основных форм общежития…
Совершенное искусство в своей окончательной задаче должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле, – должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь. Если скажут, что такая задача выходит за пределы искусства, то спрашивается: кто установил эти пределы? В истории мы их не находим; мы видим здесь искусство изменяющееся – в процессе развития. Отдельные отрасли его достигают возможного в своем роде совершенства и более не преуспевают; зато возникают новые. Все, кажется, согласны в том, что скульптура доведена до своего окончательного совершенства древними греками; едва ли так же можно ожидать дальнейшего прогресса в области героического эпоса и чистой трагедии. Я позволяю себе идти далее и не нахожу особенно смелым утверждение, что как указанные формы художества завершены еще древними, так новоевропейские народы уже исчерпали все прочие известные нам роды искусства, и если это последнее имеет будущность, то в совершенно новой сфере действия. Разумеется, это будущее развитие эстетического творчества зависит от общего хода истории; ибо художество вообще есть область воплощения идей, а не их первоначального зарождения и роста.
Владимир Соловьев
Собрание сочинений, т. VI.







![Книга Нищита интеллигенции, или Тело власти III [опыт рефлексии комплекса бытия] автора Сергей Кутолин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nischita-intelligencii-ili-telo-vlasti-iii-opyt-refleksii-kompleksa-bytiya-273516.jpg)
