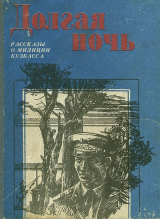
Текст книги "Долгая ночь (сборник)"
Автор книги: С. Попова
Соавторы: Виль Рудин,Борис Синявский,В. Костин,Юрий Пыль,Борис Этин,Г. Грабко,Ф. Шумов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Накурился до одурения, но рвоты не было, только утром голова побаливала, к вечеру снова потянуло курить...
Теперь сидит передо мной – высоченный, широкоплечий, растрепанный. Спрашиваю: как узнал, что Валентин торгует анашой?
Оказалось, он еще в прошлом году попытался взять себя в руки: из Новокузнецка перебрался в Кемерово, но все равно толком работать не мог. Так, у магазинов за грузчика ошивался: поднять, поднести, поставить – тем и жил, и дружки такие же, и все покуривали. Потом был миг просветления – куда же ты катишься, парень? Жена забрала двух девочек, уехала к родителям. Стало самого себя стыдно – решил: все, надо браться за ум.
В Кемерово – точно помнит, – почти зиму не курил, месяца три. Худо было до невозможности – вынес. И когда уже совсем поверил, что превозмог себя – опять сорвался...
Однажды в такси услышал разговор водителя с пассажиром, что травку можно достать у Валентина, есть, мол, в городе такой делец. И адрес назвал.
Сергей тогда сказал себе: ни за что не вернусь к старому ужасу! Выдержки хватило на неделю, потом сам себя уговорил: возьму башик, затянусь напоследок и навсегда отрежу. Сходил – с того дня все опять поломалось, полетело кувырком...
Он смотрит отрешенно, руки на коленях стиснул – аж косточки побелели. Он все помнит, и про нож, и как ударил. Когда подписал протокол допроса, сказал с тоской: расстреляйте вы меня, что ли... Я жить не хочу...
Когда на очередном допросе я спросила Валентина, давно ли он знаком с Сергеем Орловым, тот нахмурился:
– И до парашютиста добралась? Знаете, я никогда никого не боялся, а Сергея – да. Он от анаши совсем дуреет. И дать ему страшно, а не дать – еще страшнее. Вы с ним поосторожнее...
Когда за ним пришел дежурный, уже у двери спросил:
– В прошлый раз я писал Елизавете Климовне, просил принести сменное бельишко, а ее что-то нет. Не запретили передачу?
– Нет, – отвечаю, – не запретили... – И рассказала, что произошло: не корила Валентина, не упрекала – просто рассказала. И что Елизавета Климовна в реанимации, уже неделя доходит, а она все без сознания.
Валентин как стоял у двери, так и стоит, побледнел, глаза расширились. Я все сказала, молчу – он стоит. Никак не опомнится. Потом прошептал:
– Этого не должно быть... Гражданин следователь, ну не должно... Зачем же ее? Она же ни при чем... Ни при чем, понимаете?
Я киваю – ясное дело, ни при чем. Им, таким вот, которые с боку припека, обычно и достается больше всех.
– Не могу я... Я пойду в камеру, разрешите?
Я опять киваю – ведите, ведите его, товарищ сержант. И скажите медикам, пусть дадут ему что-нибудь успокоительного.
Нож, отобранный у Орлова, пошел на экспертизу. На десять дней я отложила работу по наркотикам: поджали сроки по другим делам. Павла Гордеича я в эти дни не видела, ему не звонила. Не звонил и он – у него свои дела, не одними же моими наркоманами заниматься. Елизавета Климовна пришла наконец-то в себя, но говорить с ней нельзя.
Потом началась беготня: срочно готовь план по командировке, беги оформлять документы, бери билеты...
До Алма-Аты мы с Павлом Гордеичем долетели прямым рейсом, дальше поехали поездом. В общем-то я до последнего мига не верила, что начальство разрешит эту командировку – могли ведь решить иначе: бери санкцию прокурора и этапируй Жабина сюда! Но я считала, что надо обязательно лететь: ведь у Жабина свои связи, свои каналы, по которым к нему идет анаша, могут быть и разные сбытчики, не одна Шкоркина! Как все это раскроешь отсюда, из Кузбасса?
Словом, я сижу в душном купе у окна, солнце то бьет в него нещадно, то переходит на другую сторону вагона, и я никак не могу прийти в себя от здешних ярких красок, от необычности всего происходящего. Открывается дверь, Павел Гордеич приносит румяные, поджаристые пироги с рисом и яйцами. От пирогов несет теплом, душисто-терпким ароматом хорошо поджаренного теста... Следом в купе заглядывает разбитной малый с жгучими черными глазами, в белом халате – салам, начальник! Я тебе и твоей женщине чай принес! Угощайся – и лучезарная улыбка на смуглом лице... Мы с Павлом Гордеичем в штатском – удивительно, как он разглядел в нем «начальника»?
Начальник горотдела – высокий черноволосый казах в подполковничьих погонах – весело прочитал наши командировочные удостоверения, весело глянул на меня блестящими коричневыми глазами, весело поцокал языком: какая пери! Скажите, капитан – это она вас сопровождает, или вы ее? Я бы с такой пери из командировок не вылезал, правда!
А потом уже спросил: чем же он нам может помочь?
Я объяснила: дело по сбыту наркотиков, у вас живет торговец анашой, сбывает постоянно...
Подполковник вздохнул: анаша – да, такую чуму придумал на нашу голову шайтан... У них, по долине реки Чу, оказывается, дикая конопля растет повсюду, на обочинах дорог, по огородам, на склонах гор. Растет неистребимо, сама собой. Ее и жгут, и утюжат бульдозерами, и перекапывают. А по весне она снова цветет дурманом. Тогда заслоны и патрули наглухо перекрывают тропы и дороги. И все равно кто-то да прорвется. Тут, в городе, многие курят и приторговывают... Так кого вы ищете?
Объясняю – Степана Ивановича Жабина, тетка, мол, к нему ездит, Шкоркина.
Подполковник удивленно переспрашивает, когда она была здесь в последний раз, и склоняется к селектору.
Минуту спустя приходит начальник следственного отделения майор Олжасов. Оказывается, Жабин арестован еще в январе, арестован именно за сбыт анаши, тогда же был осужден и сейчас находится в колонии. Шкоркина по делу не проходила: они тут, в горотделе, и понятия не имели, что Жабин сбывал анашу еще и через свою тетку...
Вижу – зря мы приехали. Надо было просто запросить: так, мол, и так, сообщите, что вы знаете о Жабине и его дружках...
Павел Гордеич между тем спрашивает – к кому же тогда могла приезжать Шкоркина? Ведь анашу мы у нее изъяли, и ездила она сюда, к вам, два месяца назад, у нас данные верные.
Подполковник, начальник горотдела, развел руками:
– Я и не спорю, что была и что анашу брала. Но не у Жабина: он раньше осужден. Потому и спрашиваю, чем могу быть полезен товарищам из Кузбасса?
Нам отвели довольно большой кабинет с двумя окнами и одним столом.
Павел Гордеич сказал, что заглянет к своим коллегам, в угрозыск. Мне принесли уголовное дело Жабина. Симпатичный сержант-казах притащил огромную пишущую машинку, водрузил ее на стол – трудитесь, товарищ лейтенант!
Не буду перечислять, какие документы я перепечатывала: юристы и так знают, а не юристам это в общем-то безразлично. Но, печатая, я то и дело посматривала на часики. Прошел час – Павла Гордеича нет. Другой – нет. Понимаю, что человек занят делом, что приехал не для того, чтобы сторожить меня. Понимать-то понимаю, но странное дело – в душе досада: бросил тут одну.
Он явился еще через час – озабоченный, недовольный. Объяснил, что Жабин сейчас в колонии, в соседней области, километров за пятьсот, и он туда едет. За два дня обернется.
И он уехал, и я два дня, до субботы, жила спокойно.
Пришла суббота. Все бумаги, которые отпечатала, положила в папку: у меня есть такая, коричневая, плотная, с отжимной пружиной, очень с ней удобно. С утра думала: явится Павел Гордеич, позавтракаем – и на вокзал: авиабилеты из Алма-Аты я заказала на воскресенье. Но к завтраку Павел Гордеич не появился. Я то сидела у окна маленького номера гостиницы, то лежала на широкой, почему-то белой деревянной кровати, смотрела в высокий с маленькими трещинками потолок... На улице было нестерпимо жарко, но в комнате стояла прохлада.
Часов в двенадцать не вытерпела – пошла в горотдел. Спросила дежурного, не знает ли, когда вернется капитан, что приехал со мной? Дежурный ответил, что Павел Гордеич звонил и просил передать, что вернется вечером, вам же домой без него посоветовал лететь, он еще тут задержится.
Вот это шуточки! Без него! Что же он такое раскопал, что должен остаться?
Павел Гордеич пришел ко мне в номер вечером. Взял стул, сел у темного распахнутого окна. По его осунувшемуся усталому лицу и твердым морщинкам в уголках губ поняла: произошло что-то серьезное.
– Вот такие тут пироги, – сказал спокойно, словно равнодушно.
По приезде ему, оказывается, допросить Жабина откровенно не дали. Начальник колонии куда-то названивал. Потом объявил, что без ведома прокурора разрешить допрос Жабина не может. Прокурор тоже куда-то звонил, заявил, что нужно разрешение прокуратуры республики.
Я представила себе, какими глазами смотрел Павел Гордеич на чиновников в мундирах, ведь они хорошо понимали, что творят произвол.
На другой день Павел Гордеич позвонил в Алма-Ату, в угрозыск республики. Его спросили: зачем вам, товарищ капитан, лезть в это дерьмо? Оставьте в колонии вопросы, Жабина допросят, получите готовый протокол...
Павел Гордеич усмехается:
– А я им отвечаю: ладно, согласен. Только позвоните в колонию, а то здесь со мной и говорить не хотят.
После этого от начальника оперчасти колонии и узнал, что кроется за всем этим. Оказывается, Жабин сбывал анашу не один, была у них целая группа. Одни собирали коноплю, другие перерабатывали, третьи продавали. Был в той группе парень, мать которого при высокой должности в горисполкоме. Когда началось следствие, Жабин на первом же допросе все выложил – думал: того парня тронуть не посмеют, значит, и он выкрутится. Переполох и в самом деле поднялся – выше некуда, но результат вышел не тот, на который рассчитывал Жабин. Его обвинили в том, что он умышленно чернит уважаемых людей. Клевещет! Словом, под суд пошел один Жабин.
Начальник оперчасти тоже позвонил кому-то в Алма-Ату, а потом вызвал в свой кабинет Жабина и сказал ему, что я из Сибири и хочу с ним потолковать, добавил, – говори смело, как мне рассказывал, и ничего не бойся! Жабин тогда усмехнулся и заявил, что ему бояться нечего, свой, мол, срок он оттянет, а выйдет, тогда кое с кем посчитается.
Рассказывая, Павел Гордеич встал со стула, пошел неслышно по толстому ковру – высокий, плечи крутые, а в глазах горечь...
– Понимаете, Антонина Петровна? Шкоркина опознать никого из банды не может. Они как делали? Шкоркина перед выездом шлет до востребования телеграмму на какого-то Жубаева или Жабарова: «Приеду двадцатого». А кто они такие – Жубаев и Жабаров, ведать не ведает. На вокзале ее встречают, отдают пакет с анашой, забирают деньги, вручают обратный билет. Она уезжает, даже в город с вокзала не заглядывает. Год этот канал действует, а Шкоркина так Жабина и не видела. Жабин говорит – так придумал Нигмат, у которого мать в горисполкоме. А кто носил на вокзал пакеты с анашой, брал у нее деньги, покупал Шкоркиной билеты, этого и Жабин не знает. Жубаев и Жабаров, на которых Шкоркина давала телеграммы, тоже лица подставные...
– Действительно, дела, – говорю. – А протокол где? Мы этим показаниям дадим ход через Москву.
Павел Гордеич – с горечью:
– Ничему мы с вами пока хода дать не можем! Вы разве не поняли? Был откровенный мужской разговор. Без записи. Когда Жабина увели, мне начальник оперчасти сказал: «Оставляйте ваши вопросы, допросим Жабина без вас и протокол пришлем». А я говорю: давайте, Жамал Нуриевич, сделаем это вместе, чтобы вас не подвести. А он этак на меня глянул – глазищи черные, раскосые, бешеные: чем же вы меня можете подвести? Я за показания Жабина ответственности не несу, вопрос в другом: куда вы с этими показаниями потом денетесь? Сюда же и пришлете, в МВД республики, так ведь? А что тут с этими показаниями сделают – понимаете? Так зачем же ломать комедию? Будто вы что-то расследуете? Будто ваше следствие кого-то изобличит, будто виновные предстанут перед судом?
Павел Гордеич смотрит на меня – улыбка косая, уголком рта, я такой у него еще не видела.
– И все же я договорился с Жамалом Нуриевичем – во вторник приеду, оформим протокол вместе. А в понедельник потолкую тут с ребятами. Надеюсь, не все же они послушно руки по швам держат перед исполкомовским начальством. А вы, Антонина Петровна, отправляйтесь завтра первым автобусом в Алма-Ату, к рейсу успеете. Ей-богу, поезжайте, хоть за вас у меня душа не будет болеть, как вы тут одна... – И снова глаза стали у него добрые, теплые...
Дома, оказывается, третий день льет дождь. Сыро, холодно.
Первым делом звоню в больницу: может, со Светловой можно встретиться? Женщина, снявшая трубку, пошуршала страницами журнала, переспросила недовольно:
– Так вас кто интересует? Елизавета Климовна Светлова? Не встретитесь теперь. Умерла она сегодня ночью.
Какой буднично-безразличный голос у этой женщины. Привыкла, видно, к чужим смертям...
Вот и вторник на исходе, а Павел Гордеич так и не дает о себе знать...
Звонок раздался уже в семь – резкий, настойчивый. Междугородный. Хватаю трубку – Павел Гордеич. Голос у него сильный и радостный. Будто не за тысячи километров от меня, а совсем близко:
– Ну, наконец-то! Здравствуйте! Третий раз вызываю, никто не отвечает! Боялся, ушли уже!
Весело кричу в трубку:
– Здравствуйте! Никуда не выходила, ждала! Где вы? В Алма-Ате?
– Так точно, прилечу завтра. Привезу протокол, племянник про тетку все выложил...
– Хорошо! Я рада!
Минутный разговор...
Я знаю: у меня нет права на личную ненависть к Шкоркиной. Но если честно – ненавижу ее. Ненавижу эти пухлые щечки, узкий лобик и тяжелый нос. Ненавижу ее грузную, необъятную фигуру. Ненавижу, когда вежливо задаю обязательные вопросы и когда записываю ответы.
Час назад она прочитала постановление о предъявлении обвинения, заключение экспертизы, показания Валентина и протокол допроса Жабина, что привез Павел Гордеич. В нем подписи Жабина и начальника оперчасти колонии подполковника Сыздыкова. Шкоркину сразило именно это: она, оказывается, и не думала, что племянник арестован и осужден. Рассказывать о нем не хотела, чтобы не накликать беды, а теперь что же плакать по волосам, если голова пропала?
Она рассказывает скучным, занудным голосом, а я пишу, пишу.... Да, ездила в Казахстан, давала заранее телеграммы, и ее встречали, всегда разные люди, иногда совсем молодые, иногда пожилые; она отдавала деньги, пятьсот рублей за пакет, ее ни разу не обманули, вместо анаши ничего не подсунули...
За окном сумрачно, небо затянуто низкими тяжелыми тучами – собирается дождь, и я зажигаю свет в кабинете. Говорю:
– Теперь давайте о Валентине. С какого времени он стал брать у вас анашу?
Шкоркина согласно кивает – да, да, пишите: Валентин нашел меня сам весной прошлого года, предложил услуги, мне показалось выгодно. Травку брал регулярно, раз в полтора-два месяца, рассчитывался аккуратно...
Вчера я сказала Валентину, что Елизавета Климовна умерла. Он судорожно вздохнул: воздуха не хватило. Оттянул пальцем ворот рубашки, мрачно обронил:
– И за что меня судьба истязает? Двух таких женщин в могилу свел... Скоро ли суд?
Я помнила, каким он был на первом допросе, как плакал тогда. Теперь смотрел на меня в упор сухими глазами.
Он ушел спокойно, а в камере, к вечеру, не выдержал: была истерика, сердечный приступ, еле его отходили...
Теперь Шкоркина стала перечислять, в какие месяцы и какие суммы приносил ей Валентин, счет пошел на тысячи: за год через него много анаши прошло. Потом все тем же занудным голосом стала называть тех, кто покупал у нее анашу – в стаканах, пакетах и пакетиках. Назвала Катю-Катюшу, назвала еще шестерых. Имен и фамилий остальных не знает, и то хорошо – указала приметы.
Казалось бы, что еще надо следователю? Вину признала, клиентуру назвала. Но побороть в себе ненависти к этой щуке не могу. Не хочу. Обидно, сколько бед от нее людям, а отделается шестью годами, да и те не отсидит, выпустят условно-досрочно за примерное поведение – такие, как она, в колонии тихие.
Пришла экспертиза по ножу и крови на нем. Но Сергея Орлова у меня забирают: материалы на него предстоит выделить, дело будет вести прокуратура, это их подследственность. При последней встрече он рассказал про Валентина: сколько раз брал у него анашу, сколько платил... Тот случай вспомнил, когда в дождь его дожидался, а он с женщиной из кино бежал... Нет уже той женщины. И у меня в ушах все стоят тоскливые слова Орлова: расстреляйте вы меня, что ли...
Обычно я не хожу в суд, когда рассматриваются мои дела, но тут пошла. Напрасно, наверное.
Шкоркина, как я и думала, получила свои шесть лет лишения свободы – слушала приговор стоя, спокойно кивала, чуть склонив голову набок.
Валентину дали четыре года. Он смотрел в зал и никого не видел.
Кате-Катюше определили полтора года заключения и принудительное лечение. Она, видимо, не разобрала, что ее будут лечить, а про заключение услыхала – заплакала в голос: «Мамочка родненькая, да за что же меня?»
Если бы можно было, я бы к ней кинулась, растолковала бы: Катя, да что же ты убиваешься? Вылечат ведь тебя! Но кинуться нельзя, стою недвижимо, а Катя рыдает, ничего не слышит, никого не слушает; милиционер ей воду тянет – она по стакану рукой...
Из зала суда так под руки ее и повели...
Г. Грабко
НЕХАРАКТЕРНЫЙ СЛУЧАЙ

– Что же тебя здесь смущает? – майор Носов, не по летам грузный, глянул поверх очков на Диму Мальцева. – Состав преступления налицо, преступник задержан. Возбуждай уголовное дело и передавай к нам, в следствие. А машинку швейную ищи.
– Да тут, Николай Иваныч... – Мальцев, молодой инспектор угрозыска, свою первую милицейскую звездочку получил всего-то неделю назад, и горотдел все еще звал его дружелюбно и ласково просто Димкой. – Тут, Николай Иваныч, случай нехарактерный.
– Нехарактерный? Ты, говорят, на юрфак нынче поступил? Точно? Так вот, Дима, как начнешь изучать уголовное право, обрати внимание: там в учебнике, в самом начале, жирно так напечатано, что уголовная преступность – явление для нашего социалистического общества вообще нехарактерное. А про наркоманию и проституцию много ли у нас газеты пишут? Будто их и нет совсем... Ты вот год в угрозыске крутишься... Есть они или нет их?
Мальцев покачал головой:
– Но послушайте, Николай Иваныч, это же я надоумил этого Юрку Долгих потерпевшей козу подстроить!
Очки на лице майора сами собой съехали на кончик носа.
– Ну, Дима, извини. Тут я ничего не понял!
А дело-то было самое простое.
Долгих, когда сидел в колонии по первой и единственной пока судимости, завел себе заочницу, Бурцеву Анастасию, женщину одинокую и бездетную, года полтора с ней переписывался, и как освободился, так к ней и прилетел. Она приняла, оставила у себя на ночь. Утром все идет ладом – он ей: «Давай поженимся, Настя ты моя дорогая!» Она: «Чего торопишься? Поживи пока, там видно будет...» А Долгих этот от ночной благодати совсем разомлел душой. Ну и ладно, подождать тоже можно...
Ближе к вечеру парень заявился, лет двадцати – Бурцева к нему кинулась: «Заходи, заходи, Миша!» Юрке Долгих объяснила – племянник, мол, пожаловал. Посидели, за знакомство выпили... Время позднее – пора спать. У Бурцевой комната девять квадратов. Племяннику на полу постелила, а Юрку Долгих к своему соседу спровадила – мол, неудобно ей, нерасписанной, при племяннике с Юркой Долгих в одну постель ложиться. Долгих ведь поверил, ушел. А еще через день, когда к Бурцевой ее родня заявилась, Долгих и услышал, как ее сестра спрашивала – что же ты, Анастасия, мужиками так вертишь? С тем спишь и с этим... А ну дознаются?
У Долгих еще терпежу хватило, пока родня водку допьет да пока разойдется. Бурцева, правда, мамой клялась, будто промеж ней и «племянником» ничего не было, но Долгих все равно на этом «племяннике» душу отвел...
Вот когда Мальцев с этим Юркой Долгих разбирался, возьми да ляпни в простоте душевной: подруге надо было засветить за то, что вас двоих стравила, а мужик здесь дело десятое!
Майор Носов кивнул:
– Ну вот все понятно, одно не ясно: машинка-то здесь похищенная при чем?
– А по самому больному месту ей и засветил!
Долгих после того как «племянника» отчистил, от Бурцевой в одном пиджачке ушел, к соседу же, а ключ-то от ее квартиры у него остался. Вот он на другой день без нее, без Бурцевой, к ней заявился, пальто и шапку забрать. А знал уже, что она шитьем прирабатывает. И подумал: вот я тебе заделаю козу! Прихватил машинку и в снег ее зафуговал, поближе к реке. Пусть, мол, подружка помечется, а уж потом притащу.
Бурцева домой заявилась – машинки нет. Не долго думая – в милицию: кража!
Майор Носов помолчал, отодвинул от себя принесенную Мальцевым папочку.
– И что же ты от меня хочешь?
– Не дело ему опять в зону идти.
– Да? А с фактом как быть?
– С фактом хуже... – Димка выложил на столик перед собой «Комментарии к уголовному кодексу». – Вот тут сказано, что если вещь взята без корысти и с намерением вернуть ее потерпевшему...
– Что ты мне закон под нос тычешь? То ли я его не знаю?
– Но, Николай Иваныч, Долгих сейчас посадить – дважды два! А ведь мы не только карать, но и помогать, воспитывать должны...
– Да? И где ты этому выучился?
– Так все же заборы этими лозунгами заклеены!
– Насчет заборов это ты верно подметил... – Майор Носов впервые улыбнулся. – Если бы хоть половина того, что в лозунгах понаписано, на деле делалось... Значит, считаешь, можно в возбуждении дела отказать?
– Не считаю, а посоветоваться пришел.
– Начальник угрозыска что тебе сказал?
– У нашего Мазуренко одно на уме: «Брось его на кичу, тайгу полоть!»
– И где ты таких слов нахватался?
– Так это не я, это Мазуренко.
– Хорошо. Оставь материалы. И имей в виду, Дима: в неудобном положении окажешься. Непосредственного начальника игнорируешь – раз. Невинного сутки в камере продержал – два. Взыскание, считай, себе обеспечил...
– Ну что вы, Николай Иваныч, при чем тут взыскание? У Долгих судьба рушится...
* * *
Был уже двенадцатый час ночи, когда милицейский УАЗик остановился на окраине города у заснеженного обрывистого берега реки. В машине находилось пятеро: водитель, Мальцев, Долгих и двое дружинников. Дружинников Мальцев пригласил как понятых и в тайной надежде, что помогут искать, но те свое дело тоже знали и, нарочито громко позевывая, многозначительно поглядывали на часы: их товарищи давно разошлись по домам. По виду «добровольных помощников» и шофера было ясно, что выходить из теплой машины в заснеженную ночь им совсем не хотелось. «Ладно, – решил Димка, – поищем вдвоем. Если верить Долгих, машинка должна быть неподалеку. Хорошо хоть луна ясная».
Они по снегу соскользнули с обрыва и вошли в чернеющий в темноте кустарник. Пробираясь сквозь кусты и сугробы, Димка тотчас же ощутил в ботинках холодное похрустывание снега, а его старенькое – еще отец носил! – демисезонное пальтецо от мороза, казалось, начало потрескивать. Впереди на фоне темной паутины кустов по колени в снегу смутно колыхалась сутулая фигура Юрки Долгих. «Замело, твою мать... – хрипло чертыхался он. – Где-то же здесь она, стерва, сюда я ее с обрыва фуганул...»
Мальцев и Долгих то уходили, вспахивая снег, от обрыва, то снова приближались к нему. Время шло. Холод становился совсем уж нестерпимым... Вдруг Долгих заорал во всю силу легких:
– Вот она, зараза! Вот она, родненькая!
Пошли назад. Теперь впереди оказался Димка. «А ну как он меня сзади машинкой по голове наладит? – оглянувшись на высоченного Юрку Долгих, спохватился Мальцев. – Надо бы как-то местами поменяться. Но тогда пыхтящий позади Долгих сразу догадается, что боюсь его... Да и чего ему вдруг махаться захочется?» Мальцев наконец поднялся по снежному откосу наверх и, прислушиваясь к натужному сопению чуть отставшего Долгих, уже не чувствуя ног, пошел к черневшей машине.
Радостно зашевелились, уступая место, дружинники, фыркнул двигатель, и УАЗик, вспарывая лучами темноту, рванулся с места...
В неправдоподобно теплом кабинете глубокой ночью оформили протокол, пощелкали машинкой – исправная. Покурили...
– Досыпать в КПЗ пойдешь, или еще в городе знакомые есть? – спросил у Юрки Долгих Мальцев.
– Ну ее, эту вашу камеру, – отмахнулся тот. – У корешей перекантуюсь.
– Твое дело. Распишись в постановлении об освобождении и гуляй. За документами днем придешь: у майора Носова они, понял?
– Годится, – тряхнул головой Долгих и вышел из кабинета.
* * *
Минула неделя. Юрка Долгих в горотдел за документами так и не пришел. Мазуренко, начальник угрозыска, нетерпеливый и желчный, каждое утро вежливо осведомлялся у Мальцева, не получил ли товарищ инспектор весточки от сбежавшего преступника? Так сказать, персонального привета? Или благодарности за проявленное ротозейство и слюнтяйство? Мальцев в душе ожесточился, упреки слушал с горечью. Он не понимал, что такое могло случиться с Долгих? В одно верил: никакого преступления за Долгих по тем материалам не было. И отпустил его тогда правильно... Но майора Носова обходил далеко стороной: почему-то становилось нестерпимо стыдно...
На восьмой день, прямо с утра, Мазуренко собрал отделение, сказал, неотрывно глядя в лицо растерявшегося Мальцева:
– Вчера вечером двое стервецов подпоили в «Ромашке» гэпэтеушника, пошли к нему домой, там еще выпили поллитровку, а как подросток уснул, мазурики унесли из квартиры всякое барахло. Соседка по подъезду видела, как мазурики спускались по лестнице. У которого был рюкзак, смахивает по приметам на Долгих, ростом, цветом волос... Чтобы через час была ориентировка по всему Кузбассу и по соседним областям на задержание твоего дружка. Список похищенного возьми в дежурной части. Иди, а мы тут пока о своих делах потолкуем...
Мазуренко говорит негромко, а у Мальцева в ушах звон стоит. Все в кабинете к нему повернулись, смотрят неотрывно, и в глазах у них видит Димка осуждение... Вот, мол, залетел ты, сыщик... Впредь тебе наука – будешь знать, как жалеть мазуриков... «На кичу их, тайгу полоть!»
Мальцев встал, руки по швам. Сказал громко, отчетливо, как на флоте привык: «Есть составить ориентировку!» – и вышел, ни на кого не глядя.
Пошла у Димки жизнь вовсе не выносимая. По горотделу слоняется, всем чужой. Осунулся. От Мазуренко больше никаких заданий нет, Мазуренко его и подначивать перестал, и словно бы в расчет не берет. Что есть он, что нет, Мазуренко все равно. И вот приходит телеграмма из соседнего города: «Задержан без документов Юрий Герасимович Долгих, ссылается на ваш горотдел, шлите конвой».
Мазуренко подождал, пока Мальцев прочтет, потом пожевал тонкими, бескровными губами, сказал непримиримо:
– Людей для конвоя у меня нет. Езжай сам. Упустишь второй раз – в угрозыске тебе не работать. И вообще в милиции.
* * *
Выехал Димка тотчас же, с электричкой. Домой о командировке звонить не стал, чтобы не расстраивать мать: очень та всегда за него переживала. С пятого класса, как отец погиб, растила одна, учила справедливости, а эта поездка была как за грехи...
В электричке он пристроился у промерзшего насквозь окна, снял шапку. Ехать предстояло часа два. Было тепло, он, оказывается, сел на скамью, в которой был обогреватель. Потом ему стало жарко, и он расстегнул свое «семисезонное» пальто... Глянул на часы – уже час едет. Интересно, с какими глазами встретит его Долгих? Что скажет? Гад ведь он, мазурик! Бывают же такие люди, добра не понимают и не помнят... Весь мир для них – сплошной обман. Весь смысл жизни – как бы кого объегорить, пока самого не облапошили... Научиться бы понимать их, этих мазуриков, кто из них о чем думает, что в душе держит... Иначе в милиции точно делать нечего...
В дежурную часть приемника-распределителя Долгих вывели в наручниках. Заросший грязной щетиной подбородок, измятые, с пузырями на коленях брюки; плечи обвисли... Жалость вперемешку с обидой начала подниматься в душе Мальцева...
– Что в браслетах-то держите? – Мальцев хмуро посмотрел на конвоира, молоденького, как и сам, сержанта.
– А псих он, товарищ младший лейтенант. В камере головой колотился. Нет, чтоб о деревянные нары – всю штукатурку со стен пообивал. Как же вы его повезете, такого психа?
Мальцев расписался в журнале о получении задержанного, глубоко запрятал в карман сопроводительные документы, кивнул Долгих:
– Давай топай вперед.
– Куда? На вокзал прямиком?
– Нет, я тебя сначала в ресторан свожу, трахнем по рюмашечке за встречу. С радости моей великой.
Долгих опустил голову, толкнул рукой дверь...
* * *
В купе кроме них никого не было.
Они сидели друг против друга, за голым, без салфеточки, столиком, уставившись в подрагивающее отражением черное окно.
– И что за натуры у вас такие поганые? – не выдержал молчания Мальцев.
– У кого «у вас»? – покосился на него Долгих.
– У мазуриков. У зэков.
– Зачем сразу всех в мазурики производишь? Есть и путёвые.
– Уж ты путевый! Я вон раз по улице иду, в форме, а мимо заключенных везут. В решетку лбами вплющились, орут на меня, матом кроют. А я всего год, как с корабля списался. Во мне не только милицейских – еще гражданских привычек нет. Как был мореман, так им и остался. Чего же меня крыть?
– А все равно не все зэки одинаковые, – упрямо повторил Долгих. – Путёвые тоже есть.
– Тогда скажи: что же ты, путёвый, после всего, что меж нами было, снова на кражу пошел?
– А доказательства есть? – Долгих уставился в лицо Мальцева тяжелым взглядом.
– Доказательства, брат, суд спрашивает, а я с тобой о совести толкую. Ну нет доказательств, нет. Мальчишка ваших поганых рож не помнит, кто с тобой еще был – не знаем. Тебя одного соседка приметила, да и то со спины. Доказательство, что ли? Краденого-то при тебе нет...
Долгих откинулся на спинку сидения, помолчал. Вздохнул:
– Вот, младшой, еще я таких ментов не видел. Все наоборот делаешь. Открытый ты больно. Добрый. Только твоя доброта мне впрок не пошла. Спас ты меня от залета, а тут свой подвернулся, в одной зоне кантовались. А пить мне совсем нельзя: перепиваю. Ничего потом не помню... Так ведь и первый раз сел. И второй сяду...
– Ладно уж! Хватит в грудь кулаком колотить! Вещи-то где?
– В доме, где тот сопливый живет, в подвале. Костюм там, пальто. Спал я на них, когда из квартиры пьяный свалил. А утром проснулся – веришь ли? – как ошпаренный от них сбежал... Другому никому бы не признался – веришь?
* * *
Майор Носов хмуро полистал документы, глянул на узел у двери кабинета.
– Все, что ли, похищенное нашел?
– Ну как же все, Николай Иваныч? Только то, что Долгих брал. Остальное у его дружка, искать придется.
– Так Долгих его назвал, дружка?
– Назвал, сказал, где искать. Завтра поеду.
– Вот уж точно – нехарактерный случай. А скажи, Дима, чего это ты от меня все прятался? На той неделе? Неужто совесть мучила?








