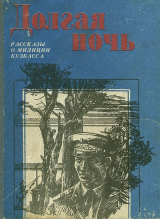
Текст книги "Долгая ночь (сборник)"
Автор книги: С. Попова
Соавторы: Виль Рудин,Борис Синявский,В. Костин,Юрий Пыль,Борис Этин,Г. Грабко,Ф. Шумов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
В. Рудин
ПАХУЧАЯ ТРАВА – СЕРАЯ ЧУМА

У этой девушки, которая понуро сидит передо мной, красивое и нежное имя: Катюша. Она и сама совсем недавно была, видно, очень красивой. Отчего так пишут: неброская русская красота? Не знаю... Начнешь разбирать все по отдельности – какие глаза, да какой нос, лоб, овал лица... Вроде бы ничего особенного. А все вместе сложилось – прелесть девушка! И волосы с золотистым отливом. Вот только кожа на лице увяла, посеклась, желтоватая. И в глазах пустота... А ведь на пять лет меня моложе.
Ох, Катя-Катюша, что же ты с собой сделала?
Ее сейчас «ломает» – это они сами о себе так говорят. «Ломает» – организму нужен наркотик. Потому что Катя-Катюша вот уже год как хроническая наркоманка...
Привел ее ко мне вчера вечером участковый, капитан Филиппов, человек пожилой и добрый, готовый помогать всему белому свету. Завел в кабинет, усадил на стул, а на стол передо мной положил сверток – вот, сказал, Антонина Петровна, смотрите, что она в общежитии держала, в закутке...
В пакете оказались иглы и два шприца с засохшими коричневыми потеками, давно не мытые и не кипяченые. И еще сухой мелкий серо-зеленый порошок в жестяной коробке. Я как глянула, так и ахнула: план! А еще называют – гашиш. Или анаша. Без всякой экспертизы видно.
Спрашиваю:
– Куришь, что ли? Или для продажи?
Она головой замотала:
– Нет, нет, я не торговка, я сама...
– А берешь у кого?
Голову опустила, золотистые волосы рассыпались, лицо закрыли. Молчит.
Ну, оформила я, что положено, отправила Катю-Катюшу в дежурную часть. Я тогда о ней еще ничего не знала, еще жалеть ее не начала – мало ли их, таких вот, гулящих, да пьющих, побывало в моем кабинете за три года, что работаю следователем? Раз я сама – женщина, то начальство и норовит давать мне дела на женщин. Говорит, у тебя с ними, Антонина Петровна, контакт получается. И никто не спросит, чего мне этот контакт стоит!
Словом, теперь я знаю, что Катя-Катюша в школе училась блестяще, если бы не новый директор, быть бы ей золотой медалисткой. В девятом и десятом классах – комсорг школы, в институт поступила легко. В какой именно, я думаю, не так уж важно, я ведь рассказываю о живом человеке, зачем ее на позор выставлять...
Вот там, в институте, на втором курсе все и началось.
Собралась студенческая вечеринка, человек пять-шесть, песни пели под гитару, там пошли танцы, пили легкое «дамское» винцо, танцевали. Один из парней пустил по кругу сигарету с «травкой»... Все разгоряченные, взбаламученные; одна из девушек сигарету взяла, понюхала – фу, говорит, какая пакость, что вы, парни, делаете? Ее дружно высмеяли: желторотик! Это только для взрослых...
Катюша два раза затянулась – парни в восторге: «Безумству храбрых поем мы песню!» Ничего теперь не бойся, Катя, сейчас мир преобразится!
В тот раз мир преображаться не захотел – болела голова, во рту было пакостно, тошнило. И была у Кати гордость за себя: вот теперь стала по-настоящему взрослой, сама за себя отвечаю. Хочу – и курю, хоть табак, хоть «травку»...
«Преображение мира» началось у Кати после четвертого или пятого сеанса: стала она вроде бы невесомой, хотелось смеяться, обнять весь мир... Ах, ребята, хорошо-то как!
Вот уже год, как Катина судьба поломалась: не курить она не может, раз в день надо обязательно. Институт давным-давно бросила, работать не в состоянии, к родителям не едет...
Она смотрит в раскрытое окно, потом на меня – глаза лихорадочно блестят, губы сжаты. Через силу спрашивает:
– В тюрьму отправите?
– А ты чего бы хотела?
– Отпусти́те меня...
– Сколько без анаши продержишься?
Она смотрит на меня долго, упорно. Чувствую: напрасно обещать не хочет, а за себя поручиться не может.
– Катя, ты всегда берешь ее в одном месте?
Она кивает.
– По скольку берешь и сколько платишь?
– За стакан тетя Дуся берет пятьдесят рублей, его мне надолго хватает, я по многу не курю, так, чуть-чуть подкурюсь, и все...
Я киваю – ладно, сейчас подпишешь протокол, только я адрес тети Дуси не записала. Какой, говоришь, у нее адрес?
– Она живет на Южном поселке, прямо против кинотеатра...
– Вот и молодец, что все сказала. Я тебя, Катюша, в тюрьму не отправлю, повезу в больницу, полечим тебя...
До больницы ехали молча, а там вышла она из машины, увидела вывеску – «Психиатрическая больница» – в дверку вцепилась, шепчет:
– Не надо... Миленькая, товарищ лейтенант, ну не надо в психушку...
Вот когда мне ее жалко стало.
Шофер подошел – вижу, сейчас крик начнется. Говорю ему: погодите, Степанов, не надо, она сама пойдет. – Положила ладонь ей на желтую, худую руку: – Ну, Катюша, если хочешь снова стать человеком – пойдем. А то в тюрьму придется...
Она и пошла за мной.
Ближе к вечеру позвонил начальник, велел зайти. У него сидел... Ну, не знаю, как сказать... Женщины ведь сразу оценивают мужчину – сто́ящий, так себе или вовсе никчемный. Этот был очень даже сто́ящий: лицо спокойное, уверенное, взгляд твердый. Плечи крутые. Одну руку на стол положил, другой папку прикрывает.
– Вот, Антонина Петровна, – говорит начальник, – забирайте Павла Гордеевича к себе, он про тетю Дусю вам расскажет, и готовьте документы. Завтра с утра ехать вам с обыском.
Ага, думаю, значит Павел Гордеевич из угрозыска, только не из нашего райотдела, не то бы я его знала. Помню, съехидничала: неужто угрозыск одним моментом развернулся? А если есть для обыска основания, чего до утра ждать? Едем сейчас!
Начальник плечами пожал – сейчас в прокуратуре уже никого нет, поздно, кто тебе санкцию даст? Да и не пожар, не убийство, чего пороть горячку? Идите, идите.
Павел Гордеевич – формы-то на нем в тот раз не было, звания его я не знала, – встал. Оказалось, моя макушка прямо вровень с его подбородком. Открыл дверь, пропустил меня. Вот, думаю, какой галантный. Даже неловко как-то, на следственной работе частенько приходится забывать, что ты женщина. Иной раз в такие дебри залезешь...
Пришли ко мне, и развернул Павел Гордеевич такую панораму – как говорится, волосы дыбом.
Тетя Дуся – Евдокия Васильевна Шкоркина – живет одна, ни мужа у нее, ни детей, а приходящий сожитель, забулдыга и пьяница, не в счет.
Вот уже много лет бездельничает, а живет, словно сыр в масле катается. Приехала с Севера, там работала в торговле, пенсионный стаж оттуда привезла, но по возрасту на пенсию еще не тянет. Денег у нее полным-полно, она и в долг дает, не всем, конечно, только тем, кто у нее в чести. Ездит время от времени куда-то в Казахстан, там у нее родич. Привозит оттуда «травку». И ходят к тете Дусе за этой «травкой», считай, со всех концов города. Соседка по дому показывает – на неделе парень лет двадцати ломился к тете Дусе в дверь, кричал: «Пожалей, стерва, продай хоть на закрутку, не могу я больше!» Когда на цементный пол на площадке перед дверью сел и заплакал – тетя Дуся сжалилась: вынесла что-то в конверте и три десятки с него взяла...
– Ну, что будем делать? – посмотрел на меня Павел Гордеевич, а глаза у него хорошие, добрые, – как же он, думаю, со своей добротой в угрозыске управляется?
Говорю:
– Вы мне всех соседок назовите, кто про Шкоркину рассказал, я их после допрошу, а то ваши данные для суда законной силы не имеют, вы же знаете. Завтра утром буду в прокуратуре, получу санкцию, и можем сразу ехать на обыск.
– А если ничего не найдем? – глянул он на меня, и я подумала: точно, что добрая душа! Это он за меня беспокоится, чтобы не получилось необоснованного обыска.
– Когда тетя Дуся последний раз ездила в Казахстан?
– Только что вернулась. Оставляла ключи соседке, чтобы та поливала цветы.
– Возит-то она наверняка не один-два стакана. Думаю, найдем.
Дверь чуть приоткрылась. Лицо у тети Дуси на удивление белое, щечки пухлые, нос для них чуть великоват. Смотрит на нас без удивления, даже нагловато:
– Вам кого?
Говорю – ищем Шкоркину Евдокию Васильевну. Не вы ли будете?
Дверь она держит все так же полуоткрытой, улыбается игриво – я, а что? Ни в лице, ин в глазах никакой тревоги. Ох, думаю, вот это мы влипли. Неужто она все из квартиры перепрятала?
Павел Гордеевич – он ради такого случая надел форму с капитанскими погонами – совсем спокойно говорит:
– Может, вы нас в дом пригласите, а то неловко как-то получается.
– Мне-то, положим, с милицией разговаривать не о чем, а чего вам от меня надобно, в толк не возьму... – А сама за дверь так и держится.
Тут я сообразила: хитра тетя Дуся! Ох, хитра! Это она для кого-то говорит! Кто-то там, в квартире, есть и он может выбросить анашу через балкон на улицу... Обернулась к капитану:
– Быстро в квартиру, Павел Гордеевич, хватит разводить церемонии!
Как я это сказала, тетя Дуся хотела было дверь перед нами захлопнуть, да не получилось. Капитан мгновенно двинул плечом, дверь распахнулась, и мы, проскочив прихожку, оказались в комнате. Она была очень светлая – от солнца, от белой крахмальной скатерти на столе, от лежащих повсюду белых салфеток и салфеточек.
У полуоткрытой двери на балкон стоял мужчина – лицо красное, испуганное.
Хозяйка теперь не улыбается – стала в дверях, за нами. Лицо скучное, нос еще больше выдался вперед – ну чистая щука!
– Вы, – говорит, – не смеете применять силу! Вам еще отвечать придется! Я этого так не оставлю. А вы, Валентин, – это она мужчине, – идите, мы с вами в другой раз договорим...
Валентин ухватил коричневую хозяйственную сумку – и к двери. А я говорю капитану: подержите-ка его, Павел Гордеевич, пусть с нами пока побудет.
Павел Гордеевич ему дорогу заступил – ваша, спрашивает, сумка? Поставьте-ка ее на пол, к стенке, а сами пока на диванчик присядьте. Вот так.
Милиционер, что с нами приехал, привел понятых – двух женщин, что сидели во дворе на лавочке. Села я за стол, достала постановление, объявила хозяйке: по уголовному делу о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков получена санкция прокурора на производство у вас, гражданка Шкоркина, обыска в целях изъятия наркотических веществ. Предлагаю выдать добровольно все, что есть.
У Шкоркиной щечки затряслись от гнева:
– Понятия не имею, о чем вы говорите. А еще женщина!
Пожимаю плечами – при чем тут женщина? Что за логика? Обернулась к капитану: ну, раз не хочет отдавать, будем искать сами.
Подняли диван – пусто; в шифоньере тоже ничего. Шкоркина смотрит безразлично, однако, чувствую: безразличие напускное, деланное. Капитан говорит: тут вроде искать негде, не в часах же настенных! Пойдем на кухню?
Глаза у щуки чуть блеснули...
– Нет, – отвечаю, – давайте еще поищем здесь, – и берусь за дверь балкона. И тут же слышу голос щуки:
– Отдам! Все отдам! Так и запишите: сама отдала!
Между внутренней и наружной балконными дверьми оказался большой целлофановый пакет, в нем серо-зеленый комковатый порошок. Килограмма три, не меньше... Беру пакет, иду к столу писать протокол. Вижу, мужчине, что сидит на диване, совсем не по себе. Ну, думаю, погоди, сейчас и до тебя доберемся...
Женщины-понятые чинно сидят у двери на стульях, перешептываются. Спрашиваю: вам что-то неясно, гражданки понятые?
Одна удивляется:
– Из-за этого порошка и весь сыр-бор, чего в нем страшного-то?
– Вот-вот, как раз из-за него, знаете, сколько от этого порошка выручки у вашей соседки?
Женщины переглядываются: какая же тут может быть корысть? Травка, должно быть лечебная, для страждущих.
– Страждущим – это точно. И по полста рублей за стакан, а в пакете таких стаканов тысячи на полторы... Так, – толкую, – Валентин? – И гляжу на задержанного мужчину.
Он молчит, только лицо пылает.
– Ладно, вынимайте, что у вас там в сумке. Кладите сюда, на стол!
Он нехотя достает пакет, тоже целлофановый, а в нем все тот же порошок. Не меньше килограмма.
– Это вы Шкоркиной принесли или у нее взяли? – спрашиваю.
– У нее взял...
– Расплатились?
– Расплатился наполовину, остальное в долг.
– После реализации?
Молчит.
– Сколько же отдали?
– Двести, столько же должен. Мне за опт скидка; сотнягу прибыли с нее, с тети Дуси, имею.
Женщины у двери пораженно ахают: а мы-то, дурехи несмышленые, думали...
Я оформила, какие нужно, бумаги, кивнула тете Дусе: собирайтесь, мол, поехали.
Та аж побелела:
– Куда? В милицию? Не поеду! Нет у вас таких прав! Из-за поганой травы – да чтобы в тюрьму? Не поеду!
Павел Гордеевич поворачивается к милиционеру:
– У вас где наручники?
Тетя Дуся вздрагивает: наручники? Изверги! Разве можно этак – с женщиной?
Павел Гордеич – спокойно так:
– А что же с вами делать, Евдокия Васильевна, если вы русских слов не понимаете? Еще и протокол оформим – сопротивление властям...
Она головой затрясла: нет, нет, не хочу такого позора! Во дворе соседей полно, все увидят...
– Тогда закрывайте квартиру и марш в машину!
Не знаю, почему, но я решила сначала допросить Валентина. По документам он оказался Михаилом, Михаилом Юрьевичем Пахомовым. Давно, после второй судимости вышел из колонии и твердо сказал себе: хватит жить дураком, надо завязывать. И точно – завязал. Женился на хорошей душевной женщине. У Пахомова оказались истинно золотые руки: он стал часовым мастером. Никто не может чинить японские часы «Сейко», а он может...
Сказал об этом с гордостью и улыбнулся криво, отвел глаза...
Пять лет назад с женой на мотоцикле попал в аварию. Сам-то выжил, а жена – нет... Три года жил один, потом познакомился с молоденькой... Ему под пятьдесят, ей – двадцать семь. Вот уж воистину – огонь, не женщина.
– Понимаете? – Он снова глянул на меня: – Чем такую удержишь? Что могу ей предложить, чтобы по сторонам не смотрела? С зарплаты часовщика не больно разбежишься...
– Понятно, – отвечаю, – на анаше, значит, решили подрабатывать.
Он вздыхает.
– Сколько же берете за стакан?
– Стаканами не продавал, закрутками только...
– Выходит, по рублю за грамм?
Он молча кивает, – и вдруг глаза его наполняются слезами. Нет, не часто видишь перед собой плачущего пятидесятилетнего мужчину!
– Я ведь знал, куда голову засунул. Знал, что все равно попадусь, не сейчас, так позже. Я тюрьмы не боюсь, отсижу два-три года и снова выйду... А Лизу больше едва ли увижу... Она меня ждать не станет, быстро утешится. Она на деньги жадная, на подарки дорогие... С любым пойдет, у кого в кармане шуршит...
– Зачем же с такой связался?
– Где же я в свои пятьдесят сыщу чистую любовь? Не убил бы свою Надежду, жил бы и сейчас, как люди живут, ни анаши бы этой не знал, ни вас вот... Вы человек с понятием, я вижу, а все равно исполните все, что положено по закону, у вас на жалость права нет...
Вот это он точно сказал.
Разговора с тетей Дусей у меня не получилось. О чем бы я ни спрашивала, ответы были – «нет», «не знаю», «никуда» и «ни с кем». А нужно было от нее узнать одно: где и у кого берет эту отраву, эту самую анашу, от которой люди перестают быть людьми, теряют самих себя.
– Не скажу ничего – выйдет мне тюрьма, а скажу – опять же тюрьма. Сама попалась, сама и сяду и нечего тянуть за собой других!
Так я от тети Дуси ничего и не добилась.
В тот день я отложила в сторону все свои дела – их у меня было в производстве шесть – и сделала все, что требовалось. Прежде всего отправила анашу на экспертизу: без заключения эксперта, что изъятый порошок есть действительно наркотик, ни Шкоркину, ни Пахомова не арестуешь, и суд рассматривать дела не станет. По пути поставила вопрос: из одной ли и той же партии анаша, изъятая у Екатерины Крупиной, у Михаила Пахомова и у Шкоркиной? Сообщила в быткомбинат, что часовщик Пахомов мною задержан, чтобы там не потеряли человека.
Экспертиза подтвердила: изъятый у всех троих задержанных гашиш, или – в просторечии – анаша, по составу, влажности и прочим данным, принадлежит к одной партии.
Начальник отделения выслушал меня, прочитал акт, похвалил (удивительное дело: похвалил!) за расторопность, спросил, что буду делать дальше.
Объяснила, что намерена искать клиентуру Шкоркиной и Пахомова, а главное – выявить канал поступления анаши. У нас в Сибири эта индийская конопля не растет, есть она на Северном Кавказе да в Средней Азии. Найти бы поставщика – пусть отвечает перед судом!
Начальник отделения кивает – правильно мыслишь, Антонина Петровна. И угрозыск плотнее загружай, пусть крутятся... Я снова подумала – как же, загрузишь, даже Павел Гордеич куда-то исчез...
В коридоре, у моего кабинета, сидела на стуле женщина. Окон здесь нет, свет с потолка голубоватый, неоновый, лицо женщины белое, неживое, под глазами провалы. Я дверь открыла – она ко мне:
– Вы – следователь Сумина?
– Я, а что? Да вы проходите, садитесь.
В комнате, при дневном свете, женщина оказалась совсем другой: лицо вовсе не белое, в меру, чуть-чуть подкрашенное у глаз, лоб чистый, высокий, прическа со вкусом, платье сидит ладно... Правда – красивая...
– Слушаю вас...
– Да я из-за Валентина...
Вот те на! Это, значит, и есть Лиза? Спрашиваю:
– Что же именно вас интересует?
– Как что? Он же мне муж!
– Разве? Я с его слов иначе поняла, да и в паспорте...
– А я ему сто раз говорила: давай распишемся! Он сам не хочет!
– Почему же?
– Стар, говорит, я для тебя, все равно уйдешь и штамп в паспорте не удержит. А я от него никуда уходить не собираюсь. Скажу, как женщина женщине: Валентин у меня не первый, я его встретила – уж и забыла, когда была девчонкой... С первым мужем разошлась, дурак он был, пил и дрался; второй сам ушел... А таких, как Валентин, не видела прежде. Не знала, что так мужчины могут любить, думала, только в книгах да в кино... Знаете, такой, чтобы пылинки с тебя сдувал...
– Ну, понятно. Вы в его квартире живете или на два дома?
– На два. Не хочу к нему перебираться, там все устроено его первой женой, не выкидывать же? Валентину будет обидно... У меня своя квартира, от комбината шелковых тканей, я там мастером работаю. Думаю обмен устроить. А что, серьезные дела у Валентина?
– Серьезные, Елизавета... а как отчество?
– Климовна я, Светлова.
– Ну вот, Елизавета Климовна, дело-то очень серьезное, а подробнее, сами понимаете, сказать вам пока не могу. Права не имею. На волю его до суда отпустить нельзя, а что суд определит, того никто не знает.
– Вон даже как! Не возьму в толк, за что вы с ним так... Он же и на работе, и везде... Ну честный он! Ни лишних денег с клиента, ни там наценок...
– А подарки он вам часто делал?
– Ну делал, так я же не просила! Он сам. То одно колечко, то другое, то цепочку. И обязательно из золота... Если из-за этого – сейчас поеду, привезу, все отдам! Чёрта ли мне в этом золоте, если Валентин...
– Нет, Елизавета Климовна, золотые побрякушки – это от боязни вас потерять, преступление же...
– Преступление? Валентин – преступник? Что же он натворил? Я же его люблю, дурака седого!
Лицо померкло, как-то сразу осунулось. Но не плачет, держит себя в руках:
– Видеть-то его можно? Передачи?
– Решим. А вы такой вот порошок у него видели? – и выкладываю перед ней на стол целлофановый пакет.
Она смотрит с недоумением.
– А что здесь?
– Так видели?
– Погодите, дайте вспомнить... Однажды была у Валентина... Мы из кино вышли, лил жуткий дождь, и мы побежали к нему, там рядышком. Во дворе Валентина дожидался какой-то парень... Здоровенный, взъерошенный, с мокрой головы вода течет, глаза, знаете... как у сумасшедшего... Увидел нас – кинулся... Я в первый миг не поняла что к чему, даже испугалась. Валентин говорит – в другой раз, парень! Не сейчас! А тот затрясся – сейчас, сейчас, спаси! И пошел за нами.
Тогда Валентин ему такого порошка и отсыпал. В бумажный пакетик...
– А деньги взял?
– Нет, нет... Он тогда сказал – иди с богом, все остальное потом. А что это – «остальное» – не знаю.
Мне было непонятно, почему он по документам – Михаил Юрьевич, а зовется Валентином. И на следующем допросе начала с этого: почему?
Оказалось, он по рождению и есть Валентин, а отчество не Юрьевич, и никакой он не Пахомов. Отцова фамилия Сизых. И первая судимость под именем Валентин Сизых, и вторая. А когда решил стать новым человеком – все сменил. Фамилию и отчество взял от деда, отца матери. Из родных мест (он алтайский) перебрался в Кузбасс, подальше от старых дружков. А однажды – лет семь назад было – идет по мосту через Искитимку, – Гусь навстречу: – Валя! Корешок! Родной! Они с этим Гусем, Витькой Гусаровым, в одной колонии отбывали по второй судимости, спали на соседних нарах... Правда, Гуся через два месяца снова замели, он так и не мог остановиться.
Не стало Гуся, а старое имя Пахомова – Валентин, – как тогда, на мосту, всплыло, так за ним и осталось, только жена-покойница все Мишей называла.
– Хорошо, – говорю, – тут мне все понятно. А скажите, где берет анашу Шкоркина?
– Она каждые два-три месяца ездит в Казахстан. У нее там племянник, Степан, думаю, он ее и снабжает.
– Думаете, или знаете точно?
– Откуда же «точно»? Я при этом не присутствовал. Просто мне Шкоркина как-то сказала: за племяшом должок, а у него денег не было долг вернуть. Так он «натурой» рассчитывается. Хоть и опасно, но ему и ей выгода. Там, в Казахстане, за пять сотен три килограмма идут, а тут за них полторы тысячи выручает.
– Значит, племянника зовут Степаном, а живет где, не знаете?
– Где-то под Алма-Атой. – Он немного замялся, а потом тихо так говорит: – Спасибо вам, гражданин следователь. Мне Лиза передачу принесла, записку передала. Написала – вы разрешили. Не ждал... Честное слово, не ждал.
– Чего не ждали? Что я дам разрешение или что Лиза ваша придет?
– И того не ждал, и другого...
– Да Лиза ваша все колечки нам принесла. На черта мне, говорит, это золото, если я из-за него лишилась Валентина? Дурак седой, что же он натворил? – вот что она сказала.
Валентин медленно поднялся, губы запрыгали:
– Ну, гражданин следователь... Ну, гражданка... Ну что же вы такое говорите? Ну, может ли мне быть прощение, если все так?
Шкоркину я вызвала сразу же, как увели Пахомова.
Она села в углу, на привинченный к полу табурет, аккуратно уложила на колени пухлые белые ручки, уставилась светло-голубыми глазами куда-то вдаль, словно рассматривала за моей спиной что-то очень интересное....
Вопрос у меня к ней был совсем невинный: есть ли у нее сестры и братья? Она пожала плечами – есть, а что? Я объяснила, что для анкеты нужно перечислить всех. Она снова пожала плечами, скучно ответила, что сестер нет, а брат умер лет десять назад, когда она была на Севере.
– Где работал брат?
– Да зачем вам это? Какая вам разница? Умер же он?
– А я запрошу справку о смерти, вложу ее в дело, и суд вам никаких вопросов о брате задавать не станет. Понятно?
Она неохотно рассказала, что брат, Жабин Иван Васильевич, жил в Новосибирске, работал шеф-поваром в железнодорожном ресторане. Умер прямо на работе, от разрыва сердца...
Я все записала, спрашиваю: брат у вас Жабин, вы – Шкоркина. Почему так?
– Шкоркина я по мужу... Теперь уж и не знаю, где он. Я от него на Север уехала.
– Ладно, – говорю, – а у брата дети остались?
Она на меня посмотрела – внимательно так, пристально. Потом губы поджала, глазки в пол. Молчит. Ну, думаю, вот и все.
– Выходит, Жабин Степан Иванович – ваш племянник?
– Какой еще племянник? Никого не знаю! – И смотрит на меня в упор, и глаза злые-презлые.
– Ну тот, что живет в городе Чу, под Алма-Атой.
– Не знаю я никаких племянников!
– А я вот привезу его сюда под конвоем, устрою вам с ним очную ставку – тогда и посмотрим, кто кого знает, а кто кого не знает!
– Ах, что же за бессердечный такой человек? А еще женщина!
– Ну, это я уже слыхала.
Подписывать протокол Шкоркина отказалась. Объясняю: это ваше право. Сделаю сейчас отметку, только это дела не изменит. А я ведь знаю, чего это вы, Евдокия Васильевна, заартачились. Ведь жареным запахло, а? Я еще главного вопроса не задала, а вы уже переполошились...
– Какого такого главного? – и лицо у нее стало краснеть.
– А того самого, о котором вы сейчас подумали... Но я его оставлю до другого раза. Понимаете? Надо еще кое-что выяснить.
Я не видела Катю четыре дня. Теперь, когда пришло заключение экспертизы, а врачи признали ее хронической наркоманкой, ей следовало предъявить обвинение, и я поехала к ней в больницу.
Одетую в застиранный, блеклый, но опрятный халатик, в тапочках на босу ногу, ко мне, в кабинетик ординатора, ее привела грузная, флегматичная женщина, глянула безразлично на мои лейтенантские погончики, объявила:
– Замкну тебя с энтой девахой на ключ, как тута положено. Как с ей разберешься, позвони, я приду, заберу.
В белой, маслом крашеной двери резко щелкнул замок.
Катя медленно, словно в полузабытьи, присела к столу. Придвинула к себе постановление, читала его невыносимо долго, потом спросила, что же с ней теперь будет? Мои объяснения – что суд, видимо, определит ей принудительное лечение – слушала недоверчиво, и что меня удивило: после первого допроса осталось во мне убеждение, что она со мной откровенна и что контакт установился. Что же могло измениться за четыре дня? Но доискиваться не стала, подумала: само собой выяснится, не сейчас, так позже. Задала, как положено, вопрос, признает ли себя виновной? Смотрю – у Кати на лице кривая усмешка:
– Какая же моя вина? Я вам прошлый раз сдуру поверила, думала, добра мне желаете, выложила все, а вы воспользовались... Нечестно...
Вот те на! Катя, – спрашиваю, – да очнись! Чем же я воспользовалась?
– А как же, если бы я вам про тетю Дусю не рассказала, ничего бы вы со мной не сделали, отпустили бы и все. За травку же, что курю, нельзя судить. А теперь выходит групповое дело...
И смотрит жалостно, и горечь в глазах. Кто же ей, думаю, наплел такую ахинею? Ладно, после доищусь, кто тут, в больнице, такой умный! Объясняю:
– Группового дела для тебя как не было, так и нет, а статья твоя – за то, что покупала и хранила наркотики, притом постоянно. За это положен суд. Я ведь только следователь, сама законов не издаю, лишь исполняю. А тебя лечить надо, понимаешь?
Она склонила голову, в глазах неверие:
– Раз лечить – зачем обвинение?
– Так процессуальный кодекс определяет. У тебя же не просто лечение, а принудительное, по суду.
– А если суд вместо лечения – да в колонию?
– Суд может решить по-разному, на то он и суд, а надеяться будем на лучшее. Ну-ка, возьми постановление, прочти еще раз: там есть про сбыт? Или только про то, что сама курила?
Она снова принялась читать – водит дрожащим, желтым пальцем по строчкам, губы что-то шепчут... Наконец вздохнула:
– Так вы меня не обманываете? А правду говорят, будто вам, следователям, дают премии за групповые дела?
Смеюсь:
– Ну, Катя, ты меня удивила! Кто тебе такое наплел?
– Да тут много доброхотов...
– А ты и уши развесила!
Словом, расписалась она и в постановлении, и в протоколе, потом спрашивает, вы у моих родителей уже побывали? Узнав, что не была и пока не собираюсь, стала просить:
– Не надо к ним ездить, ну пожалуйста! Им будет совсем худо... Отец старый, на пенсии, всю жизнь ребят в школе учил. И мама... Она тоже учитель и еще работает, хотя и плоха здоровьем. Они ничего про меня, ничего не знают. Я им пишу, что институт кончила, работаю... Если узнают про травку – отец умрет, от одного позора... Я бы им открыточку написала, а вы бы отправили, пусть пока думают, что у меня все в порядке... Можно ведь так? Ну скажите – можно?
– Я, Катя, подумаю. Теперь подожди минуту, позову санитарку...
Едва я появилась в райотделе, позвонил начальник отделения – будто специально дожидался:
– А, явилась! Быстро ко мне!
Вообще-то он у нас не то чтобы добренький: и сам дисциплину знает, и с нас требует. Но – уважительно, без окриков. А тут – «быстро ко мне!» И трубку положил. Что же там такое стряслось?
У начальника вижу Павла Гордеича. Сидит чернее тучи, взбудораженный.
Начальник говорит:
– Антонина Петровна, послушай, что получилось... – и к Павлу Гордеичу: – Расскажи ей!
Оказалось – действительно беда, да какая...
Вот я сказала Кате час назад – я, мол, следователь, закон исполняю. А закон – он и есть закон, каким бы суровым не был. Это не я придумала, это еще из римского права. Но я, служитель закона, не могу оставаться бесстрастным – боль человеческую, страдания и слезы воспринимает мое сердце. Не могу я быть безразличной к тому, с чем соприкасаюсь...
У Павла Гордеича получилось вот что:
Была устроена засада у квартиры Валентина, чтобы выявить его клиентов. Сегодня с обеда замаячила во дворе какая-то взъерошенная фигура: парень здоровенный, волосы растрепанные, неопрятные, глаза суетливые... Сел на скамейку у подъезда, мается.
Тут-то и появилась Елизавета Климовна. Парень к ней, а она его увидела, остановилась – опять, говорит, ты? Зачем приперся? И так Валентин из-за вашего брата в тюрьму угодил...
А парень ухватил женщину за руку – молчи, такая-сякая! Пошли, я у него возьму травки, там еще осталось, я знаю!
Елизавета Климовна кричит: нет! нет! И была бы – ничего не дам! Руку вырвала – и в подъезд. Парень за ней...
Павел Гордеич заскочил туда секундами позже – и опоздал: парень ударил женщину ножом в спину...
Я растерялась.
– Неужто убил? Как же так?
Павел Гордеич головой качнул:
– Пока жива, вот вам телефон, она в хирургии. Ее сразу, как привез, на операционный стол...
– А парень?
– Что парень? В КПЗ он, только сейчас с ним разговаривать бесполезно, не в себе. Завтра, может, отойдет. А нож вот... – И кладет передо мной финку.
Меня нервная дрожь колотит.
– Павел Гордеич, голубчик, да что же это такое?
Положил он свою руку на мои пальцы – вы же, говорит, – знаете, у наркоманов такая агрессивность бывает...
Что бывает – знаю. И в какие периоды, тоже знаю... А Елизавета Климовна за что попала под нож? Ведь имею же я право сказать завтра Валентину: чего искал, то и нашел, если Лиза твоя умрет – на тебе вина. С травкой начал баловаться – жди беды... И ведь знаю, что права, что справедливые это мысли. Но Валентину все-таки этого не выскажу. Вроде злорадства выйдет... Нет, не скажу.
Парня зовут Сергеем, Сергеем Антоновичем Орловым. Ему двадцать восемь лет. Отслужил армию, был десантником. В декабре 1979 года в первой группе советских воинов высадился в Кабульском аэропорту, когда правительство многострадального Афганистана призвало наших парней себе на помощь.
Там, в Афганистане, прослужил два года, за это время не раз приходилось перехватывать на горных тропах душманские караваны – тащили на себе из Пакистана ленивые верблюды аккуратные тюки с пачками героина в блестящей фирменной упаковке.
Сергей к пачкам относился безразлично: знал, что зло, чума, но в чем это зло – не видел.
После Афганистана работал в прокатном цехе Кузнецкого металлургического комбината. Три года назад был в командировке в Узбекистане, в Бекабаде, на тамошнем металлургическом заводе. Подружился с местными товарищами. Пробыл там долго, больше месяца. Однажды увидел, как курят «травку». Спросил, что это такое. Знакомый, хороший компанейский парень Рашид со смехом объяснил: – Это, Сергей, не для тебя. Мы, узбеки, к травке привычные, на нас не действует, а тебе может быть худо... Сергей не поверил: как худо? Ты куришь, а я не могу? Дай попробую!








