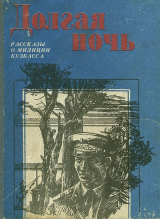
Текст книги "Долгая ночь (сборник)"
Автор книги: С. Попова
Соавторы: Виль Рудин,Борис Синявский,В. Костин,Юрий Пыль,Борис Этин,Г. Грабко,Ф. Шумов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Пару сапог... Если бы в этом дело было... Да хотя бы и пара сапог. Почему ты неизвестно кому должна отдавать честно заработанные деньги? Знаешь, чем отличается фарцовщик от простого спекулянта?
– Понятия не имею. А они еще и отличаются?
– Существенно. Спекулянт просто перепродает вещи. Любые. Фарцовщик «работает» только с фирменным товаром.
– И все?
– Это «и все» дорого нам обходится. Фарцовщик, если хочешь, не просто враг, а враг идеологический. Он – ярая пропаганда того, что нам мешает жить и воспитывать детей так, чтобы из них вырастали настоящие люди. В том, что он никогда не пачкает руки перепродажей отечественного – большой смысл, его работа как бы гарантия и реклама качества. Купленное у фарцовщика – дорого, но качественно. Фирма, одним словом. Они, знаешь, изначально ставят вопрос так – у нас в стране ничего качественного нет и быть не может. Это касается и джинсов, и любой другой одежды. Кроме того – фарцовщики почти все работают и с самым настоящим идеологическим товаром – продают музыку. И в записях, и в пластинках. Представляешь хоть, сколько может стоить пластинка у такого «продавца»?
– Понятия не имею...
– Ну, примерно...
– Рублей десять, наверное...
– Десять... Некоторые альбомы до двухсот рублей доходят, а шестьдесят, пятьдесят рублей – самая ходовая цена.
– И покупают? – удивилась Ольга. – За две сотни?
– Еще как покупают... Причем покупатель в основном подросток.
– Где же они деньги такие берут?
– Вот видишь, сама дошла. А ты говоришь – какая разница... Берут, купят пластинку и записи с нее продают. Ведущие западные ансамбли ежегодно выпускают свои альбомы. Такие пластинки у нас обычно не продаются. И тут как тут гражданин фарцовщик. У них, знаешь, и терминология своя. Они никогда не скажут, что пластинка стоит, скажем, шестьдесят рублей, скажут – шесть, а ноль в уме. Чтобы не шокировать общественность... Теперь представь – купил подросток пластиночку такую, а на ней картинки – там оформлять умеют, другой раз и в конверт плакатик вложат – на картинках много чего... Группа «Кисс», например, наряжается вурдалаками, а последние две буквы «С» пишутся двумя молниями, как на нашивках «СС». Улавливаешь намек? Группа «Квин» рекламировала один свой диск плакатом, на котором тридцать голых девиц на велосипедах. Фарцовщик может и настоящую порнографию предложить, и литературку кой-какую... Для тех, кто стал на этот путь, святого ничего нет...
– И все равно – неужели они стоят таких твоих нервов?
– Сто́ят. Разгром этой нечисти и большего стоит.
Костя заехал в гостиницу на такси, помог снести вещи с этажа, и, сев рядом с водителем, скомандовал:
– Во Внуково.
– Зачем во Внуково? – удивился Агафонов. – Времени достаточно, можно и в городской. Накрутит будь здоров.
– Не считай по мелочи. – Костя обернулся. – Живи шире.
Когда подрулили к аэропорту и вышли из машины, Костя пояснил:
– У меня тут на посадке девочка знакомая, так что шмона не будет, – он кивнул на «пакетец». Костина передача на деле оказалась довольно увесистой коробкой, запеленутой в красивую плотную бумагу.
– В багаж если сдать, не проверяют.
– Эрудицией поражаешь? Ты уж с собой возьми, не поленись.
– Разбиться может?
– Разбиваются только надежды...
Объявили посадку. Механический голос накрыл пространство аэропорта. Агафонов вздрогнул. Костя, заметив это, усмехнулся:
– Не трясись, не бомбу везешь...
Прошла неделя, а за коробкой никто не приходил. Владимир Николаевич начал уже беспокоиться – Костя сказал, что передачу заберут на следующий же день. Поразмыслив, Агафонов решил, что Лиде, Костиной жене, звонить не стоит, а надо поговорить с Равилем. Тот жил на одной с Зуевыми площадке, часто толкался у Кости и мог знать, кому адресована коробка.
Равиль, едва только Агафонов назвал Костю, испуганно перебил:
– У тебя время есть? Встретимся сейчас где-нибудь. Разговор не телефонный.
Владимир Николаевич издалека увидел несуразную фигуру Равиля. Тот тоже заметил – нетерпеливо зашагал навстречу.
– Ты что, ничего не знаешь? – спросил он с ходу.
– Нет. А что случилось? С Костей что?
– Взяли его. – Равиль с каким-то даже сожалением посмотрел на Агафонова. —Под белы ручки... В столицу за ним съездили. К здешним делам московские налипли.
– Какие дела?
Равиль посмотрел уже как на дурака:
– Даешь ты... Скажи еще, что ничего не знаешь. Хотя правильно, так и говори...
– Кому говорить-то?
– Тому, кто спросит. Дяденька в красивой форме позовет и спросит.
– Да объясни ты толком...
– Чего объяснять, старик? Взяли Костю на фарцовке. И валюта там, и порнография...
– Погоди.... – Владимир Николаевич с трудом собрал мысли. – Куда мне девать?.. Коробку Костя со мной передал...
– Давай так. – Равиль встрепенулся: – Меня не впутывай. Мне ни к чему. И не звони, слушай. Я в ваших делах ни с какого боку...
– В чьих это «ваших»?
– В ваших с Костей.
Агафонов опешил.
– Нет у меня никаких дел. Ни с Костей, ни с кем еще... Чего у меня спрашивать?
– Откуда мне знать? Может, как у свидетеля спросят, а может, как у обвиняемого.
– В чем обвиняемого?
– В соучастии, например. Коробочку-то ты привез. Ты хоть представляешь, на сколько твоя коробочка потянет?
У Агафонова потемнело в глазах. Равиль ободряюще потрепал по плечу:
– Не сливай воду, старик. Ситуация твоя, конечно, дырявая. Костя по мелочи не работал, но, может, выцарапаешься. Ума не приложу, зачем тебя он втянул, у него своя связь будь здоров. Хотя, наверное, знал, что делал. Может, чувствовал, что там проколоться может, и решил новый вариант использовать. Ему бы притихнуть на время, но жадность... Фраерочки всегда на этом горят... Ну, пока, пошел я. Обо мне забудь, слышишь?
Агафонов с ненавистью проводил глазами сутулую спину Равиля.
– Побежали крысы, – подумал он. – А Костя хорош... «Новый вариант»... Свинья.
Ничего больше, как идти к Лиде, не оставалось.
Лида открыла дверь, не удивившись, словно виделись они вчера, вяло поздоровалась. Агафонов прошел в комнату и остановился, не узнав ее. Исчез дорогой югославский гарнитур, ковры, книги.
Лида, выслушав Агафонова, покачала головой:
– Извини, Володя, но Костиных дел я не знала и знать не хочу. Кому эта коробка, разбирайся сам.
Тягостно помолчала, потом, видимо, решившись, спросила:
– Ты Нину его видел?
– Какую Нину?
– Жену его новую, как он ее всем представлял. Костя хорошо жить собирался. Нас вот только с Лешкой в виду не имел... Его арестовали утром, подняли вместе с Ниной этой. – Лида рассказывала так, словно речь шла о чужих людях. Видимо, перегорела.
– Костя понимал, что ему грозит. Самые дорогие вещи к Нинкиным родителям переправил. И золото у него было, и бриллианты. Ничего, и их потрясут... И деньги, наверное, у них. Господи! – чуть не закричала она, – пропади они пропадом, деньги эти! Володя, ведь мы с ним и радость знали, ты же помнишь... Сначала ему без лейбла вещи не было, потом без лейбла и человек стал не человек, все по этикетке мерялось. Помнишь, как мы Новый год встречали? Под настоящей елкой. А теперь, если и придет кто, то только за тряпками или дисками, а кто за стол сядет, то злые все, яичницу на каждом жарить можно... Выбрось ты эту коробку.
Осень затянулась. Собственно, время она взяла только свое, зимы не убавила, долгой же показалась потому, что пожалела красы, придержала ее в своих сундуках. Обошлась она и без горького, но такого нужного тепла бабьего лета. Сразу за августом установилась хлипкая пора, небо намокло, зябко и нудно заморосило. Дожди потушили березовый лист, который так и не успел вызолотиться. Захотелось снега, а он все не шел.
Агафонов устал невероятно, так, словно первое сентября отзвенело не два месяца назад, а давным-давно. Утрами он вставал с натугой, на уроках несколько оживал, но домой брел такой же серый и мрачный, как и клонящийся к закату день. Дело было, разумеется, не только в погоде – неожиданно свалившийся на душу груз мог бы потушить самые светозарные летние дни.
Коробку он затолкал на антресоли – от греха подальше. Прошла еще одна неделя. Никто, конечно, не пришел. Просто однажды из газет, вынутых из почтового ящика, выпал конверт с казенным штемпелем вместо адреса. В конверте оказалась повестка. Явиться туда-то, к стольки-то, к тому-то... Как ни странно, снизошло облегчение, но минутное, затем нахлынул страх – Агафонов испугался не судебной или следственной там ошибки, ужасала сама мысль, что предстоит включиться в несвойственное ему, оказаться там, про что даже и читал с неохотой – детективов он не любил. Владимиру Николаевичу казалось, что как только он переступит порог заведения, в которое приглашала повестка, как только будут ему заданы первые вопросы, так он перейдет, по словам Кости, в другой слой, станет как бы человеком совсем иного сорта и вернуться к обычной своей жизни уже не сможет. Вызова к следователю он боялся так же, как боятся, вероятно, чумного барака.
Нужный кабинет Владимир Николаевич нашел на третьем этаже. На двери табличка «Инспектор уголовного розыска Алексеев Николай Михайлович». Хозяин кабинета, неожиданно молодой, симпатичный, в костюме-тройке мышиного цвета, привстал, предложил сесть.
– Агафонов Владимир Николаевич? – уточнил он.
– Да, – в тон ему ответил Агафонов, чувствуя, как не ясная ранее беда сжалась плотным кольцом.
Прошло не менее получаса, прежде чем Агафонов понял, что спрашивают у него, в сущности, самые простые вещи: «Кто бывал у Зуевых?», «Как часто они меняли мебель?», «Записывал ли Зуев в присутствии его, Агафонова, кому-либо музыку?» и тому подобное. Подумал: «Мало на допрос похоже». И тут же одернул себя – откуда знать, как строится тот самый допрос? Может, так и надо – сначала успокоить. И снова сжался, ожидая вопросов про коробку, про Москву. «Знает или нет?» – билась мысль. И тут инспектор спросил:
– Вы в Москву недавно ездили?
– Ездил...
– Зуеву ничего не отвозили?
– Отвозил. Пакет, от его жены.
Ответил и стал лихорадочно соображать: «Зря сказал, теперь спросит, а что из Москвы привез... Ну не врать же в конце концов... Тем более, он, похоже, знает...»
– Что в пакете было?
– Не знаю. Я отдал и ушел...
«Вот и соврал», – поздравил сам себя Агафонов, но рассказывать про Ланьку, про «капусту» было выше сил.
Инспектор сразу утратил интерес, встал, подошел к окну. Долго молчал, потом, словно отвечая самому себе или завершая разговор, который вел внутри себя, сказал:
– За то, что учим доброму, разумному, вечному, деньги получаем. Два раза в месяц сумму прописью... А честность в жизни никто не оплачивает... Тут уж как бог на душу... Фарисейство...
Подошел к столу, взял авторучку.
– Давайте повестку. Отмечу, что были на допросе...
«Допрос все же»... – уточнил про себя Агафонов и протянул Николаю Михайловичу желтую бумажку.
Агафонов вышел во двор и присел на скамейку. Его колотила нервная дрожь.
«Боже, боже мой, – думал он, – так ведь это он про меня, это он меня фарисеем назвал...»
Вспомнилось лицо инспектора. Лицо молодого еще человека, у глаз которого глубокими птичьими лапками залегли морщины. Владимир Николаевич вдруг понял, как устал этот человек, который только что задавал ему вопросы, как устал от необходимости задавать подобные вопросы, видеть и терпеть подлость, трусость, ложь. «А ведь он Костю знает лучше, чем узнал его я за всю свою жизнь», – понял вдруг Агафонов. Он встал, зашагал по улице.
Еще на первом этаже Владимир Николаевич услышал музыку. Катя выскочила навстречу разгоряченная, бросилась на шею:
– Папа, мы Зинки Лусниковой день рождения празднуем. У нее дома родители не разрешают. Можно?
Агафонов кивнул, потрепал дочь по волосам и пошел к себе.
«А Катька куда, если что со мной? – вдруг ошарашила мысль. – В детский дом Катьку? Это у Кости надо спросить, куда он ее предполагал...»
Под утро приснился сон. Огромный японский календарь с нэцкэ. У одной фигурки голова дразнила малиновым языком: «Ты сидел?»
Агафонов проснулся, ощущая тупую боль в сердце. Полежал, успокаиваясь, вернее – в который уже раз пропуская через себя события, разговоры, встречи последних двух недель.
Проводив Катю, Агафонов позвонил в школу, попросил замены, а потом по бумажке набрал еще один номер.
Николай Михайлович звонку не удивился, сказал, что ждет и пропуск закажет. Агафонов вызвал такси – нести коробку по городу он бы не смог.
Дальнейшее происходило, как в кино. Николай Михайлович пригласил понятых. При них открыли коробку и инспектор стал диктовать девушке в лейтенантских погонах:
– Грампластинки производства Великобритании – девять... производства ФРГ – двенадцать; производства Франции – две; компакт-кассеты производства Японии в нарушенной упаковке – сто двадцать... Журналы «Плейбой», коллекционный выпуск – пять... Валюта Соединенных Штатов Америки, купюры достоинством сто долларов – десять...
Николай Михайлович придвинул три сколотых скрепкой листочка.
– Прочитайте и распишитесь.
Агафонов подписал не читая.
– Умно сделали, что сами принесли, – подчеркнул инспектор. – Найди мы все это у вас при обыске...
– При обыске?.. – обомлел Владимир Николаевич.
– А как же. Зуев показал, что последнюю партию из Москвы он с вами передал, даже перечислил все вложенное. У него учет строгий – иначе ни с должников не взыскать, ни с кредиторами рассчитаться, а он большими тысячами ворочал...
Помолчали.
– Я могу идти? – спросил Агафонов.
– Минуточку, – Николай Михайлович достал из ящика стола фотографию и протянул ее Агафонову, – вы этого человека не знаете?
С фотографии нагло улыбался Валерий Михайлович.
– Знаю...
– Где вы его видели?
– На квартире у Зуева, в Москве.
– А этого? – Алексеев протянул еще одну фотографию.
– Этого не знаю... Правда, не знаю, – поспешил заверить Агафонов, заметив некоторое разочарование инспектора.
– Верю. Этот человек не всем показывается, у него, так сказать, и подданство к осторожности обязывает. Можете идти, но вы еще понадобитесь для опознания хотя бы кожаных пиджаков, что в Москве не видели. – Николай Михайлович еле заметно улыбнулся. – И очной ставки с Зуевым вам не миновать. Он утверждает, что Колосов, – инспектор прижал пальцем фотографию Валерия Михайловича, – никогда на квартире у него не бывал. Вы прояснили важную деталь. И в суд вас наверняка вызовут: кто же еще так хорошо Зуева знает? Друг детства как-никак.
Дождавшись, когда Агафонов прикроет за собой дверь, Алексеев набрал номер телефона.
– Алексееву, пожалуйста, – попросил он и, дождавшись, когда жена взяла трубку, изменил голос: – Мне сказали, что по этому телефону может ответить Ольга Алексеевна, самая красивая девушка Сибири и Дальнего Востока.
– Она вас слушает, – поддержала игру Ольга.
– Тогда, возможно, она осчастливит одинокого мужчину и посетит с ним сегодня театр?
– Случайных знакомств не завожу... Ты что это, Коля, серьезно?
– Конечно.
– С чего бы это? Премию получил?
– У меня другой праздник.
– Какой же это?
– Человека нашел. Вернее, нашел он сам себя, но я помог.
Агафонов постоял у подъезда управления, не понимая, что же изменилось вокруг, потом сообразил – посветлело. Наконец-то началась зима.
На клумбах белел первый снежок...
В. Рудин,
писатель
ШУТНИК

Сиверцев молчит.
Он молчит уже целый час – с момента, как его привели ко мне на допрос. И, честно говоря, я не могу понять, что творится в его душе, что прячется за этими неправдоподобно, совсем по-детски, синими глазами.
У Сиверцева огромная кудлатая голова и широченные плечи. Я тоже не маленький, но встретиться с ним один на один в темном переулке не хотел бы... Брови Сиверцева иногда сходятся к переносью, потом нервно взлетают вверх, и снова на лице равнодушие. Почему он избрал такую тактику? Нет, не понимаю.
Дело же для меня совершенно ясное: был пьян, и вчера на глазах у всей Чувашки перевернул на Мрассу лодку с людьми. Запираться нет никакого смысла – слишком много очевидцев. Этого он не может не понимать. Я листаю их показания – вот они, на столе. Целая кипа. Так что деваться Сиверцеву некуда. И весь мой разговор с ним – нудная, пустая формальность. Надо уточнить детали. Как будто они воскресят погибших. Сиверцев был пьян – не протрезвел даже когда его самого выудили из воды. Так вот, надо выяснить, где он напился и когда – до того, как брал пассажиров, или после? Видите ли, это нужно для суда.
Вздыхаю и снова принимаюсь за опостылевший допрос.
– Послушайте, Сиверцев!
Он переводит на меня глаза и молча ждет.
– Где вы взяли пассажиров? В Мысках?
Молчание.
– Вы меня слышите?
Молчание...
Все, кому надо вверх по Мрассу, собираются в Мысках у моста. Так уж издавна повелось. Мост построили в пятьдесят четвертом, когда на восток вели автодорогу. А раньше здесь был паром. Так оно и осталось: хочешь плыть в Тоз, или Мзасс, или в Камешок – иди к мосту. Там к отлогому галечному берегу подлетают лихачи-шорцы на своих длинных узких лодках, на каких их предки промышляли рыбу и сто и двести лет назад. Только теперь на корме лодок бензиновый мотор. Бывает, что и леспромхозовские катера людей берут. Да и лесорубы моторами обзавелись: река-то – единственный путь. Все тут гоняют, а лишний рубль почему бы не перехватить?
Ожидающих было трое: технорук Тозинского участка Базылев – высокий, худой, левая рука на перевязи. Ехал он из больницы и все переживал, что до дому засветло не доберется.
Тут же на двух узлах сидела молодая женщина с пятилетней девочкой на руках, видно, приезжая: и горы вокруг, и зеленоватая вода с плывущими по ней бревнами были ей в диковинку.
Поодаль, у валуна, курил бухгалтер с Камешковского участка Сатушев, шорец лет сорока. Он был спокоен, потому что Камешок – это на полпути до Тоза, и плыть ему всего-то два часа, и уж кто-кто, а он дома будет...
Снизу, от лесобиржи, подошла леспромхозовская лодка и острым длинным носом уперлась в гальку берега. Базылев поднялся и обратился к женщине:
– Садите ребенка. Я хоть и однорукий, но с вашим багажом управлюсь.
– Вот спасибо-то!
Базылев не ожидал, что ее тюк окажется столь тяжелым – повернул к женщине покрасневшее от натуги лицо:
– Ишь, спасибо! Этим не отделаешься!
Бросив тюк в нос лодки, метнулся за вторым, а уложив его скомандовал:
– Давай, Сатушев, пересаживайся к корме! И вы туда же, а я лодку столкну.
Но как ни упирался Базылев, лодка накрепко сидела в гальках. Базылев с досадой спросил моториста, огромного парня с кудлатой головой:
– Багор-то у тебя есть?
– Ну, есть, а что?
– Так помоги, что ли? Видишь, мне не под силу.
– Эх ты, длинный – что с тебя проку? Садись, я сам!
Но тут с моста по откосу сбежал парень в солдатской выгоревшей гимнастерке без погон:
– Эй вы, солдата прихватите!
Базылев и солдат навалились, и лодка, поскрежетав днищем по галькам, пошла. Шагая в лодку, солдат чуть замешкался, зачерпнул воду за голенища сапог.
Моторист дернул шнур раз, другой, третий – лодку медленно сносило к лесобирже, а мотор все молчал. Но вот он судорожно чихнул, окутался сизым дымком и затарахтел.
Вода стремительно несется под вздернутый нос лодки и белой всклокоченной пеной отлетает от кормы к медленно уплывающим берегам. На реке всегда так: если смотреть на воду, так лодка – летит, прямо как самолет. А посмотришь на берега – она вроде и на месте.
Солдат откинулся на тюк, прищурившись, смотрит в небо: там ястреб. Вдруг он резко бросается в пике, и тут же с реки с гомоном и плеском срывается утиная стая. Ястреб взмывает вверх и снова начинает делать круг за кругом.
– Странное все же название у вашего города – Мыски... – Женщина, прижав к груди осоловевшую от жары девочку, осторожно вытягивает занемевшие ноги. – Отчего так назвали?
Базылев – он сидит спиной по ходу, лицом к женщине – откликается:
– Мыски – холмы, значит. Тут в округе места ровного не сыщешь. Здесь прежде шорский улус стоял, Тетенза, а рядом деревушка русская Бородино. Теперь местные остряки шутят: у нас, мол, Мыски, как Москва, только горы наши повыше да Бородино поближе.
Женщина чуть слышно смеется.
– А вы, видать, не здешние? – поворачивается к женщине солдат.
– Нет, из Костромы. Фельдшер я, вот в Тоз с дочкой едем.
– А в тюках-то что? – Базылев машет здоровой рукой за спину.
– Да книги – их только и взяла, остальным, думаю, там обзаведусь.
– Обзаведетесь, конечно, – соглашается Базылев.
Солдат смотрит на славное лицо с чуть курносым носом и как-то чересчур уж безразлично осведомляется:
– Что же одна в такой путь подалась?
Женщина вздыхает:
– Так уж получилось...
– Без мужа, значит? – уточняет солдат.
– Значит, без мужа...
И тут что-то резко бьет лодку по днищу. Накренившись, она черпает воду бортом и тут же выравнивается.
Базылев, инстинктивно вцепившийся здоровой рукой в борт, обрушивается на моториста:
– Ты что, дубина гороховая, не видишь, куда лодку ведешь? Утопить нас хочешь, что ли?
Моторист лениво огрызается:
– Да не бухти ты! Подумаешь, бревно примяли, лодка новенькая, ей эти бревна, что семечки.
– А ну, дыхни! Да ты никак пьян?
– Ну, чего там – пьян! По жидкому плыть да жидкого внутрь не принять – такого закона нет.
– Вот паршивец! Все-таки я тебе завтра дам закон!
– Ты?
– Я!
Молчавший всю дорогу Сатушев неприязненно замечает:
– Ты, Сиверцев, не шибко задирайся, а то и вправду в приказ попадешь.
– Да плевал я на ваши бумажные приказы, понял?!
– Пьешь ты шибко, чужих девок больно любишь, – силы у тебя много, а голова пустая. Зачем такой зряшный человек живет?
– Ну, это тебя не касаемо. Твою бабу же я вроде еще не любил.
Шорец с презрением сплюнул за борт.
– Совсем пустой человек. Ты лучше кончай болтать, чаль лодку к берегу, вон в Камешке мой дом виднеется.
...Взяв с Сатушева рубль, моторист минуту-другую молча смотрел, как шорец по мелкой воде бредет к берегу. Потом повернулся к Базылеву:
– Ну, что, сойдете, что ли? А то ведь я пьяный, утоплю ненароком.
Базылев молчал. Солдат и женщина ожидающе смотрели на него. До Тоза еще километров пятнадцать. Можно, конечно, и пешком, по берегу. Ну, да зачем маяться, да и девчушку мучить. Обойдется, поди. Базылев решился:
– Ладно, заводи мотор, поплыли. Только поосторожней смотри!
Моторист снова закуражился:
– Нет уж, постой. Ты вот законом грозился. А мне сто грамм хлопнуть, что кобелю муху схарчить.
Он рванул из кармана куртки бутылку, зубами выдернул пробку и плеснул в рот мутноватую жидкость.
Базылева взорвало от такой великой наглости, он вскочил и здоровой рукой вышиб бутылку.
Кудлатый моторист было оторопел, потом мотнул головой, медленно поднялся, исподлобья глядя на Базылева. Солдат понял, что дело может кончиться плохо. Он выскочил из лодки и, разбрызгивая воду, бросился к мотористу:
– Ну чего ты завелся? Человек тебе дело говорит, а ты в бутылку!
Кудлатый осоловело осел на корме и, глядя на солдата снизу вверх голубыми глазами, опять забубнил:
– А какое он имеет право? Подумаешь, шишка на ровном месте! Да я ему...
Солдат положил на плечи кудлатого тяжелые руки и сказал вполголоса:
– Не лезь, набью при женщине морду, я самбист, понимаешь? Потом каяться будешь.
Ничего этого я пока не знаю. Это станет известно потом, в конце допроса. А сейчас Сиверцев все еще молчит. И лицо у него по-прежнему совершенно безразличное. И вдруг меня осеняет: не хочет ли он прикинуться этаким дурачком? Как же я сразу не догадался? Конечно, симулирует психическое расстройство. В жизни это иногда бывает: человек от нервного потрясения лишается рассудка. Я смотрю на могучие плечи Сиверцева, на белые пряди, нависшие над бронзовым лбом: то ли прошлогодний загар не сошел, то ли уже новый пристал? А может, это и не загар, а просто кожа такая смуглая от того, что вечно на воде да на воздухе. Мысли же бегут дальше: если психическое расстройство – направляю его на экспертизу, а если он и вправду болен – дело прекращать и в суд, и по суду – на принудительное лечение... А что ему лечение? Разве это наказание?.. Я снова и снова всматриваюсь в безразличное лицо Сиверцева. Взгляд его устремлен куда-то мимо меня. Да нет, не похож он на больного. И молчит зря. Впрочем, теперь я тоже молчу. Мне давно надоела эта бессмысленная карусель: я понимаю, что сегодня от Сиверцева ничего не добьюсь. Так тоже случается: то ли из-за неумения следователя, то ли из-за упрямства допрашиваемого, но бывает...
Ну ладно, сделаем паузу. Напишем-ка пока письмо матери солдата: надо сообщить ей о трагедии. Эта тяжелая обязанность тоже на мне, а Сиверцев пусть пока посидит, подумает.
Я достал из ящика стола документы погибших, разложил на столе. Все отсырело, кроме анодированного портсигара да паспорта женщины: он был завернут в целлофан и перетянут ниткой. Достал часы на сыром ремешке, приложил к уху и услышал мелодичное постукивание. Живет железка, а человека нет... И вспомнилась мне Германия, и ясный июньский день сорок пятого года, услышал стук лопат: под Берлином выкапывали тогда из могилы у немецкой деревушки Дебериц трупы четырех наших танкистов, чтобы перезахоронить их на общее кладбище в Панкове. Танкисты эти нарвались на засаду фаустпатронщиков в один из последних дней войны, второго мая. И когда переносили очередной жиденький дощатый гроб, когда ставили его в грузовик, из щели гроба вдруг посыпались чистенькие, красные тридцатирублевки – танкистам перед Первым мая давали зарплату. И так меня это тогда поразило – пролежали бумажки полтора месяца в земле, а все как новенькие... Старшина неторопливо подобрал их и пачечкой сунул обратно в гроб...
Так ведь то была война!
А здесь? Здесь за что люди погибли?
Негодяй он, этот кудлатый, сволочь и негодяй! И хватит с ним возиться – пора кончать допрос! Я поднял глаза на Сиверцева: он подался вперед и в упор смотрел на стол – на часы, на портсигар...
Лодка, высоко задрав нос с большими буквами «ЛПХ» и цифрой «17», мчалась вверх по реке, к Тозу.
Пассажиры молчали: какие уж тут разговоры, коли на моторе пьяный! Держался, правда, моторист, как ни в чем не бывало, и глаза смотрели обычно, и лицо покраснело в меру. Но солдат остался рядом с кудлатым. Известно же: пьяному море по колено, а лужа по уши! Кто знает, что ему в голову взбредет! Так хоть чтобы рядом с ним быть, – может, мотор перехватить, если что...
Девочка уже выспалась и теперь, сидя подле матери, то и дело опускала ручки в воду и звонко смеялась, когда радужные струйки окатывали ей локоть, а то и плечо.
Солнце ушло вправо, к западу, и только изредка било длинными косыми лучами сквозь мохнатые пихты на верхушках отступивших от реки гор. Весь правый берег за Мзасской скалой был огромной местами заболоченной поймой. Скалы теперь перешагнули через реку и громоздились слева – здесь было глубоко даже летом, когда полая вода уходит и когда Мрассу в иных местах переходят вброд. Скалы здесь отвесно уходили под воду метров на двадцать.
Женщина, запрокинув голову, завороженно смотрела вверх, на сосны, неизвестно как взобравшиеся на уступы скал, на серевший в расселинах снег. Вот уж такого она не видела: в мае – и снег!..
Скалы разом оборвались, отступили от реки, ушли влево; Мрассу разлилась в этом месте широченным полукилометровым плесом, затопила курьи и курьюшки. Базылев – он полулежал на носу, хоть и не смотрел вперед, вдруг весь напрягся: отражатели! Чтобы лес при сплаве не оседал в курьях, слева и справа от берегов наискосок, к середине реки, здесь ставили отражатели, а по-местному – плашкотники: длинные, метров на двести-триста каждая, бревенчатые плети. И если этот пьяный на моторе... Базылев тут же отогнал эту мысль, настолько она была несуразной.
Вот и первый отражатель – лодка прошла метрах в тридцати от конца. Вдоль него бежали веселой гурьбой бревна. Отражатель поднимается над водой сантиметров на десять, но под водой – Базылев это знал – уходит на толщину двух бревен, и если лодка ненароком налетит...
– Так что вы хотите сказать, Сиверцев?
И тут он, оторвав взгляд от моего стола, откликнулся:
– Эх, да разве ж вы поверите? Я ведь не этого хотел, не этого! Если бы я знал! – И он безнадежно махнул лапищей.
– Так чего вы хотели?
Сиверцев, видимо, проглотил застрявший в горле комок – кадык у него дрогнул, – и заговорил торопливо, помогая себе руками, словно боялся, что не успеет договорить:
– Попугать я хотел, того, однорукого! Чтобы не задирался! Думал, тряхну лодку, он с лица побелеет, а я засмеюсь и потом, мол, донимать стану. Где встречу, так и попомню, как он от толчка с лица сменился, а еще меня, мол, взгреть собирался!
Я даже растерялся – настолько это дико звучало.
– И ради этого – все?
– А что? Зачем же он меня при бабе позорил?
– Послушайте, Сиверцев, ведь вы женаты?
– Женат. И дочка тоже есть.
– Вот, вот. А была бы в лодке ваша дочка – тоже бы так пошутили?
Оглянувшись, Базылев увидел набежавшие на косогор дома деревушки Чувашки, до Тоза оставалось совсем немного. Моторист все так же молча заложил вираж: берега стали описывать круг. И вдруг, удар, треск, чей-то вскрик – и все оказались в воде. Просто сидели на скамейках, под ногами было дно лодки, и вдруг его не стало.
Солдат вынырнул сразу, оглянулся – его уже отнесло от отражателя, на который налетела лодка. Рядом плыла белая панамка девочки, и он нырнул туда под панамку, где в зеленоватой мути белело платьице. Рывок, еще рывок – подхватил ребенка и вынырнул – отражатель был теперь уже метрах в ста.
С берега наперерез ему шла лодка, на носу которой стоял с шестом шорец.
– Эй, эй, давай сюда-а! – летело над головой солдата.
Чувствуя, что ноги сводит судорогой – майская вода была нетерпимо ледяной – солдат с девочкой начал грести в сторону лодки. Метрах в тридцати впереди размашистыми саженками плыл кудлатый моторист. Лодка шла к нему, и лишь когда моторист влез в нее, повернула к полузахлебывающемуся солдату – он держался из последних сил.
– Да ты, парень, с ребенком? – удивился шорец. – Чего молчал?
Девочку подхватили, и тут острая боль пронзила поясницу солдата. Он погрузился в воду, прошел под другим отражателем, вынырнул еще раз, опять ушел под воду и поплыл, широко раскинув руки и уже не видя, что немного в стороне несет захлебывающегося Базылева и вцепившуюся мертвой хваткой в его шею женщину...
Я дописал протокол, но Сиверцев его читать не стал:
– Не могу – верите? – не могу. Как девчонку-то откачали, она как закричит: «Мамынька! Мамынька!» До сих пор этот крик слышу.
Я пододвинул к нему протокол. – Подписывать-то надо, Сиверцев!
– Да я вам что хотите подпишу, только бы крика этого не слыхать.
– Эх, сказал бы я вам, Сиверцев, кто вы есть, да жаль, должность не позволяет!
Он криво усмехнулся:
– То ли я сам не знаю? Давайте, где подписывать?








