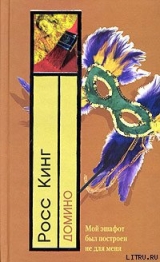
Текст книги "Домино"
Автор книги: Росс Кинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
В третий полдень путешественников постигло несчастье. Один из паломников, старик по имени Джунтоли, указал на пещеру, которая слыла убежищем прекрасной королевы разбойников: она располагалась на дне глубокого ущелья, заросшего дикой спаржей, подлеском и молодыми каштанами. Однако навстречу им попалась не королева, а другие представители ее ремесла – не такие прославленные, но не менее свирепые. В самое жаркое время дня паломники остановились под сенью ореховых деревьев и каштанов, чтобы подкрепиться сыром и сушеными смоквами. И тут на узкой тропе, в какую превратилась к тому времени Виа-Романа, показались трое разбойников. Один из них разрядил в воздух пистолет. Престарелая вдовица в покрывале свалилась в обморок посреди розовых кустов, откуда по крутому откосу скатилась в реку. Другие паломники под угрозой оружия были вынуждены открыть корзинки и кошельки из телячьей кожи и расстаться со своими жалкими ценностями: несколькими дукатами и римскими монетами, потускневшей цепью, выщербленным кубком, горсточкой старой bijouterie[16]16
Бижутерия, ювелирные украшения (фр. ).
[Закрыть], часами на сломанной цепочке, тремя серебряными ложками и несколькими убогими сувенирами. Это были сплошь бедные люди.
Не имея за душой и того, мальчик, в ответ на грубые окрики одного из троицы, вынул оловянную фигурку святого Оронция, которую в последнюю минуту сунул ему отец Антонио. Безделушка тут же полетела в реку, а ее владелец получил удар по макушке.
Когда Тристано очнулся, никого – ни разбойников, ни их добычи, ни паломников, ни мулов, ни даже престарелой вдовицы в покрывале – не было видно, и тени вязов достигали уже противоположного берега реки.
Первыми он заметил мулов – всех, кроме его собственного; они стояли за первым поворотом тропы, на обочине, объедали чертополох и ракиту и послушно ждали приказаний. Они могли бы ждать вечно, потому что паломники, за исключением только вдовы (которая, вероятно, утонула, унесенная на глубину), лежали тут же, раскинув руки и ноги, и не шевелились, а во лбу у каждого зияла аккуратная дырка от пули. Глаза Джунтоли выкатились из орбит, рот был разинут, окоченевший язык вывалился наружу, словно старик готовился причаститься облаткой.
Мальчик сломя голову кинулся прочь и бежал неизвестно сколько, пока не рухнул в изнеможении, исхлестанный ракитой и исколотый можжевельником. В прохладный утренний час он поднял веки, и что же открылось его взору? Белые соборы и яркие павильоны, чередование карминной и ржаво-рыжей черепицы крыш, высокие шпили, вонзавшиеся в пронзительно-голубое небо, тысячи окон, в которых дробились рассветные лучи. А на дальнем плане – синяя бухта, стая дельфинов и рыболовы с сачками в руках…
Глава 8
– Обитель мира и безопасности, – проговорил я с надеждой.
– Скоро увидите, – отозвалась леди Боклер. Она потянулась и впервые за последние четверть часа подняла на меня глаза. – А теперь, мистер Котли, я хотела бы знать, как продвигается мой портрет…
– Весьма неплохо, – заверил я, хотя по правде отвлекся и работал очень медленно.
До сих пор я успел только нанести грунт из иссиня-черной, серой и белой красок. Пигменты я развел скипидаром из аптечной банки и нанес тонким слоем на верхнюю половину холста, который тут же впитал состав и высох. Затем я сосредоточился на наброске головы, используя более густую смесь красок – карминной и снова белой; каждую я смешал с воском, растворенным в скипидаре. Далее олифа, желтый лак, еще кармин, еще белая краска, все смешанное с воском; и последним на это загадочное облако (честно говоря, пока что – лицо вообще, но никак не овальное лицо миледи) лег слой льняного масла.
– Почему вы остановились, мистер Котли?
– Жду, пока подсохнет краска, – отвечал я, дуя на холст, отчего у меня слегка закружилась голова.
– А откуда, позвольте спросить, этот неприятный запах?
– Скипидар. – Я ополоснул кисть в банке, где содержалась эта субстанция, не любимая никем, кроме художников, – Скипидар, воск, бальзамин и канифоль.
– Вонь от вашей стряпни ужасная. Наверное, портретисту вечно приходится иметь дело с грязью и дурным запахом?
Увы, подтвердились мои подозрения: миледи оказалась не самой удобной моделью. Большую часть трудностей порождал ее турецкий наряд. Он все время сползал и в таком виде отвлекал мое внимание больше, чем рассказ, а кроме того, лишал силы руку, державшую кисть, так что последняя скакала над холстом, словно регистрируя толчки отдаленного землетрясения. Я слышал истории о том, как покойный мистер Хогарт в своей превосходной Академии на Сент-Мартинз-лейн вел занятия «жизненной школы»: джентльмен или леди, получив гинею, сбрасывали платье и позировали на столе, изображая Ахилла или Венеру. Увлекшись повествованием, леди Боклер забывала следить за своим туалетом, и раз или два мне едва не выпали те же преимущества, что и его учащимся, однако в самую последнюю минуту она всегда возвращала рукав и decolletage[17]17
Обнажение шеи, плеч (фр. ).
[Закрыть] на положенное место.
Однако затруднения, связанные с турецким костюмом, этим не исчерпывались. Я опасался, что передача ультрамариновых складок обойдется мне недешево, так как мистер Миддлтон, торговец красками с Сент-Мартинз-лейн, брал за унцию этого пигмента по пять гиней; даже менее ценная ультрамариновая зола обошлась бы по 25 шиллингов, а самый дешевый пигмент нужного оттенка, сделанный из меди «синий вердитер», как я уже убедился, через месяц из синего становился ярко-зеленым. (К несчастью, экономия на пигментах погубила несколько моих пейзажей – хотя тем большим успехом они пользовались у маленьких Шарпов, для которых Аппер-Баклинг сделался волшебной страной с реками цвета абсента и сочно-зелеными небесами.) Я начал раскаиваться, что слишком легко отступился от мантуанского платья с лилиями, сущей находки для моего кошелька.
В то же время вопрос о фоне решился проще, чем я ожидал, поскольку моя идея заключалась в том, чтобы окружить миледи темнотой (каковая и в самом деле воцарилась, после того как мадам Шапюи, квартирохозяйка, прежде чем удалиться с устрицами, дынями и многоярусным блюдом, потушила, по распоряжению леди Боклер, часть свечей). Я решил, что, во вкусе мистера Джозефа из Дерби, ограничусь одной свечой – той самой, неверный огонек которой кланялся, приплясывал и вился на пристенном столике, весь во власти сквозняков, проникавших через освинцованные оконные панели. Я вознамерился также наименовать мою картину «Дама при свете свечи с веером, одетая в турецком вкусе». Или, если луна соизволит выйти из-за барочной колокольни Сент-Джайлз-ин-зе-Филдз и проглянуть сквозь свой туманный покров, то – «Дама при лунном свете», и т. д. Когда я поделился своими планами с леди Боклер, она предложила название «Дама в полночь», чему я воспротивился, поскольку усмотрел в нем побочный смысл, несколько расходящийся с возвышенными моральными принципами, каковым служили мои кисть и карандаш; да и упомянутый ею час, так или иначе, еще не наступил.
Еще большие затруднения причиняли жесты леди Боклер, когда она, по ходу рассказа, вместо того, чтобы выдерживать заданную величественную позу, начинала изображать то пьяного священника, то возмущенных пилигримов, то выводящего трели Тристано, то убитого Джунтоли (при этом забывая о платье, которое соскальзывало все ниже). Все эти роли она исполняла не хуже любой актрисы из «Друри-Лейн». Она, по-видимому, обладала незаурядным талантом к подражанию и ей ничего не стоило представить кого угодно. В кульминационные моменты повествования леди Боклер становилось совсем уже не до портрета (и не до платья), и мне приходилось просить, чтобы она вернулась в предписанную позицию.
– Миледи, – часто говорил я, складывая ладони на бедре и поворачивая голову (нескладная имитация нужной позы), – вы забыли?..
– Простите, простите. Да, да… так о чем это я? Ага…
Сверх того, каждые десять минут она желала посмотреть портрет и почти так же часто жаловалась (подобно маленьким Шарпам) на затекшую шею или спину. Еще более неуместную помеху представлял черепаховый веер леди Боклер, которым она снова начала обмахиваться: он то и дело заслонял неверный огонек свечи, полностью погружая лицо в тень. Как добиться сходства, если все, что я вижу, – глубокая тень и «Похищение Ганимеда»? Мне уже было понятно, что, как бы я ни старался, добавляя кармин, несколько темных асфальтовых пятен и желтый гуммигут для пламени свечи, сходство перестало мне даваться. Изображение на холсте, пусть неоконченное, едва ли походило на леди, которая передо мной стояла, или, скорее, сидела, или все же стояла, меж тем как руки ее махали как крылья, а костюм все больше соскальзывал с плеч. А если я при таких помехах напишу портрет вроде тех, что имеются в трактате месье Лебрена, подменив изысканно-красивое лицо моей модели головой орла или совы или мордой тигрицы?
– Пожалуйста, миледи…
– Ах да, конечно, простите меня. Я совсем забылась. Ну вот… так о чем это я?
Мне стало казаться, что я существенно облегчил бы свою задачу, если бы вместо непоседливой рассказчицы сосредоточил внимание чуть левее, на гравированном изображении, таком рельефном и таком покорном. Я ведь говорил уже выше, что и поза, и костюм леди Боклер в точности повторяли те, что были изображены на гравюре. И вот, когда миледи несколько раз подряд пропускала мимо ушей мои замечания относительно веера и позы (точнее, упускала из памяти через секунду-другую), я перевел взгляд на картину и, как в доме на Сент-Джеймской площади, задумался о том, кто была эта столь необычная модель. В немногих доступных моему зрению деталях прослеживалось, как будто, сходство в лице между нею и леди Боклер, хотя я мог и ошибаться – поскольку повторялись поза и костюм. Возникали и другие вопросы: к примеру, при каких обстоятельствах сэр Эндимион сделал гравюру, он сам или другой художник исполнил оригинал и что объединяло его, модель картины и леди Боклер. Ответов я не находил, однако в стоявшей на пристенном столике гравюре усмотрел свидетельство того, что миледи действительно являлась родственницей лорда У***, порождением большого и благородного фамильного древа, экзотическим цветком, распустившимся, как я предположил, на одной из его верхних, тонких ветвей, – и эта мысль доставила мне Удовольствие. Портрет дамы из его семейства неминуемо должен был вызывать одобрение лорда У***, а со временем – кто знает? – даже обрести место в фамильной галерее, рядом с круглощекими джентльменами, обладателями кривых сабель и насупленных бровей.
Я собирался было осведомиться относительно меццо-тинто работы сэра Эндимиона, а также справиться о его таинственном оригинале, но меня остановил внезапно налетевший сквозняк. Он с особо яростным дребезжанием просочился в щели оконного переплета и загасил единственную свечу, оставив нас в темноте более глубокой, чем рассчитывала миледи, когда отдавала распоряжения мадам Шапюи, и чем требовалось для моей работы. В таких условиях было бы в самый раз проверить теорию Пинторпа о свече и обоях, но алые рельефные обои в комнате леди Боклер, к сожалению, погрузились в сплошной мрак. Тьма наступила настолько непроглядная, что я не различал даже собственную поднесенную к лицу руку, не говоря уже о модели, которая как ни в чем не бывало продолжала свой рассказ.
– Три года, – повествовала она, – три года Тристано провел в conservatorio[18]18
Консерватория (ит. ).
[Закрыть], прежде чем синьор Пьоцци…
– Если позволите, миледи, – проговорил я, убедившись, что она и пальцем о палец не ударит, дабы рассеять тьму, – без света мне не написать портрет. Нет ли у вас кремня?
– Прошу прощения? А! Ну да… Мне кажется, где-то около меня есть свеча, – прозвучал из темноты ее голос – Если вы будете так добры взять огоньку у мадам Шапюи в чулане при кухне…
– Похоже, мне ее не найти, – пробормотал я в заключение краткой рекогносцировки, после того как оцарапал себе голень о ножку стола и натолкнулся на невидимый стул. Я взвыл от боли, но, поднявшись на ноги, попытался сохранить бодрость духа.
– Этот стол, – объявил я, потирая себе голень, – убедительно опровергает теорию епископа Беркли, согласно которой esse estpercipi, то есть «существовать – значит быть воспринимаемым». Я не вижу перед собой стола, но, стукнувшись об него ногой, убеждаюсь, что он существует.
– И еще пример, – произнесла миледи игривым голосом (судя по всему, она не принимала всерьез своеобразные взгляды епископа и его ученика Пинторпа на материальную субстанцию), – восковая свеча. Существует ли она? Я вот знаю, что она где-то здесь…
Вновь принявшись за поиски, я уронил на пол еще один невидимый предмет, поменьше стола или стула; послышался звон бьющегося стекла.
– Боже, – воскликнул я в отчаянии, понимая, что это происшествие куда серьезней, чем падение моего пирожка по соседству с башмаком сэра Джеймса Клаттербака. – О Боже! Миледи, умоляю, простите…
Однако леди Боклер, казалось, не озаботилась потерей неизвестного предмета обстановки; торжествующим голосом она объявила, что свеча нашлась.
– Ну вот, так я и думала: свеча существует. А теперь, мистер Котли, если вы подойдете сюда, вы сможете убедиться, что существую я.
Опасаясь невидимых стульев и других препятствий, я ковылял в темноте, а под моими каблуками скрипели осколки и черепки предмета, который я неосторожно смахнул локтем с пристенного столика. Но у окна, где позировала леди Боклер (я мог бы поклясться, что она стояла именно там), ее больше не было.
– Пожалуйста, миледи, свеча…
– Сюда, – позвал ее голос, казалось, с другого конца комнаты, – сюда, ближе, мистер Котли.
Я повернулся и, как собака, пошел на ее голос; вновь у меня под каблуками затрещали обломки, вновь я стукнулся голенью о ножку стола и с криком снова растянулся на его поверхности.
– Я жду, мистер Котли. – На сей раз голос раздался где-то у двери. – Сюда, мистер Котли. В чем дело? Не можете меня найти? Выходит, ваш епископ все-таки прав: мы существуем, только когда нас кто-то видит? Иного существования нам не дано? Как и весь остальной мир, мы не более чем чьи-то сны и фантазии?
Я, как вы можете себе представить, не испытывал особой склонности философствовать, тем более что как раз вляпался рукой в свою картину, где асфальтовые пятна еще далеко не высохли.
– Где вы, миледи? – вопросил я, вытирая руку платком и поглаживая ноющую голень. – Пожалуйста… довольно шуток.
Едва я выговорил эти слова, как ощутил, что миледи находится рядом, – сквозь вонь скипидара моих ноздрей достиг тонкий аромат одеколона, которым она пользовалась. Еще через мгновение по моей руке скользнул шелк, белизна которого представилась моим глазам как мягкое облако, плывущее в небе ветреной ночью. Но этим мои ощущения не ограничились, поскольку моего живота коснулась невидимая рука, а ухо овеяло легким дыханием. Затем по моей щеке невесомо прошлись губы и – о! – язык, а еще через миг из-за разбитой на фрагменты колокольни Сент-Джайлз-ин-зе-Филдз выплыл диск луны. Я видел теперь глаза, в нескольких дюймах от моих, и левое плечо: белоснежный выступ, оголенный еще откровеннее, чем прежде.
– Не бойтесь. Я здесь, мистер Котли. Не бойтесь: я существую.
– Свеча, – произнес я, а пара глаз приблизилась, выросла, одеколон благоухал, как языческие курения; и глубоко у меня в животе приподняла голову покоившуюся на влажных тяжелых кольцах древняя змея.
– Скорее, миледи… я должен зажечь свечу. Поторопитесь… пока не высохли мои краски…
– Три года, – повторила леди Боклер немного погодя, когда я, ковыляя, взобрался обратно по лестнице с огоньком и запалил потухшую свечу. По лицу миледи невозможно было догадаться о недавно происшедшем; она вновь самозабвенно увлеклась рассказом. – Три года – вот сколько Тристано провел в conservatorio, прежде чем синьор Пьоцци счел его сопрано подготовленным для выступления в Королевской капелле, а затем в Театро делле Даме в Риме. А позднее Тристано повезли в маленький городишко… но простите, я забегаю вперед.
Глава 9
Три долгих года Тристано пробуждался каждое утро от медоточивых призывов ангелюса и, натянув стихарь поверх фланелевой детской юбочки, семенил по холодным каменным ступеням вниз, взывать к святым, то и дело получая тычки под ребра от толпы остальных figlioli[19]19
Мальчики (ит. ).
[Закрыть], то есть учащихся. Три года занятий музыкой: выработка слуха, контрапункт, сочинение, грамота и нотная грамота с мелом у выщербленной cartella[20]20
Ученическая доска (ит. ).
[Закрыть]. Три года скрипки, цимбал, клавесина, гобоя, лютни и фагота. Три года дуэтов и ансамблей, вечерен по субботам, Страстей в Страстную неделю, сбора пожертвований в дни празднеств, изучения Грациани, Каццати, Питони, Вивальди…
Но прежде всего эти три года он пел – учился владеть самым сложным и прекрасным из музыкальных инструментов: человеческим голосом. Ибо, как объявил ученикам синьор Пьоцци, человеческий голос – инструмент величайший и превосходнейший, образец, которому подражают все прочие. Человек не создает его, а всего лишь более или менее неумело пытается им пользоваться, – это дар, врученный Господом первейшей среди тварей земных, дабы выделить ее из всех прочих.
– Я хочу, чтобы во время пения, – твердил маэстро figlioli, — вы стремились с благодарностью возносить свои голоса Творцу. Думайте о том, как они парят в воздухе, несомые к Нему на крыльях ангелов.
Синьор Пьоцци обычно имел в виду и более точный адрес, откуда долженствовали взлетать к небесам на ангельских крылах голоса его лучших учеников, – Королевскую капеллу, например, подмостки Театро Сан Бартоломео или, на худой конец, залы герцогских и княжеских дворцов; тем они являли не только благодарность Творцу, но и вполне осязаемую благодарность самому синьору Пьоцци, скромному регенту, которому, согласно договоренности, причиталось десять дукатов и два карлини за каждое выступление. Ибо маэстро содержал отнюдь не благотворительное заведение: он должен был кормить тридцать с лишним ртов, ремонтировать или покупать заново скрипки и корнеты, платить жалованье работникам и налоги, приобретать свечи и уголь, а кроме того, овес и солому для двух лошадок. В последние годы ему приходилось строго экономить, так как неаполитанские conservatori — Сант Онофрио, Санта Мария ди Лорето, Повери ди Джезу Кристо и прочие – числом едва не сравнялись с театрами, капеллами и аристократами, готовыми выложить по десять дукатов и два карлини за выступление. И это без учета частных преподавателей пения, под чьим крылом подрастали все новые и новые юные таланты. Чтобы покрывать издержки, маэстро был вынужден завести аптекарский огород и – затея не столь прибыльная, но амбициозная – сочинять оперы, каковых пока насчитывалось одиннадцать. Он надеялся, что со временем их поставят в Театро Сан Бартоломео, однако до той поры, пока недалекие импресарио сумеют распознать выдающиеся достоинства этих сочинений, других источников дохода, кроме детских голосов, а также фенхеля и душицы с огорода, не предвиделось.
Итак, Тристано пел. Три года под придирчивым руководством синьора Пьоцци – его резкие окрики и взмахи дирижерской палочки, истерики и выговоры, его лицо (с годами оно все более напоминало жирненький поросячий окорок), багровевшее, когда он подвергал сомнению музыкальные способности какого-нибудь заплаканного сироты или грозил еще одному изгнанием из школы. Три года Тристано разучивал трели, рулады, портаменто, арпеджио, gorgheggi[21]21
Горловые трели (ит. ).
[Закрыть], passaggi[22]22
Пассажи (ит. ).
[Закрыть], messa di voce[23]23
Вокальное упражнение, состоящее в постепенном усилении и ослаблении голоса на одной и той же ноте (ит. ).
[Закрыть] от начала и до конца. Gorgheggi? Jo есть трепетание голоса – волшебные звуки серебряных молоточков, которые ударяют по пульсирующим миндалинам. Passagi? Смена регистра, постепенный подъем голоса до высот фальцета, головокружительных, затянутых паутиной пиков, куда редко кто-либо досягает. Messa di voce — от пианиссимо к фортиссимо и обратно на одном вдохе. Итак, три года он учился извлекать эхо из резонаторов (полостей) в собственной голове: dans к masque[24]24
В маске (фр. ).
[Закрыть], как говорят французы. Упражнял небо, язык, щеки, губы, легкие; учился задерживать дыхание на шестьдесят, семьдесят, восемьдесят счетов; пел ариетты перед зеркалом в полный рост, набрав под язык гальки, раздувая щеки…
Тяжкий труд? Да, да – но много было и другой, совсем непохожей на эту работы: орудовать щеткой, наводить глянец, подметать, чистить овощи, крошить, пропалывать… и так до последнего ангелюса когда он возвращался в крохотную комнатку (на пятерых мальчиков), где горела масляная лампа. Ибо синьор Пьоцци требовал, чтобы его маленькие подопечные отрабатывали свое содержание либо в conservatorio, либо на сцене. Голосами они были подобны ангелам, но во всем прочем оставались простыми смертными: нуждались в хлебе насущном и крыше над головой, замусоливали грязными пальцами лютни и балюстрады, следили мокрой обувью в коридорах и музыкальных комнатах.
Поручение следовало за поручением: натаскать, к примеру, воды из колодца на площади или принести из подвала корзины с углем. Подмести двор и у porte-cochere[25]25
Ворота (фр. ).
[Закрыть], увертываясь от колотушек здешних обитателей – нищих. Под низко нависшими кухонными балками разливать по бутылкам желе, крошить петрушку, портулак, цуккини, анчоусы; нарезать груши и лимоны, раскрывать устрицы. Сворачивать головы цыплятам, чистить скатов, мерлангов, камбалу, форель. Пропалывать огород и грузить навоз на тележку. А потом выбивать коврики, стирать и гладить одежду и постельное белье; канифолить смычки, полировать марлей столики, зеркала и cassoni[26]26
Лари для муки (ит. ).
[Закрыть], а также потиры, колки и лоснящиеся бока виолончелей, мандолин, золотых корнетов, клавикордов и тромбонов, на выпуклых и вогнутых поверхностях которых сменяли друг друга причудливо искаженные образы музыкальной комнаты. Покончив с этим, приходилось браться за более тяжелую уборку: скрести и начищать полы, ступени, окна, ночные горшки, плиты прихожей, железную решетку перед домом, часы, серебро, фарфор, кубки и деревянные ложки, медные принадлежности в капелле, графины и медные горшки, которые маячили сквозь пар в чулане для мытья посуды при кухне, подвешенные на крючках рядом с чесноком и сушеными смоквами.
Что еще сохранилось у него в памяти с тех лет? Разумеется, его сотоварищи: их шалости, болтовня, запах, вши, их жадность до удовольствий, прыщавые мордочки и такие же зады, но прежде всего – их постоянное и бесконечное присутствие, от которого негде было спрятаться. Тристано спал, пробуждался, утолял голод, молился, пел, смеялся, плакал, мылся, даже справлял нужду в компании этих незаконных отпрысков и сирот, собранных со всего королевства, а то и из более отдаленных краев – из безвестных королевств, герцогств и крохотных княжеств, дороги, фермы и деревни которых были теперь так же покинуты, далеки и недоступны воображению, как его прежние родные места. Джироламо, Марко, Пьетро, Даниеле, Джоаккино, Джузеппе Мария, маленький бездельник Фаринелло… Что сталось с ними со всеми? Несмотря на вынужденное тесное общение, он, покинув conservatorio, вскоре забыл имена и лица, планы и надежды большинства из них.
Всех, кроме одного – большого Шипио. В школе хватало неприятностей: суровый режим, сквозняки, проникавшие через окна, тонкие одеяла и холодные ночи, бесконечная возня с метлой, вилами, ведрами – но хуже всего был, конечно, Шипио, или «Пьоццино», как его обычно именовали из уважения к маэстро.
Итак, три года рядом с Пьоццино – это было самое худшее.
Может, вы слышали о Пьоццино: он пел как-то на английской сцене? Нет? Тогда не помешает кое-что пояснить. Еще не видев Пьоццино и не слышав его прославленного голоса, Тристано немало узнал об этом юном сопрано от других учеников. Шипио удостоился лучшего жилья, чем большинство его собратьев: теплой комнаты с отдельной лестницей и видом на мощенную плитами площадь, а кроме того, ему прислуживала горничная. В качестве особой милости он был освобожден от самых черных работ в кухне и чулане для мытья посуды. Согласно еще одному правилу, Шипио обычно не вставал по утрам к молитве; а еще его, пустившегося в тайные приключения, частенько не заставал дома вечерний ангелюс, и старый привратник, который на закате запирал ворота, должен был покидать свою мрачную комнатку, заслышав раздраженные окрики и проклятия юного виртуоза.
Сами по себе эти привилегии не задевали других учеников. Верно, Шипио вызывал у них глубокую ненависть – кое-кто из детей охотно бы его убил, недоставало только храбрости и удобного случая, – но объяснялась она отнюдь не тем, что ему не приходилось по утрам опорожнять горшки или коленопреклоненно возносить молитвы. Ненависть эта порождалась страхом, а вернее – ужасом. Поскольку приключений Шипио искал не только за воротами школы, но, не реже, и в ее стенах. Среди многого прочего ему, по-видимому, разрешалось подвергать своих соучеников разнообразным жестоким пыткам. Были среди последних и словесные, относительно безобидные (передразнивание дефектов речи или Диалекта, сочинение позорных сплетен), и более изощренные, причинявшие не только душевные, но и телесные муки. Он запускал в постель или под стихарь зазевавшегося мальчугана ядовитых пауков; Других, не столь опасных насекомых он имел обыкновение запихивать в рот своей извивающейся жертвы, слишком слабой, чтобы вырваться, предварительно зажав ей нос. Кого-то он запирал на ночь в погребе, где особенно любил развлекаться, в компании с другими, добровольными узниками: десятком или двумя крыс. Малолеток он уговаривал, бывало, посулив им несколько скудо (разумеется, обещанных денег никто из них не дождался), поцеловать в морду крысу или ящерицу (животное частенько кусало их в ответ) или затеять под лестницей гладиаторское сражение, результатом которого становились расквашенные носы и расцарапанные лица. Чтобы ублажить эксцентричные вкусы Шипио, не всегда хватало крови и слез его малолетних собратьев, и тогда он брался за низших представителей природы, которых в изобилии содержал в темных и сырых уголках школы. Его большая и удобная комната превращалась в запятнанный кровью анатомический театр, куда любопытные ученики допускались за умеренную плату на вечерний сеанс. Он отрывал одну за другой ножки у лягушки или ящерицы и скармливал их толстой черной гадюке, которую держал в чулане для сушки белья, а затем, наскучив мучениями покалеченного животного, отправлял следом и его самого. Временами он обращал мысли к юриспруденции, и комната становилась залом суда. Не реже чем раз в две недели туда доставлялась из темного гнездышка в погребе очередная крыса, чтобы держать ответ по какому-нибудь причудливому обвинению, неизменно признавалась виновной и приговаривалась (Шипио любил воздавать по справедливости) к удушению в закупоренной бутылке (казнь иной раз длилась добрых полмесяца или больше), к виселице, к скармливанию все той же ненасытной гадюке или к приему нескольких капель дурно пахнущей жидкости, которая, как уверял Шипио, являлась ядом, приготовленным по рецепту инквизиторов. Так или иначе, крыса заваливалась набок, начинала сучить ножками и отправлялась на тот свет в мучительных корчах, как заправский еретик.
Как жертвам, так и испуганным свидетелям не было никакого смысла взывать к власти в лице синьора Пьоцци: он хоть и любил обрушивать на головы учащихся гневные проклятия, но Шипио не наказывал никогда. Он был глух ко всяким обвинениям в адрес мальчика. Не имевший потомства, он относился к Шипио как к сыну, а кроме того, видел в нем обильный источник дохода, будущую поддержку на старости лет. Разговорившись (с ним это случалось редко), синьор Пьоцци обыкновенно предрекал, что через несколько лет Пьоццино начнет зарабатывать свыше трех тысяч дукатов в год – и, конечно же, вспомнит о своем старом учителе. И уж тогда все одиннадцать опер увидят свет рампы!
Однако синьор Пьоцци не знал о Шипио того, что знали другие ученики. Маленький негодяй часто разглагольствовал о том, что расстался бы с жирным уродом хоть сейчас, если бы не контракт, который сдуру подписал при поступлении в школу; но едва истечет срок проклятого контракта – только его здесь и видели!
– И выброшу вас, гаденышей, из головы, – неизменно добавлял он в конце, причем слушателей такая перспектива не особенно огорчала.
Тристано встретил это маленькое чудовище на второй или третий день после своего приезда, а новоприбывшие ученики бывали особенно беззащитны перед его жестокими выходками.
– Деревенщина! – припечатал он Тристано, увидев его впервые после утрени. Шипио стоял на каменной лестнице. Вместо знаменитого сопрано, чаровавшего недавно собрание верующих в храме Мадонны ди Лорето в Риме, Тристано услышал безобразный визг:
– Дубина стоеросовая! Не вздумай наследить своими погаными лапами на моей лестнице!
Эта ругань могла продолжаться бесконечно (Тристано будто бы вступает в любовные сношения с козлиным племенем, а его мать всячески ублажает извращенные запросы турецких солдат в борделе Апулии), но тут у подножия лестницы началась суматоха. Круглолицый органист, почти такой же толстый, как синьор Пьоцци, бегом нес вверх по ступеням одного из figlioli, мальчика по имени Кончетто. Тот был бледен и напуган, нижняя часть живота и правое бедро были залиты кровью.
– Идиоты! – вопил где-то внизу синьор Пьоцци. – Какого черта было так быстро отсылать его назад? В последний раз! Идиоты! В последний раз, я говорю!
Шипио отступил, пропуская органиста, и по его лицу скользнула ухмылка.
– Кончетто, – крикнул он вслед мальчику, скаля зубы на манер ящерицы, – ты скоро поправишься! Правда, Джулия?
Рядом с ним на лестнице появилась горничная. Эта девчушка лет пятнадцати, вместе со многими figlioli, была предана Шипио, как бы дурно он с ней ни обходился. Собственно, у него не было более верной сторонницы: она часто бывала в комнате Шипио, да и его самого неоднократно видели на узкой лестнице, которая вела в ее крохотную чердачную каморку.
Джулия хихикнула в знак согласия, а затем они оба направились наверх (Шипио похлопывал по вихлявшемуся заду девушки). Еще некоторое время звучали смешки и шарканье ног, потом где-то в верхнем этаже тяжело хлопнула дверь.
Пострадавшего мальчика внесли в комнату, которую Тристано делил с еще четырьмя соучениками, и уложили на шестой тюфяк; дышал он неровно, со стонами. Здесь он пролежал почти двое суток, с присвистом хлебая холодный суп, который приносила ему из кухни ухмылявшаяся Джулия; время от времени его навещал тощий медик, мрачная физиономия которого выдавала привычку иметь дело с несчастьями, и щупал пульс. Во время одного из таких визитов, когда в комнате появился синьор Пьоцци (и сделалось темно, потому что он заслонил собой свечу), Тристано был изгнан наружу и, подслушивая у полуоткрытой двери, различил серьезный голос медика: «очень щекотливые обстоятельства… доктор в Болонье… полная потеря… церковные законы… увечье… настоящий скандал… конечно, понимаю… нелегкий компромисс…».








