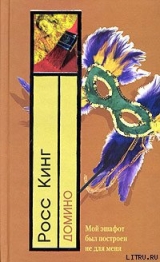
Текст книги "Домино"
Автор книги: Росс Кинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
– Ну вот, – проговорил он, – надень, Элинора. На этот раз ты будешь Богиней Свободы. Поторопись! – скомандовал он, видя, что она не двигается с места. – Котли, – обратился он ко мне, – мой рабочий халат, краски. Да… живо, живо! У нас еще полно работы! Живо!
– Да, сэр, сию минуту, сэр! – Я открыл коробку с красками, помог мастеру просунуть голову в узкое отверстие гессенского халата и подумал, что говорю точно как Джеремая.
Глава 17
Позднее я сидел у своего очага и размышлял над письмом. Под рукой у меня стоял стакан портвейна. Я только что отвел глаза от витрин лавок на той стороне улицы – там играло отражение багровых солнечных лучей, пока до него не дотянулся своей листвой лес теней, вставший у сточной канавы, и не поглотил его вместе с окнами. На мне была холщовая рубашка с гофрированным воротником и манжетами и муаровый камзол. Позади, на полу, белые кляксы указывали, где Сэмюэл Шарп-младший недавно пудрил мой парик. Поблизости стояла коробка с красками, «Дама при свете свечи» и пара башмаков с пряжками, которые мне одолжил Топпи, а Сэмюэл тщательно наваксил. Вечером я должен был нанести очередной визит леди Боклер.
Вернее, визит предполагался, но в письме, написанном витиеватым почерком на кремовой бумаге, дважды сложенном и запечатанном облаткой, сообщалось, что леди Боклер не сможет сегодня со мною встретиться. Новость меня ошеломила, и приятная картина: леди Боклер подносит к губам облатку и смачивает ее языком – быстро покинула мое воображение.
Что, если ей не понравилось, как я вел себя в предыдущий вечер, если ее обидели мои подозрения? Может, она не хочет меня больше видеть? Не говорит ли это – очень короткое – письмо о том, что наше знакомство разорвано?
– Сэмюэл, – обратился я к юному Меркурию, испуганно вертя в руках послание, которое он мне только что принес, – скажи-ка, кто дал тебе это письмо?
– Джентльмен, постучавший в дверь, – отозвался Сэмюэл, который на время болезни Джеремаи взял на себя часть его обязанностей. Он был старше Джеремаи меньше чем на год и не стремился стать при мне слугой, а метил выше – в живописцы. Это был стеснительный, поминутно красневший парнишка, которого безмерно интересовало все, что связано с рисунком и живописью. Он не уставал восхищаться моими карандашными набросками, а еще более тем, как, словно по мановению волшебной палочки, возникал на полотне образ леди Боклер. Я подозревал, что он потихоньку пытается развить свои собственные способности: частенько, вернувшись к себе в комнату, я обнаруживал, что карандаш сделался на дюйм короче, к тому же альбом для рисунков таял не по дням, а по часам.
– Джентльмен? Ты уверен?
– Джентльмен, мистер Котли, – повторил Сэмюэл.
– Почтальон?
– Нет, сэр. Джентльмен. Красивый и очень нарядно одетый. Он просунул письмо в дверь.
Я вскочил на ноги и бросился к окну; стул, на котором я сидел, резко скрипнул ножками и опрокинулся. В спешке я чуть не уронил письмо в огонь.
– Тот человек еще не ушел? – спросил я, в последний миг поймав письмо на лету.
– Сэр?
Я распахнул окно и высунулся наружу. Ветер овеял мое лицо и стал срывать с головы парик. Снаружи, едва видимая сквозь сумерки, удалялась в северный конец Хеймаркет стройная фигура, плыла шляпа, украшенная по углам золотым point d'Espagne, мелькали, прочерчивая в воздухе дуги, белые перчатки. Роберт!
– Это он, сэр, – кивнул подошедший ко мне Сэмюэл. – Тот самый. Мистер Котли! – воскликнул он, когда я бросился к двери. – Куда вы? Мистер Котли, пожалуйста, подождите!
Я не стал ждать. Вскоре я был уже на улице и выстукивал каблуками дробь по мостовой, преследуя нарядного джентльмена по Грейт-Уиндмилл-стрит, мимо Анатомической школы, а затем вдоль Поля Мошенников (я видел, как он туда свернул). Вот уж самое подходящее название! Пусть мошенник там и объяснит, что он затеял, а иначе, клянусь небом, я обломаю ему бока!
Но когда я по узкому проезду Милк-Элли достиг Сохо, дыхание мое сбилось и дробь каблуков звучала уже не столь часто и уверенно, а уличные фонари стали попадаться все реже. Ни малейшего следа Роберта не было видно. Замедлив шаг, я двинулся по Дин-стрит, где то и дело на что-нибудь натыкался: тележку мясника, пустые бочки, открытые дверцы погреба, ступени крыльца и оконные выступы, мусорные кучи, спящих дворняжек или кучку жалких оборванцев, игравших на шарманке или торговавших кирпичной пылью под дверью лавки.
– Прочь с дороги, – кричал я всем встречным, будь это даже неодушевленные предметы. – Держите его! Пожалуйста, уйдите с дороги!
На середине этого оживленного проезда мне почудилось, что шляпа с золотой отделкой мелькнула на углу Куин-стрит, а там (я вновь припустил бегом, перепрыгивая и огибая препятствия) ее хозяин свернул как будто на Грик-стрит. Ага, это был он. Я окликнул его, требуя остановиться, но он либо не слышал моих криков, либо вознамерился игнорировать меня так же решительно, как в фаэтоне мистера Ларкинса. Мошенник пересек Комптон-стрит и свернул на Мур-стрит; шагал он не оборачиваясь, и его белые перчатки раскачивались, как маятник.
– Стойте! – взревел я, так что по улице прокатилось эхо. – Остановитесь, умоляю!
Второй призыв, как и первый, ни к чему не привел: я потерял Роберта из виду, сделал два неудачных захода на Холборн (пробежался по Монмут-стрит, а затем по Уэст-стрит), совсем запутался в местном лабиринте и забрел на Севн-Дайелз.
Я уже совсем выдохся, голова под париком чесалась и потела. Я огляделся, гадая, куда свернуть. В выборе недостатка не было: в разные стороны вели семь улиц, все одинаково темные и малообещающие. Место слияния всех этих дорог было отмечено высокой колонной с часами наверху и шестью лицами, обращенными каждое на одну из улиц. По их примеру я заглянул последовательно во все семь, устало перемещаясь вокруг центра этой большой звезды. Все улицы выглядели почти одинаково. На веревках, натянутых между окнами, висело белье, которое под ветром вздувалось парусом. Тут и там стекла были разбиты и кое-как починены при помощи бумаги и обрывков материи. Под окнами скрипели на петлях, раскачиваясь туда-сюда, вывески ростовщиков и сапожников. Невидимые ломовые лошади фыркали и били копытом в конюшнях; местами по тесным тротуарам прокрадывались пешеходы, но никто из этих неприметных странников не походил на Роберта ни походкой, ни одеждой. Некоторые при звуке моих шагов отвлеклись от своих загадочных занятий; мне почудилось даже, что ряды пешеходов всколыхнулись. Тут только мне подумалось, какой опасности я опрометчиво себя подверг: судя по виду, в этом месте сходились не только улицы, но также разбойники и грабители.
– Эй, – крикнул грубый голос, – кто идет?
Я резко обернулся: у меня за спиной внезапно выросла высокая фигура, появившаяся на Грейт-Уайт-Лайон-стрит (в конце этой пустой улицы виднелась более мне привычная и лучше освещенная Монмут-стрит). В руке незнакомец нес фонарь, освещавший только его туловище; голова словно бы плыла во тьме высоко над землей независимо от ног. Длинной палкой, которая была у него в другой руке, он размеренно и часто стучал по камням мостовой, чем привлек внимание не только мое, но и прочих пешеходов, и они незамедлительно растворились в сумраке.
– Эй, – повторил незнакомец, – я спросил, кто идет?
– Джордж Котли, сэр. – Я поклонился и попытался снять шляпу, но сообразил, что оставил ее дома.
– Что ты здесь забыл, негодник? – последовал еще один грубый вопрос, свидетельствовавший о том, что моя politesse не произвела на незнакомца никакого впечатления.
Я объяснил, что разминулся со своим спутником: «Быть может, сэр, он попадался вам по дороге?» Высокий незнакомец – ночной стражник, как я наконец догадался, – не пожелал выслушать описание Роберта, но пригрозил мне своей палкой, если я не «уберусь домой». Я неразумно возвысил голос, доказывая, что, будучи англичанином, свободен гулять по улицам столицы наравне со всеми прочими; он в ответ попытался осуществить свою угрозу, и мне ничего не оставалось, как спастись от грубияна бегством по Грейт-Сент-Эндрю-стрит. Крики стражника и эхо его палки неслись мне вслед, пока я не завернул за угол.
Потеряв надежду настичь Роберта и заставить его объясниться, я не знал, куда направить стопы, и несколько минут блуждал по улицам и закоулкам, где совсем потерялся среди неосвещенных одинаковых домиков с потемневшими неприглядными фасадами. Вскоре, однако, я вновь попал на Грик-стрит и миновал лавку торговца сыром, в витрине которой с упоением любовался не так давно своими изящными манерами и заемной роскошью костюма. Нынешнее отражение сильно проигрывало сравнительно с тогдашним: мой правый чулок на каждом шагу сползал все ниже на башмак, который натирал мне пальцы, парик не того размера ерзал взад-вперед по макушке; раз или два он падал мне на лоб, как забрало, временно лишая меня зрения. Пренебрегая этими мелочами, я безостановочно спешил вперед, пока не осознал внезапно, как близко привела меня погоня к жилищу миледи.
– А что, если зайти к ней? – спросил я себя, думая о том, что в письме – если оно действительно было написано ею – почему-то не говорилось, по какой причине неожиданно был отменен мой визит. Тут же перед моим умственным взором возникла далекая от приятности картина: Роберт сидит за письменным столом и, кивая и ухмыляясь под отделанной золотом треуголкой, выводит послание. Затем этот образ сменился другим, не менее безрадостным.
– Миледи могла заболеть, – предположил я, вообразив себе леди Боклер, лежащую, как Джеремая, в постели и такую же зеленовато-бледную. – А вдруг, – (мои страхи росли), – Роберт чем-нибудь ей напакостил, с него станется! Да-да, без сомнения, я должен теперь же ее навестить!
Я поспешил вперед по Хог-лейн, откуда была видна вдалеке похожая на рачий хвост колокольня церкви Сент-Джайлз-ин-зе-Филдз, вокруг которой теснились черепичные крыши и ветхие каминные трубы окрестных хибар. Достигнув Денмарк-стрит, я вновь перешел на бег. Мои башмаки стучали по неровной мостовой, фонари и освещенные окна плыли, как по волнам, мне навстречу и исчезали за спиной.
Но что это? На углу Сент-Джайлз-Хай-стрит я остановился как вкопанный, ибо чуть позади пивной и совсем уже рядом с домом миледи мой взгляд обнаружил – что бы вы думали? – темную фигуру в треуголке с золотым кружевом, садившуюся в наемный экипаж. Прежде чем я успел сдвинуться с места или издать хотя бы звук, дверца захлопнулась, кометой мелькнула белая перчатка, карета загромыхала, удаляясь в сторону Хай-Холборна, и над головой кучера, в свете фонарей, взвилась, как лента, плетка. Однако… где же миледи? Дверь ее дома, слегка приоткрытая, тоже захлопнулась, но не раньше, чем я заметил голову в капоре, выглядывавшую в эту узкую щель. Миледи? Я рванулся к двери и забарабанил в нее кулаками. Через мгновение она со скрипом растворилась и передо мной в узком столбе света предстала мадам Шапюи.
– Что это за чертов грохот! – вскричала она. – А сейчас какого дьявола вы здесь забыли? Вы уже… О! – Внимательней вглядевшись в мою физиономию, она переменила тон. – Мистер Котли… простите, ради Бога. Я думала…
Осыпая меня любезностями, каких не удостоился, судя по всему, недавно удалившийся Роберт, мадам Шапюи объяснила, что леди Боклер в настоящую минуту нет дома. Это я и подозревал, поскольку успел заметить, что в окне миледи нет света. Я надеялся еще порасспросить добрую женщину, в том числе узнать что-нибудь про Роберта, но едва я открыл рот, как из темной глубины дома донеслись жалобные стоны и томные вскрикивания.
– Эсмеральда, моя дочь, больна, – пояснила мадам Шапюи, а затем, поспешно извинившись, пригласила меня зайти в другой раз. Дверь закрылась, отрезав меня от света, страдальческие крики стихли.
Едва передвигая ноги, я поплелся обратно на Денмарк-стрит. Я продрог в своем камзоле и трясся с головы до ног. Под окнами пивной выясняли отношения двое мужчин, третий безуспешно пытался сыграть роль арбитра в их споре, четвертый извергал на мостовую обильную рвоту, пятый мирно храпел поблизости, в блаженном неведении о происходящем. Я похромал по улице, не обращая внимания на мелькавшие в окнах алые юбки и нежные голоса очаровательных сирен, которые знаками приглашали меня войти.
– К чему такая спешка? – проговорила одна из них. – Пожалуйте внутрь, сэр. Пожалуйста, мистер Котли… составьте нам компанию хоть ненадолго…
Только на Грик-стрит, минуя витрину торговца сырами, я запоздало подивился, откуда этим падшим созданиям известно мое имя.
Что мне снилось той ночью и снилось ли что-нибудь вообще, я не помню, но когда я утром открыл глаза, мой взгляд наткнулся на мистера Натчбулла, стоявшего в пятне света на дубовом столике. Его ладони покоились на бедрах, члены были странно вывернуты, а голова обращена в сторону, словно, пока я спал, его слепые глазницы высокомерно таращились на меня поверх неловко застывшего плеча. Сразу за ним обнаружилась повторявшая его позу «Дама при свете свечи». Лицо миледи (накануне я в очередной раз его прописал) также смотрело на меня, однако утром, в солнечных лучах, оно выглядело бледным и нереальным; казалось, еще немного, и оно окончательно поблекнет и исчезнет с полотна.
Я сел и внимательней вгляделся в картину. Рассматривая ее в этом ракурсе и при этом освещении, я впервые заметил слабый-преслабый, призрачный контур записанного портрета: бугорки плеч, оконечность головы. Остроугольные плоскости… чего? Шляпы? Краска была наложена толстым слоем и как будто просачивалась на поверхность, мешаясь с моими красочными слоями. Что, если это сэр Эндимион?.. Но, конечно же, миледи не стала бы платить мне, чтобы я записал портрет кисти сэра Эндимиона Старкера. Но кто тогда? Кто он, мой таинственный соперник? И как (я водил пальцем по еле заметной кромке, иллюзорным цветовым пятнам) – как выглядел уничтоженный портрет? Почему он не понравился миледи?
Я встал, зажег свет и вскоре выбросил из мыслей не только леди Боклер, но и Роберта или другого, неизвестного портретиста: мне пришлось вспомнить сэра Эндимиона, поскольку в его студию на Сент-Олбанз-стрит я опаздывал не на шутку.
Глава 18
В этой крохотной студии – если заслуживали подобного наименования две непрезентабельные комнатушки – сэр Эндимион, согласно собственным утверждениям, создавал лучшие свои работы, «способные прославить его имя в веках», как имена Рубенса или Рембрандта. Что же касается студии в Чизуике, где он малевал несметное множество портретов и мешками собирал гинеи, то при ее упоминании он только махнул запятнанной красками ладонью.
– Можете себе представить, Котли, как трудно извлечь универсальную сущность из физиономии кондитера его величества, не говоря уже об этой несносной чертовке, леди Манрезе? А злющая графиня Кински – или как ее там – и под стать ей пуделиха, которую она водит на золотой цепочке? Нет! — Он так яростно затряс головой, что едва не уронил парик. – Нет, высший разряд Искусства – это не портреты, а большие исторические картины. Историческая живопись – свободная профессия, а портретная – не более чем ремесло, вроде сапожного. И только с первой, наиболее могучей, ветви можем мы сорвать прекраснейшие цветы универсальной сущности.
Широким жестом испещренной пятнами руки сэр Эндимион указал на полотно, над которым склонялся уже два часа, нанося крупные мазки кармина, асфальта и желтого аурипигмента. Картина представляла собой аллегорию и должна была носить название «Богиня Свободы принимает венок из рук Гармодия и Аристогитона». Она была в самом деле хороша. Элинора, которая позировала для богини, чуть ли не все утро простояла в глубоком книксене, а я нависал над нею в позе сначала Гармодия, а потом Аристогитона, одетый в белую льняную рубашку, перетянутую красным поясом, с голыми икрами и без парика. Чувствовал я себя так же странно, как в тот раз, когда позировал за леди Манрезу.
– Эти двое были основателями афинской демократии, – пояснил сэр Эндимион, смешивая краски на палитре, – которые – вы помните, наверное, – убили тирана Гиппарха. Вот ведь, поступок горстки заговорщиков способен изменить ход истории и развитие цивилизации! Вслед за этим тираноубийством начался век афинской демократии, правил великий полководец Перикл и были созданы непревзойденные мраморы Фидия.
Боюсь, это исполненное учености объяснение не сделало меня многим умнее. Я потуже затянул пояс, который все время сползал, выставляя мой живот на обозрение склонившейся Богине Свободы.
Поблизости, у стены, стояло «Поругание Лукреции Секстом Тарквинием», также незаконченное: оно назначалось для украшения харчевни в Воксхолл-Гарденз. Накануне я, так сказать, выступал в роли коварного Секста: большую часть дня, корча мрачно-похотливую гримасу, делал вид, что разрываю белое кисейное платье Элиноры. Выполнив это задание, я скинул с себя костюм (тот самый, чересчур просторный, в котором изображал Гармодия и Аристогитона) и остаток дня малевал плинтусы и драпировки на заднем плане.
– Прекрасная Лукреция покончила с собой, – напомнил мне, не отрываясь от своего занятия, сэр Эндимион, – но за ее смерть отомстил Юний Брут, который прогнал Тарквиниев и сделался первым консулом Рима. Подумайте снова о том, какие последствия влекут за собой человеческие поступки. Варварское деяние Секста положило начало величайшей цивилизации, какую когда-либо знал мир, – великой державе и великому искусству. Так ведь всегда бывает, не правда ли? История не знает ни одной цивилизации, не уходившей корнями в такое мрачное варварство, от которого нас, в наш просвещенный век, мороз подирает по коже.
– Но можно ли оправдывать жестокие преступления, – спросил я, – даже если в результате появляются произведения искусства?
– Я говорю не об оправдании – это понятие относится к морали; я говорю о причинно-следственной связи. От чудовищных злодеяний расходятся трещины, в которых пробиваются ростки политического и художественного обновления. Будьте добры, подайте мне соболиную кисть…
– Но, сэр, – я задумчиво жевал кончик той самой кисти, – разве такое произведение искусства можно повесить, как полагается, на стену, любить его и ценить, когда знаешь, что оно порождено кровью или насилием? Когда знаешь, какие ужасы за ним скрываются?
– Можно, поскольку, если употреблять ваши термины морали, оно в этих злодействах неповинно и открывает путь лучшим устремлениям.
– Неужели всякое искусство должно быть основано на муках и разрушении?
– Только самое лучшее: то, которое исследует, что значит быть человеком. Ибо, как пишет ваш мистер Хогарт…
И так далее, и тому подобное. Когда я теперь вспоминаю эти дни, я вижу нас не на сыром чердаке, а на зеленом склоне холма в какой-нибудь далекой Аркадии, и сидим мы не на предательски покатом полу, а в Остроконечной тени кипарисов, формой напоминающих слезу. Когда сэр Эндимион описывал, например, пещеру Платона, я весь уходил в слух. Известен вам этот особый подземный грот, темница чувств, куда доходят отражения и иллюзии, порожденные не предметами, а другими отражениями и иллюзиями?
– Платон описывает в своей «Республике», – говорил он мне, – людей, опутанных оковами и неспособных отвернуть голову от каменной стены перед ними. Позади них разведен яркий огонь, а перед огнем поставлена невысокая перегородка, вроде тех, что бывают в кукольном театре. За спинами пленников, между перегородкой и огнем, кто-то проносит изображения (вырезанные из дерева и камня, как в театре теней) людей, животных и прочего. На каменную поверхность перед пленниками – вы следите за моим рассказом, Котли? – падают тени этих вырезанных фигур, и те принимают их за подлинные предметы… А теперь, Котли, что произойдет, если кого-нибудь из пленников освободят однажды от оков и он впервые бросит взгляд на деревянные фигуры, которые отбрасывают колышущиеся тени поверх перегородки? Освободится ли он, по-вашему, от своих иллюзий? Нет-нет, он решит, что образы на каменной поверхности вернее, чем Деревянные фигуры; он предпочтет тень оригиналу, который, в свою очередь, является тенью и образом чего-то еще. Поскольку не каждому дано отвратить око от теней и распознать иные формы…
И так далее, и тому подобное. Такова была моя жизнь в студии сэра Эндимиона. Столь многое можно было от него почерпнуть, что, думаю, даже учеба в Королевской академии не дала бы мне большего. О чем только он мне не рассказывал в те нескончаемые часы, которые мы проводили вместе на чердаке: к примеру, о своем европейском вояже и о том, как он встретил на маскараде в Риме Юного Претендента и выпил с ним чашу пунша; как наблюдал с острова Искья извержение Везувия; как трогал застывшие тела в пористом камне Геркуланума; как любовался тарантеллой в Лечче; как в Ватиканской библиотеке читал манускрипт Вергилия (его возраст, Котли, ни много ни мало четырнадцать веков!), а также любовные письма Генриха VIII к Анне Болейн. Но в первую очередь сэр Эндимион говорил о своей страсти к искусству: о том, как копировал картины Тициана и Корреджо, Пуссена и Клода, осматривал мраморы из коллекции герцога Браччано, беседовал об оптике и воздушной перспективе с Каналетто в кафе Флориана под аркадой Прокуратие Нуове в Венеции, писал портрет увешанной драгоценностями Марии-Жозефы Саксонской, жены дофина, и еще многих прекрасных аристократок; как изображал вид Рима с вершины Тестация и зарисовывал древности Эсквилина и Целия; как устанавливал свой мольберт на Пьяцца-дель-Пополо в Риме или перед базиликой Сан-Марко…
В первые несколько дней я трепетно ловил каждое его слово. Мне хотелось прочитать каждую книгу, прочитанную им, моим мудрым мастером, увидеть воочию все шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, которыми любовался он, и таким образом, быть может, сделаться столь же великим артистом и утонченным джентльменом.
– Как-нибудь, Котли, – сказал сэр Эндимион однажды, – я покажу вам эти картины и вы, если захотите, сможете их скопировать.
Я ходил в эту студию уже вторую неделю, и наши отношения с сэром Эндимионом, как вы догадываетесь, развивались очень неплохо, несмотря на неприятности с графиней и с желтым аурипигментом. Часы, проводимые там, были моим любимым временем суток. Мы только что уселись ужинать: свиная щека, говяжий язык, клин саффолкского сыра и несколько изысканных пирогов с угрями (их подогрели в печи в таверне «Резной балкон», и, стоило нам надломить корку, к изогнутому потолку зазмеились струи пара, затуманившие единственное окошко). Съестное сэр Эндимион дополнил кружкой портера, необычно развязавшей ему язык – таким говорливым он в Чизуике никогда не бывал. В тот день он попытался, кроме того, создать на чердаке – то есть в «студии» – более подходящую обстановку, а именно разбросал на сыром полу травы (лавр и лаванду), а перед запотевшим окошком поместил ароматическую свечу. Нередко в подобные минуты, за ужином и портером, он пространно витийствовал, затрагивая при этом не только свои приключения на континенте, но и более философские материи (портер располагал его к таковым).
Меня ученые рассуждения сэра Эндимиона интересовали чрезвычайно; Элинора же, напротив, внимала его лекциям – если это наименование здесь уместно – с совершенной апатией (подобным образом она относилась как будто ко многим предметам беседы и событиям). В тот день все усилия хозяина поднять ей настроение – душистые травы, портер, пироги с угрями и даже красноречивые рассуждения об афинской демократии и величии исторической живописи – пропали втуне. Она сидела с унылым видом поодаль, равнодушно ковыряясь в пироге, а к сыру едва прикоснулась. Даже нежно назвав ее своей «музой», сэр Эндимион не получил в ответ и мимолетной улыбки.
Элинора в самом деле представляла для меня загадку. В тот же вечер, немного ранее, сэр Эндимион осознал, вероятно, нелепость ситуации: Богиня Свободы содержится на положении пленницы, день и ночь запертая в душной мансарде, – и разрешил ей немного прогуляться, причем мы шли рядом – один слева, другой справа. Но, оказавшись на улице, она, судя по виду, ничуть не обрадовалась и, когда мы отправились по Пэлл-Мэлл, не поднимала глаз от усыпанной соломой мостовой. Двое мужчин со скамеечкой и длинной восковой свечой зажигали уличные фонари. Прохладный ветерок донес до наших ноздрей слабый запах шипящей ворвани, внутри прозрачных шаров запрыгало пламя и бросило отсветы на желто-оранжевые волосы и бледное лицо Элиноры, и меня поразило его удивительно хмурое выражение.
Еще решительней вознамерившись развеселить Элинору, сэр Эндимион завернул вдруг в шляпный магазин и заставил ее купить себе капор с лиловой лентой. Затем он приобрел в лавке королевского парфюмера флакон одеколона с лавандой и бергамотом «Парижские радости» и, в довершение всего, по бутылке абрикосового вина и нектаринового джина у винного торговца под колоннадой Королевского театра. Элинора приняла эти дары так же равнодушно, как и ненадолго предоставленную свободу, и через час, вернувшись с нами на чердак, неблагодарно швырнула их за окно, а затем в голову благодетеля (как бывало ежедневно) вновь полетела саламандра. На сей раз нападение было неожиданным, с сэра Эндимиона слетел парик, а на щеке образовалась рана в дюйм длиной. Пока он ее промокал, глаза его сказали мне: «Увы, Котли, теперь-то вы видите? Вначале вы сочли меня жестоким, но что я получаю в ответ на всякое свое снисхождение? Я добрый человек, Котли, и вот воздаяние за мою доброту!» Я выразил взглядом, что вполне разделяю его чувства.
Покончив с пирогом, я вернулся к одному из холстов, поскольку краски на палитре еще не высохли. Часто я задерживался в студии до девяти вечера; бывало и дольше, поскольку работалось мне здесь с большим удовольствием, чем в Чизуике, где (возможно, из-за приключавшихся там со мной злосчастий) потребность в моих услугах снизилась. Я готов был простоять за мольбертом и всю ночь, если бы не Элинора, которой, как вы понимаете, я изрядно побаивался; мне совсем не улыбалось остаться в комнате наедине с этим непредсказуемым созданием, предположительно способным еще на большие каверзы, чем даже сам мистер Льюис.
Я взялся за самый свой любимый из холстов сэра Эндимиона – «Житейские невзгоды», носивший подзаголовок: «Красавица с бутоньеркой в окне мансарды». Эту картину, назначенную украшать стену Общей судейской залы в Приюте подкидышей, я заметил почти неделю назад, когда впервые вошел в студию; она была тогда прислонена к мольберту. Теперь мне было поручено написать фон (темную стену и драпировки), а также покрыть лаком печальное лицо модели – юной оборванки. Это была замечательная работа, и я принялся за нее почти с такой же гордостью, как за «Даму при свете свечи». Элинора, одетая в отрепья, с пятнами грязи или сажи на лице, с копной всклокоченных волос, рассыпанных по голым плечам (тоже не совсем чистым), печально смотрела на зрителя или, вернее, вдаль, поверх его левого плеча. Она, казалось, искала взглядом какой-то предмет и, убеждаясь, что он недоступен или совсем потерян, трагически вздыхала.
– Быть может, – гадал я, берясь за кисть, – церковный староста забирает в приют ее малое дитя. Или жестокосердная квартирная хозяйка отнимает за долги ее любимые фамильные драгоценности, или она сама решила их заложить, чтобы рассчитаться с булочником или мясником. Или несчастное создание раздумывает о том, как тает на глазах жалкая кучка угля, которой наверняка не хватит на зиму…
Всегда, стоило мне поднять взгляд на это прекрасное существо, я чувствовал в сердце укол жалости.
– Ни разу в жизни не видел подобной картины, – сказал я, разогревая дыханием свои пальцы, прежде чем взяться за дело. Изображение было таким живым, что, взявшись рисовать стену в обоях на заднем плане, я ждал, что дама вот-вот откроет рот и заговорит или протянет руку и ущипнет меня за нос.
– Искусство должно зачаровывать, – отозвался сэр Эндимион, наливая себе еще стакан портера. – Оно создает иллюзии – в этом его назначение и красота. Благодаря этому приятному обману холст и краски являют нам фигуры, состоящие из живой плоти, в то время как на самом деле не существует ничего, кроме света и тени. Граф Шефтсбери говорит в «Характеристике»: цель этого приятного обмана заключается в том, чтобы убедить нас, зрителей, следовать примерам общественной добродетели. Эта картина, – он указал на «Житейские невзгоды», – доводит до сознания зрителя тяжкие мытарства бедняков и вызывает сочувствие – благожелательную страсть, лучшее свойство человеческой натуры, лежащее в основе общественных добродетелей.
Он добавил, что поместит снизу цитату из Книги притчей Соломоновых, долженствующую напомнить зрителю, что «кто подает бедняку, тот ссужает Господу».
На меня произвело должное впечатление благородство его намерений, но несколько смутила живопись, которая обманывала (если использовать собственное выражение сэра Эндимиона) совершенно иным образом. Как я уже сказал, изображение было чрезвычайно похоже на живое, но – как я тоже говорил – оно в немалой степени отклонялось от Природы и в конечном счете имело мало общего с оригиналом. Написанное лессировками с использованием кармина и покрытое лаком лицо заметно отличалось от той хмурой физиономии, которую я видел чуть раньше, под фонарями на Пэлл-Мэлл. В исполненной прекрасной меланхолии фигуре с яркой бутоньеркой и цветущими щеками нелегко было опознать женщину, апатично ковырявшуюся в пироге с угрями. В лике «Красавицы», пусть меланхоличном и с пятном сажи на носу, проступала сквозь отчаяние особая умиротворенная красота, и я не мог не заметить, что бедность и лишения проявились бы более наглядно, если бы не солнечные лучи, которые, просачиваясь через окно, придавали коже розовый, сияющий оттенок. Нечего и говорить, что солнечные лучи при мне ни разу не касались худого и бледного лица Элиноры. Кроме того, женщина на картине держала букетик свежих цветов, краски которых удачно перекликались с колерами лица, глаз и одежды. Последняя, хотя и порванная, была отнюдь не бедной, а фасон не вполне отвечал требованиям скромности и будил в моей груди чувства опасные и далеко не столь возвышенные, как желание помочь страждущему.
Однако сэр Эндимион и сам объяснил уже прежде, когда я отметил эту столь заметную разницу Между Искусством и Природой, что фигура на картине – «не совсем та Элинора, которую мы видим каждый день в студии. Истинная живопись не ставит себе целью рабски следовать вечной Природе. Я создал образ, который предстал бы перед нами, если бы удалось отделить Элинору от ее теперешнего обиталища, предшествующей истории и характерных внешних особенностей».








