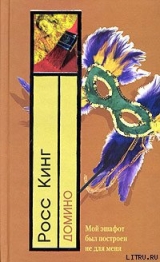
Текст книги "Домино"
Автор книги: Росс Кинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
– Дух любого искусства, – продолжал он, принимаясь за одну из своих любимых тем, – заключается прежде всего в стремлении обобщать. Ибо вам нужно понять, Котли, что истинный художник изучает отнюдь не индивидуума, а человеческий род в целом. Первый представляет интерес только в той мере, в какой он отражает качества последнего. Красота и величие искусства заключаются в способности отвлечься от индивидуальных форм, частностей, случайностей и маловажных деталей, то есть всех отклонений от универсального принципа, которые оскверняют и уродуют картину.
Это объяснение пришлось мне по душе, поскольку именно такой образ я и сам пытался уловить – увы, не столь успешно – при работе над портретом леди Боклер. Впрочем, упоминание об истории Элиноры вызвало у меня любопытство, и я задумался, какие злоключения привели ее в мансарду, но спрашивать об этом мастера, а тем более самое Элинору явно не стоило, и потому я молча принялся малевать фон к «Житейским невзгодам».
– Котли, – окликнул меня сэр Эндимион чуть погодя, когда я накладывал завершающие мазки «туркино» – темно-синего цвета – на стены за желтой головой красавицы с мансарды. Он отставил в сторону портер и вновь взялся за «Богиню Свободы». Элинора снова склонилась перед ним, босая, в кисейной рубашке. – Котли, пожалуйста, не откроете ли дверь?
Я потащился вниз по лестнице, слегка хромая, потому что накануне меня тяпнул за ногу мерзкий пудель графини Кински. Запнувшись, как обычно, на четырнадцатой ступеньке, которая отличалась от всех прочих по высоте, а также на двадцатой, которая отсутствовала, я задал себе вопрос, кто бы это мог к нам наведаться. Стук – три тяжелых удара – звучал непривычно, так как за все время моей работы в студии сюда не являлся ни один посторонний. Если о зеленые чизуикские двери вечно бился прилив с обломками лондонского общества на волнах, то здесь, на Сент-Олбанз-стрит, в самом сердце фешенебельного Лондона, нас ни разу никто не побеспокоил.
Когда дверь со скрипом отворилась и я выглянул наружу, под дождь, стоявший там пожилой джентльмен снял шляпу и слегка поклонился. Вместо дверного молотка (он по-прежнему лежал в грязи) посетитель воспользовался дубовой прогулочной тростью, которую как раз поднял, чтобы постучать вновь.
– Я к сэру Эндимиону Старкеру, – опуская палку и поправляя шляпу, возвестил он и смерил меня, словно слугу, повелительным взглядом. Посетитель показался мне знакомым, но, ни открывая дверь, ни ведя его вверх по лестнице, я так и не вспомнил, где встречал его прежде. В его карманах что-то позвякивало, а изогнутая трость стучала по ступенькам. Пока мы добирались до верхнего этажа, он совсем запыхался.
– Сэр Эндимион, – выдохнул он.
– А, мистер Фокс.
– Надеюсь, они готовы?
– Да-да. – Сэр Эндимион отложил кисть и не спеша вытер руки, перед тем как обменяться с пожилым джентльменом рукопожатием. – Сюда, пожалуйста.
Он проводил старика в меньшую из двух комнат, где состоялась краткая беседа, сопровождавшаяся музыкальным звоном монет. Минутой позже оба показались в двери; старый джентльмен нес холщовый мешок, в углах которого вырисовывалось содержимое, очень похожее на медные пластинки, с каких я делал отпечатки на прессе в Чизуике. А музыка теперь звучала в карманах сэра Эндимиона, провожавшего гостя к выходу.
– Отлично, отлично, – приговаривал все еще не отдышавшийся мистер Фокс, – он будет очень доволен, очень.
Немного помешкав, он успел бросить взгляд на Элинору, которая воспользовалась свободной минутой, чтобы обхватить ладонями грудную клетку, а затем растереть пальцы ног, которые за время утреннего сеанса из розовых сделались сначала белыми, а потом синими. При виде Элиноры, одетой в кисейную рубашку, на лице джентльмена появилось неприятное выражение, схожее с оскалом, исказившим черты Секста Тарквиния, который смотрел на нас от камина, куда я придвинул для просушки «Поругание Лукреции». Посетитель, поправив мешок, распрощался с сэром Эндимионом, и тут я вспомнил, откуда его знаю: мой запятнанный краской халат и съехавший парик он смерил тем же неодобрительным взглядом, каким прежде потертую треуголку (вторую по нарядности в гардеробе моего покойного отца).
– Котли, – произнес сэр Эндимион, когда старый джентльмен удалился с мешком, – хватит стоять и глазеть. За работу, юноша, за работу!
Тем же вечером сэр Эндимион (настроение его улучшилось и язык развязался после стакана портера, а также нескольких капель снадобья, принесенного мною раньше от аптекаря на Оксфорд-стрит) подтвердил, что наш посетитель действительно был лакеем лорда У***. По его словам, лорд У*** являлся самым тонким знатоком. К примеру, именно он окрестил сэра Эндимиона «английским Тицианом».
– Лорд У*** ценит превосходную красоту наиболее чувственных шедевров таких мастеров, как Тициан, Корреджо или Рафаэль. Вы видели эти работы, Котли? Нет? А «Данаю» Тициана или его же «Венеру и органиста», «Диану и Актеона»? Нет? Жаль-жаль! Богатство и предельная утонченность палитры уступают в этих картинах только чувственному удовольствию, которое доставляют нам сюжеты: их великий Тициан заимствовал из наиболее драматических эпизодов истории и мифологии. Я сделал много таких работ для лорда У***, – задумчиво добавил он, понизив голос, – великое множество, к примеру, Венер…
Мы сидели в таверне «Резной балкон», курили трубки и играли в безик – сэр Эндимион меня обучал. Урок обошелся мне дорого: я опомниться не успел, как сделался беднее на полкроны. Но я надеялся возместить свою потерю другим образом, поскольку в ходе игры вел расспросы о лакее лорда У***, а также и о Роберте. Я резонно предположил, что, будучи знаком с мистером Ларкинсом, Роберт известен и моему мастеру. Я уже затрагивал эту тему днем или двумя днями раньше, но при упоминании мистера Ларкинса Элинора резко вскинула голову (она стояла в позе Богини Свободы, а я – Гармодия), судя по всему, сильно обеспокоенная. Недовольный этим, сэр Эндимион не захотел распространяться о том, что именно связывает его с данным джентльменом, и на сей раз я подошел к делу более осмотрительно. Однако мне не помог ни портер (хозяин как раз принес нам еще кружку), ни таинственная тинктура из аптеки, от которой глаза моего мастера вспыхнули неестественным огнем, а щеки окрасились столь же странным румянцем; несмотря на эти мощные стимулы, сэра Эндимиона никак не удавалось разговорить, словно бы я, сам не зная как, поставил заслон его обычной любезности.
– Мистер Ларкинс? Да, я хорошо его знаю. Он импресарио. Работает в «Ковент-Гардене». Я сделал для него набор рисунков. Замечательный джентльмен. Осторожно, Котли! – Он указал на одну из моих перевернутых карт из пикетной колоды. – Не слишком ли быстро вы позабыли правила игры? Десятка старше валета, а не наоборот, как в висте. Ха! – Он взял карту из банка, лежавшего на столе между нами. – Туз! Взятка моя!
Выиграв, с такими же радостными восклицаниями, еще несколько взяток (я не был сосредоточен на игре), сэр Эндимион поскреб себе подбородок и переспросил:
– Роберт? – Тут я выиграл единственную взятку за всю игру. Не обратив внимания на свою потерю, он продолжал: – Робертов мне известно видимо-невидимо. Если я остановлюсь и начну вспоминать…
Его равнодушие показалось мне напускным, ибо, когда я упомянул имя и присовокупил описание особенной шляпы и перчаток, принадлежавших этому таинственному плуту, мужественный румянец на лице сэра Эндимиона мгновенно уступил место бледности, какую я наблюдал прежде, после того как протянул ему акварельную миниатюру.
– Он, как мне кажется, приходится кузеном леди Боклер.
– Что? – Сэр Эндимион, погрузившийся в размышления, резко встрепенулся. – Кузен леди Боклер? Да-да, похоже, я его знаю. Да, в самом деле, я с ним встречался. Если не ошибаюсь, как-то писал его портрет. – Внезапно он бросил на меня загадочный, даже, быть может, подозрительный взгляд поверх веера карт. – Как вы с ним познакомились?
Чтобы лишний раз не бросать на себя тень, я ограничился рассказом о встрече с Робертом после хода к Панкрасским источникам, когда он отказался помочь мне в нужде, и о его вмешательстве в мои отношения с леди Боклер, судя по всему, немало мне навредившем.
– Похоже, он человек в высшей степени неприятный, грубый и противный, – заключил я, несколько разгорячившись.
Сэр Эндимион помолчал. О чем он думал: о странностях Роберта, о картах или обо мне, догадаться было трудно.
– Вы еще совсем юнец, Котли, – произнес он наконец. – У вас нет еще ни должного понимания, ни права, чтобы судить ближних. Вы видите только то, что лежит на поверхности, а вглубь не заглядываете. – Он ненадолго примолк. – Вы – из числа обитателей платоновской пещеры, которые рассматривают блики от горящего сзади пламени и наивно принимают их за реальность.
К концу этой фразы он стал путаться в согласных, а гласные произносить в нос. Он помедлил, чтобы сделать глубокую затяжку из трубки и смочить портером заплетавшийся язык; впрочем, заметного результата это не принесло.
– Вы еще не раз столкнетесь с непонятными вам людьми и обстоятельствами, – продолжал он. – Не спешите о них судить. Немало утечет воды, прежде чем вы поймете: люди и обстоятельства могут быть совсем не таковы, какими кажутся на первый взгляд. Роберт, – сказал он, заключая это в высшей степени странное наставление, – ваш Роберт, думается, принадлежит к тому же разряду.
Испытанные мною тревога и изумление выразились, видимо, у меня на лице, потому что сэр Эндимион расхохотался.
– Сэр?
Он выложил передо мной на стол валета, а затем даму.
– Двойной безик, Котли! – От этого смеха из самых глубин его легких извергся дым и задрожали потолочные балки. – Пятьсот очков! – Он взял у меня деньги, еще полкроны. – Следуйте моему совету, – добавил он чуть погодя, – и, ручаюсь, не ошибетесь.
Что он имел в виду, Роберта или игру в безик, я не знал. Все же вернуться к прежней теме он не пожелал, а предпочел повести речь о своей работе на лорда У***. После того как хозяин принес еще кружку портера и мы вновь разожгли трубки от пламени очага (оно потрескивало рядом с нами), сэр Эндимион поведал, что лорд Шефтсбери в своей «Характеристике» объявил Венеру неподходящим для живописи сюжетом.
– Исключение составляют те случаи, – сказал он, рассуждая о знаменитом запрете графа, – когда артист намерен показать опасности плотских искушений, – Он выдохнул дым в потолок и воскликнул: – Полнейшая чушь!
Узнав из дальнейших слов сэра Эндимиона, что сам он давно отказался следовать этой философии и написал целую серию изображений этой «опаснейшей богини» (как он ее назвал), я вспомнил о множестве Венер в выставочном зале Королевской академии. Я собирался о них спросить, но тут подоспела третья кружка портера и тема беседы поменялась: сэр Эндимион вернулся к своим излюбленным рассуждениям о том, как универсальная сущность может быть выявлена полнее, если модель лишить таких «признаков места и времени, как украшения, модный парик и – да, дорогуша – одежда».
– Одежда, может быть, в первую очередь, – шепнул он, доверительно наклонившись и выдыхая мне в лицо смесь табачного и пивного запаха. – Истина, которую я ищу, нага, ибо всякая одежда есть маска личина, квинтэссенция обмана.
Мне вспомнились высказывания Топпи на эту тему а также физиогномические замечания самого сэра Эндимиона о силуэте как образе, который в наибольшей степени раскрывает характер модели. Я собирался уже заговорить на эту тему, дабы провести сравнение, но тут мне пришло в голову – и не в первый раз, – что сэр Эндимион не слишком строго придерживается своих собственных принципов, особенно в отношении одежды.
Рассказывал ли я о внешности моего мастера? Нет… как будто бы, нет. Как бы его описать? Если был на земле более совершенный образец человеческого существа, мне он на глаза не попадался. Когда я увидел сэра Эндимиона впервые, за карточным столом на вечере у лорда У***, мне подумалось, что в его красивых чертах проступают признаки человеколюбия, и это впечатление многократно подтверждалось: лоб поднимался вертикально над правильными бровями, нос отчасти напоминал римский, рот был сжатый, глаза выразительные – все говорило о натуре решительной, доброй, привлекательной, сердечной, мыслящей, щедрой. Приходится, однако, признать, что нередко – даже в случайные часы отдыха, как, например, в тот день, – его прекрасные черты покрывал густой maquillage, достойный самых раскрашенных старых ведьм, посещавших его в Чизуике. Более того, он обнаруживал слабость к красивым нарядам – той самой мишуре, которую так осуждал в своих моделях. Короче, сам он вовсе не проявлял приверженности к греческой простоте, и хотя – в отличие, например, от мистера Ларкинса или Роберта – до макарони не дотягивал, но мог бы посоревноваться с Топпи в богатстве armoire[55]55
Зд.: гардероб (фр. ).
[Закрыть].
Сейчас сэр Эндимион клеймил коварство нарядов в полном блеске черного шелкового парика с косой в сетке, присыпанного зеленой пудрой и завязанного рубиновой лентой; помимо того, на мастере красовались кафтан винно-красного шелка и такой же камзол, то и другое с вышивкой и золотыми пуговицами; оливковые короткие штаны с изумрудными застежками и пара отполированных туфель «воловий язык» с кроваво-красными каблуками. Острый запах (памятный мне после нашего посещения королевской парфюмерной лавки как «Дурацкая отрада») столь назойливо проникал во все уголки таверны, что джентльмены, сидевшие у самой отдаленной стены, отвлекались от курения и питья и недоуменно втягивали носом воздух.
– Греки полагали, – продолжал сэр Эндимион, – что тело, лишенное облачений, то есть нагое, наиболее успешно примиряет противоположности, приводя плотскую оболочку в соответствие с разумным математическим законом, в ней выраженным, и делая этот закон истинным наслаждением для чувств. Является ли наша одежда воплощением математического закона? – вопросил он меня, посматривая на собственный камзол и штаны. – Вот уж нет, особенно если она вышла из рук халтурщика, именующего себя английским портным. Но человеческое тело! Вот где вершина совершенства! Роспись Всемогущего Творца! Beau ideal! Человеческое лицо, belle tournure[56]56
Прекрасная внешность (фр. ).
[Закрыть] прекраснейших его образчиков! Римский архитектор Витрувий считал, что человеческая фигура воплощает в себе совершенные пропорции, изгибы и размеры которых даны свыше. Подобно ему высказывается и Платон в «Тимее»: все предметы материального мира – и тело в их числе – являются подражанием высшим формам, существующим, – (он снова начал путать согласные и произносить в нос гласные), – существующим в мире духовном…
Я заподозрил, что он нашел бы своего философского союзника в авторе «Совершенного физиогномиста», который во второй главе своего трактата (ее я одолел недавно) выдвинул смелую гипотезу, что все отметины на теле: родинки, родимые пятна, рябины, бородавки и веснушки – чрезвычайно важны на космическом уровне. Однако поразмыслить над этим мне не удалось, поскольку сэр Эндимион извлек из кармана камзола какой-то мелкий предмет и неуклюже сунул его мне в руки. Тем временем его зрачки расширились, а брови на безукоризненно вертикальном лбу поднялись так высоко, что едва не исчезли под зеленоватым париком.
– Греки и римляне – к примеру, великий Фидий – славили своими творениями мужское тело, однако, как говорит ваш мистер Хогарт, «формы женского тела красивей, чем мужского». Откройте это.
– Сэр?
Его испачканный краской палец указывал на предмет в моей ладони, и я впервые опустил на него взгляд. Это был оловянный кулон, вроде того, который Элинора при нашей первой встрече швырнула мне в голову.
– Прошу, откройте.
Вернувшись вскоре к себе (с больной головой как из-за выпивки, так и из-за увиденной миниатюры), я обнаружил два ожидавших меня письма. В первом, от Пинторпа, содержались абсурдные – и тем не менее тревожные – новости, едва ли способные Успокоить мой возбужденный разум. Ныне мой друг отстаивал ту точку зрения, что не только люди вокруг нас являются плодом нашего воображения, но и – если я его правильно понял – подлинность воспринимающего субъекта тоже сомнительна. Это бредовое утверждение выдвинул, по его словам, ряд выдающихся британских философов.
«Дэвид Юм, – говорилось в начале письма, – в своем Трактате о Природе Человека» (книга I, часть IV, раздел 6) утверждает, что Разум является Сценой, перед которой скользят и перемещаются наши Впечатления о Мире, подобно тому, как театральные Задники скользят туда-сюда и вверх-вниз в неверном Свете восковых Свечей перед Зрителями, то есть перед нашим воспринимающим Я. Мистер Юм замечает, что мы склонны, нарушая всякую Логику, присваивать Идентичность и Тождество этим Объектам Восприятия – короче, этим Людям или, скажем, Актерам, которые появляются в переменчивом Свете Сцены и, важно прошествовав по Подмосткам, исчезают в Кулисах, а затем выходят вновь и вновь, на Вид те же самые. Иначе говоря, когда мы встречаем на Улице наших Друзей Питера и Джона, мы, разумеется, предполагаем, что это те самые Питер и Джон, с которыми мы накануне условились встретиться сегодня Утром в этот самый Час. Но, спрашивает мистер Юм, как можем мы утверждать, что это те же Питер и Джон? На каком Основании, по какой Причине присваиваем мы своим Друзьям Идентичность?»Несомненно, – пишет Философ в своем»Трактате» (книга I, часть IV, раздел 7), – нет в Философии другого столь неопределенного Вопроса, как тот, что касается Идентичности». Мы утверждаем, будто это те же самые Люди, замечает он, совершенно безосновательно, поскольку у нас нет Доказательств; наши Предположения касательно их Идентичности проистекают исключительно от нашего Воображения, от (как он выражается)»Фикции непрерывного Существования» каковой мы утешаем себя перед Лицом Переменчивости.
Но Проблема Идентичности, Джордж, на том не заканчивается, – говорилось далее в этом поразительном послании, – поскольку мы должны учесть зияющую Дыру, пробитую философским Предшественником мистера Юма, Джоном Локком. В своем Законе Идентичности (Эссе, книга II, глава XXVII) мистер Локк объясняет, что одна Вещь не может иметь двух Начал, равно и две Вещи – одного Начала. Но все же, замечает он, поскольку человеческая Идентичность проистекает от Сознания Себя, Человек может, в результате несчастного Случая или другого Бедствия, измениться настолько, что будет казаться совершенно иным Человеком (в случае, например, Сумасшествия, Опьянения или Травмы Мозга с Потерей Памяти – даже в Результате Сна или по Прошествии большого Промежутка Времени). Вспомните удивительное Происшествие с Савлом по дороге в Дамаск. Если, говорит мистер Локк, Личность основывается не на Материи, а на Сознании, а оно непрерывно меняется, то и сама Личность подвержена непрекращающимся Переменам. И если никто не обладает сегодня тем же Сознанием, какое имел вчера, что может Человек знать о себе, а тем более о Питере или Джоне? Деист Энтони Коллинз утверждает, что мистеру Локку человеческая Идентичность представляется прерывистой и эфемерной;»она живет и умирает, – говорит мистер Коллинз, – постоянно возникает и заканчивается, ни один Человек не остается самим собой в следующий Миг». Локк, можем мы сказать, уволок у нас Идентичность, поскольку, согласно ему, Личность вечно меняется: со Дня на День, с Часу на Час, с Минуты на Минуту».
Чтобы один человек мог быть двумя разными людьми! На середине этого трактата я начал то возмущенно, то насмешливо фыркать и, наконец, принялся размышлять о том, как, вероятно, мало общего имеет личность Пинторпа из крохотного прихода в Сомерсете с тем Пинторпом, которого я знал в Шропшире: первый успел за прошедшие годы совершенно рехнуться и теперь, как, наверное, сказал бы мистер Локк, совершенно не похож на себя прежнего. Я задумался также над идентичностью этих странных философов: как они, должно быть, сидят голодные, с ввалившимися глазами, на чердаках, где капает с крыши; их одежда в заплатах, чулки перекручены; на улице они то и дело на кого-нибудь натыкаются, получая в ответ колотушки от людей, которых не узнают и – более того – считают несуществующими.
Я сложил письмо и быстро отбросил его в сторону, заодно с воспоминаниями о таверне «Резной балкон», но тут наткнулся взглядом на второе, куда более желанное, надписанное знакомым затейливым почерком. На листке, испускавшем тонкий аромат, леди Боклер кланялась мне и приносила «самые искренние Извинения за то, что наша Встреча не могла состояться». «Я расстроена до глубины души, – писала она, – так как нисколько не хотела Вас разочаровывать». Она молила о прощении и призывала понять, что «только самая срочная Надобность могла заставить меня отменить нашу Встречу». В заключение она заверяла, что находится в добром здравии, от души благодарила меня за заботу и выражала надежду встретиться со мной завтра вечером в девять.
– Джеремая!
Я ввалился в комнату, и Джеремая поднял голову с подушки.
– Джеремая, – проговорил я, обмахиваясь кремового цвета бумажкой, как веером, – скажи, пожалуйста, кто принес это письмо?
– Джентльмен, сэр, – последовал ответ.
– Тот же самый джентльмен, что и накануне, – добавил Сэмюэл, отрывая от подушки свое бледное лицо. – Я бы его где угодно узнал! Красавец писаный, да и одет как картинка.
Рано утром сэр Эндимион послал меня в лавку мистера Миддлтона на Сент-Мартинз-лейн. По Хей-маркет я дошел до Королевского театра и там обнаружил, что по случаю рыночного дня улицу перегородила дюжина телег с сеном и, того хуже, около сотни человек, которые образовывали толпу не менее плотную, чем гуляки у Панкрасских источников. Я уже приготовился сделать крюк по Пантон-стрит, но тут сообразил, что не взял с собой деньги (на краски требовалось несколько гиней, никак не меньше).
Кляня свою злую судьбу, поскольку день был холодный и мне на лоб уже упали первые капли дождя, я повернул и поплелся назад, на Сент-Олбанз-стрит. Возвращаться мне не хотелось, потому что сэр Эндимион в тот день держался со мной довольно нелюбезно – может быть, из-за того, что накануне вечером позволил себе лишнее за столом. А может, ему не понравилось, как я отозвался о Роберте? Что, если они друзья – близкие приятели? «Неприятный», «грубый» – конечно же, я зашел слишком далеко. «Противный» — какой дьявол тянул меня за язык? Чего же удивляться, что мастеру захотелось этим утром услать меня подальше?
Или же (думал я, ступая по Маркет-лейн, где телег было еще больше) – или же дело в том, что при виде кулона я повел себя в духе лорда Шефтсбери? Я закрыл глаза и увидел изображение так ясно, словно оно было нарисовано на внутренней стороне моих век. Чтобы избавиться от него, мне пришлось тряхнуть головой. Не приснилось ли оно мне? А если этот тревожный образ внедрился в мое сознание благодаря бессчетным кружкам пива? То, что я видел, едва ли возможно. Как сэр Эндимион, чья кисть запечатлела нашего короля, человек гениальных способностей и мой мастер, мог такое изобразить? Настолько противоречила эта миниатюра «Красавице с мансарды» и «Богине Свободы», что еще немного, и я бы поверил вместе с Пинторпом и мистером Юмом: человек день ото дня меняет свою личность – и сэр Эндимион, которого я знал, каким-то образом изогнулся, весь перекорежился, как цирковой акробат, и принял странный новый образ, явившийся мне вчера вечером.
– У вас нет еще ни должного понимания, – звучал у меня в ушах его голос, – ни права, чтобы судить ближних. Вы видите только то, что лежит на поверхности, а вглубь не заглядываете…
У меня были ключи, данные мне сэром Эндимионом, поэтому я самостоятельно открыл дверь и стал подниматься по узкой лестнице. Позднее я гадал, как бы повернулось дело, если бы я ударился тогда, как обычно, головой о балку и вскрикнул от боли? Или по рассеянности ступил на двадцатую, отсутствующую, ступеньку и с шумом скатился вниз? Тогда, конечно, сэр Эндимион узнал бы о моем приближении, и я не увидел бы того, что увидел: жуткого зрелища, которое вытеснило у меня из головы воспоминания о кулоне.
Но я не споткнулся и не вскрикнул, а потому шум услышал не сэр Эндимион, а я: как будто крики, потом глухой удар (я подумал, что-то бросили на пол) и снова крики.
Перепрыгивая через ступени, я помчался наверх. Еще не достигнув последнего поворота, я понял, что это кричит мужчина – сэр Эндимион.
– Ну вот, – сказал я себе, – она и добралась до и мастера! Эта чертовка хочет его убить!
Я схватил лопатку для угля, которая лежала у двери, и вбежал внутрь, запнувшись, как обычно, на наклонном полу. В комнате никого не было, на мольберте стояла «Богиня Свободы», испуская запах скипидара и желтого аурипигмента, не способный заглушить сильный и резкий букет «Дурацкой отрады». Крики раздались вновь, более звучные и настойчивые. Похоже было, что в маленькой комнате происходит битва. Я вскинул лопатку и бросился туда.
Шум стоял такой, что секунду или две комбатанты меня не замечали: я почти успел, опустив лопатку, отступить, прежде чем свалилось, сбитое размашистым жестом, покрывало, которое прятало сцепившуюся парочку. Моему изумленному взору явилась самая нескромная и скандальная картина: ожившее изображение с кулона, обрамленное ромбовидным дверным проемом. Некстати соскользнувшая завеса открыла мне мастера, который простерся над низким ложем почти в той же позе, что Секст Тарквиний, только без льняной сорочки и красного кушака, да и вообще без всякой одежды, в том числе без парика, в отсутствие которого его голова оказалась абсолютно лысой. Его Лукреция (я не мог заставить себя отвести взгляд от этой картины) раболепно пригибалась под ним, точно так же лишенная всяких покровов; ее белые руки и ноги и туловище, еще белее, находились полностью на виду, как и средоточие желаний мастера, с готовностью ему открывшееся, когда оба упали на ложе.
Что это было за зрелище! Не та пухлая Венера с миниатюры, с округлым животом, плавной линией бедер, шарами грудей, – нет, худощавая фигура с неразвитыми формами; тонкое туловище охватывал, как расширенные к концам пальцы ведьмы или колдуньи, рисунок ребер, на плечах виднелись белые шрамы, похожие на следы давней порки. Подлинная Жизнь не имела ничего общего с Искусством!.. Но, как ни странно, несмотря на свою хрупкость, Элинора дергалась и извивалась с той же энергией, что и ее партнер. Видно, она использовала нынче для других целей те силы, что шли обычно на дикие выходки со швырянием саламандры. Ее желтые волосы веером разлетелись по постели, голова вертелась туда-сюда, словно бы Элинора, не открывая глаз, следила за стремительными движениями игроков в теннис. Лицо ее было запрокинуто. Из уст Элиноры вырывались поразительные звуки – я и не знал, что женщины могут подобные издавать.
– Ах, господин, – кричала она, – не щадите меня… не щадите, господин… о! о! о!
– Ах ты, шлюха, – присоединился к ее выкрикам голос мастера, – получай, девка, получай!
Не отрывая глаз от этого помрачающего ум, но все же столь притягательного зрелища, я попятился. Пол скрипнул, Элинора открыла глаза и издала звук иного, не столь ликующего, как прежде, тембра, чем вспугнула сэра Эндимиона. Он застыл и смолк, и передо мной воздвиглась его безволосая – с пятнистой, как спинка голубя, макушкой – голова, с выражением одновременно негодующим, пристыженным и удивленным.
Те же, и еще более сильные, чувства отразились, конечно, и на моем лице, поскольку сложение мастера поражало еще больше, чем фигура его дамы. В ужасе выпучив глаза, я мог только повторять про себя: «Увы, Витрувий, увы, Фидий, – как же вы ошибались!» Ибо в нагом теле мастера, которое беспомощно барахталось передо мной, не наблюдалось ни одной совершенной черты – от пятнистой макушки голого черепа до ягодиц, красных, как у бабуина, и сморщенных, как щеки старика.
– Мой парик! – вскричала эта неузнаваемая фигура и потянулась к красивому зеленоватому парику, лежавшему на закрытом стульчаке. – Мой парик, бога ради, дай мне парик!
Я медленно побрел к Сент-Мартинз-лейн и взял пигменты у мистера Миддлтона в кредит. Затем, еще более замедлив шаг, отправился в обратную дорогу.
Снова и снова у меня в ушах звучал голос сэра Эндимиона: «У вас нет еще ни должного понимания, ни права, чтобы судить ближних…»
Так ли? Нет. Да. Нет. Я не знал. Лишь одно мне было известно: пелена, соскользнувшая двумя часами ранее, открыла мне нечто большее, чем два дергавшихся тела, – она столкнула меня с одной из загадок этого мира. Голова у меня шла кругом, словно я оседлал крыло мельницы, которое вращается так быстро, что я не могу ни видеть, ни чувствовать, ни думать.
«Вы видите только то, что лежит на поверхности, а вглубь не заглядываете…»








