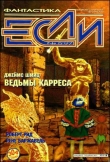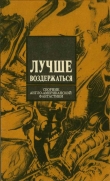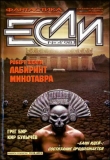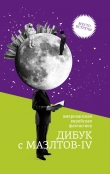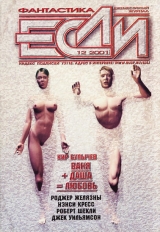
Текст книги "Журнал «Если», 2001 № 12"
Автор книги: Роджер Джозеф Желязны
Соавторы: Кир Булычев,Роберт Шекли,Роберт Сильверберг,Андрей Синицын,Владимир Гаков,Кейдж Бейкер,Нэнси (Ненси) Кресс,Джек Уильямсон,Роберт Рид,Дмитрий Караваев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
– Хелен, я клянусь… – выдавил он, задыхаясь, – что там лежало колье!
Вскочив, бедняга выбежал в вестибюль. Долливер немного поколебался, прежде чем подхватить колье и сунуть в собственный карман.
– О-о, Господи, – в отчаянии возопил Эдгар, обыскав ковровую дорожку и принимаясь звонить в колокольчик. – Черт побери, Хелен, оно должно быть где-то здесь… сейчас вызову слуг, пусть помогут искать…
– Ты волен делать все, что угодно, Эдгар, – холодно отозвалась Хелен. – Я хочу кофе. Сообщишь, когда умудришься хоть что-то сделать, как полагается.
В вестибюле началась суматоха: портье и парочка официантов, среди которых не было Билли, выбежали из боковой двери и принялись за поиски. Трясущийся в ознобе Долливер спрятался в столовой. Хелен там не было. Немного погодя в вестибюле вновь воцарилась тишина, и Эдгар поднялся наверх. Долливер прокрался в салон и уселся на диван перед умирающим огнем. Он-то знал, где сейчас Хелен и что делает.
Официант, снова не Билли, прошелся по салону, собирая десертные тарелки и кофейные чашечки, оставленные гостями. Несколько минут спустя возник мужчина в коричневом свитере и принялся тушить лампы и гасить свечи. Сегодня ночью шум прибоя казался особенно громким.
* * *
Долливер был уверен, что после такого навеки лишится сна и отдыха, но перед рассветом все же сумел задремать. Проснулся он от леденящего холода. Все тело затекло и тупо ныло, словно от побоев. Кое-как обретя подвижность, он огляделся и обнаружил, что лежит на голом полу большого обветшалого помещения… чего, впрочем, и ожидал. Камин широко разевал черную пустую пасть, грязные доски пола поскрипывали, по углам скопились горы мусора. Ветки ежевики лезли в окна. Долливер выскочил наружу. Пальто так и висело на покосившихся перилах. Ни одной машины. Дорога заросла сорняками, верхние окна глядели на мир слепыми глазницами выбитых стекол. Долливер натянул пальто и пошел своей дорогой.
Ему удалось заложить одну из брошей в Сан-Франциско и получить достаточно денег, чтобы хватило на новый костюм. Это значительно облегчило ему сбыт остальных драгоценностей. Уже через неделю он нашел работу – очередная шутка судьбы, потому что теперь его обстоятельства не были столь отчаянными: одно колье сделало его состоятельным человеком.
Правда, угрызения совести по-прежнему донимали его, хотя он твердил себе, что ни сам он, ни Суит не могли повлиять на исход той ночи двадцать восьмого года. В конце концов, решение принадлежало не ему. И никому, кроме Хелен Тистлуайт, разорвавшей помолвку с молодым маклером и сбежавшей с официантом Юстасом Уильямом Долливером. По крайней мере, так гласила семейная легенда.
Kage Baker. «Merry Christmas from Navarro Lodge, 1928», 2000 г.
Перевела с английского Татьяна ПЕРЦЕВА
Критика
Евгений Харитонов
ВЕК НЕРОЖДЕННЫХ
В «Если» № 6 за этот год мы рассказали читателям об истории зарубежной НФ-журналистики, утвердившей жанр на литературной сцене, и пообещали в ближайших номерах обратиться к родным пенатам. В ту пору пенаты мыслились достаточно скромно, однако по мере сбора материала выяснилось: и нам есть что вспомнить и чем гордиться. Поэтому подготовка данной публикации заняла больше времени, чем предполагалось. Будем надеяться, что это – к лучшему.
Все любители фантастики давно привыкли к мысли, что самое первое НФ-издание называлось «Amazing Stories» и создал его в 1926 году легендарный Хьюго Гернсбек. Это мнение серьезно поколебала статья Вл. Гакова «Создатели жанра» (см. «Если» № 6, 2001 г.), который выяснил, что все-таки первым журналом фантастики можно назвать шведский «Hugin» («Мысль»), выходивший под твердым редакторским надзором писателя-фантаста Отто Витта с 1916 по 1920 год! В конце концов, для истории не столь важно, кто посадил первый росток. Важно – у кого он принес плоды. И в качестве садовника Хьюго Гернсбек, конечно же, оказался успешнее своих предшественников. Но все же…
Все же прислушаемся к негромкому голосу исследователя фантастики В.И.Бугрова. Именно он отыскал пионера НФ-журналистики – и нашел его в России.
* * *
Первый номер журнала «Идеальная жизнь» увидел свет в октябре 1907 года – за девять лет до старта «Hugin» и за девятнадцать – до «Amazing Stories». Свои задачи журнал определил в редакционной статье: «Мы хотим наших читателей познакомить с наиболее выдающимися произведениями той литературы, которую главным образом интересует жизнь будущего. Мы хотим показать, какие каждая эпоха выдвигала запросы, идеалы и стремления, порой удивительно смелые, порой весьма наивные и фантастические, временами же весьма трезвые и не оторванные от действительности». Как видим, позиция заметно отличалась от гернсбековской, ставившей во главу достижения науки и техники. Создателей же «Идеальной жизни» интересовала не столько наука, сколько общество, эволюция не технической мысли, а социальной. Проще говоря, это был первый в мире журнал СОЦИАЛЬНОЙ фантастики.
Подтверждая намеченные ориентиры, редакция поместила в первом номере программную статью (видимо, тоже редакционную, поскольку не была подписана), которая так и называлась – «Значение утопий»: «Утопии – не пустая болтовня наивных фантазеров. Лучшего агитационного приема, лучшего, более верного способа пропаганды, более надежного орудия борьбы с существующими предрассудками, неуверенностью, нерешительностью нельзя придумать».
Рождение такого издания в России того периода вполне закономерно: страна переживала серьезные социальные и политические потрясения, для многих вопросы «Что делать?», «Куда ж нам плыть?» не были праздными. А утопическая литература, так или иначе, пыталась дать ответы на эти вопросы. Показательно название и постановочной статьи Д.Городецкого, помещенной во втором выпуске: «Попытки осуществления идеальной жизни на земле». Впрочем, публикация этого материала так и не была завершена – вероятно, по цензурным соображениям.
Разумеется, не из одних статей состояли номера журнала. Опубликовать обещанные в первом номере «Утопию» Т.Мора и «Взгляд назад» Э.Беллами редакция не успела, зато были напечатаны нашумевший в свое время фантастический роман Э.Бульвер-Литтона «Грядущая раса» и утопия У.Морриса «Вести ниоткуда».
Первый в истории журнал фантастики просуществовал всего три месяца, успев выпустить пять номеров – последний, сдвоенный, вышел в декабре того же 1907 года.
«Идеальная жизнь» была первым «профильным» изданием, однако фантастика печаталась в журналах и раньше. Например, на страницах старейшего в России научно-популярного журнала «Вокруг света». Почти с самого момента своего рождения в 1861 году (тогда он выходил в Санкт-Петербурге под редакцией Л.Разина в издательстве М.О.Вольфа и имел подзаголовок «Журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений») это издание отдавало немало страниц под публикацию научных фантазий – как переводных, так и отечественных. В дальнейшем журнал претерпел немало реинкарнаций, но фантастика оставалась его неизменной составляющей. К этому изданию мы еще вернемся. Печатали до революции НФ (в одной упряжке с приключениями и путешествиями) и другие не менее популярные журналы – «На суше и на море», «Природа и Люди», «Журнал приключений».
Особое место в этом ряду занимает «Мир приключений» П.П.Сойкина (1910–1930), предтеча будущего «Искателя». «Мир приключений» начал выходить в 1910 году в качестве приложения к другому журналу – «Природа и Люди», но уже с 1924 года обрел самостоятельный статус. В 1920-е годы объем фантастических текстов в нем значительно превышал все остальное. На его страницах увидели свет первая отечественная «космоопера» – роман Н.Муханова «Пылающие бездны», произведения Вл. Орловского, В.Никольского, Л.Арабескова, А.Горша и других лидеров советской НФ той поры; много печаталось переводной фантастики. Издание было богато иллюстрировано, с ним тесно сотрудничал один из лучших графиков НФ М.Я.Мизернюк. Но деятельность «Мира приключений» не ограничивалась одной лишь публикацией произведений. Редакция, кажется, первой в стране стала проводить ежегодные конкурсы на лучший НФ-рассказ среди начинающих авторов, появлялись на страницах и критико-библиографические материалы.
В 1920-е страна переживала настоящий бум научной фантастики. И главным «поставщиком» НФ были научно-популярные журналы. Десятки имен, многие из которых не известны современному читателю, десятки произведений, поражающих разнообразием – и «твердая» НФ, и приключенческая, и детективная, и, конечно же, шпионская. Сражения на земле и в космосе, невероятные научные открытия и изобретения, путешествия во времени и в параллельные миры – все это было на страницах журналов тех лет. Ну чем не «Золотой век» журнальной фантастики.
В 1920-е не уступал в популярности «Миру приключений» и «Всемирный следопыт» (1925–1930) – ежемесячный иллюстрированный журнал путешествий, приключений, охоты, спорта и научной фантастики, также львиную долю содержания отдававший под публикацию новинок НФ и критических материалов. Кроме того, журнал издавал ежемесячные приложения – сборники «Библиотека «Всемирного следопыта».
В эти же годы новую жизнь обрел журнал «Вокруг света». Точнее – обрели, поскольку в 1927 году появилось сразу два издания-«однофамильца»: один, десятидневный, выходил в Москве в качестве бесплатного приложения к «Всемирному следопыту», другой – «ежемесячный журнал сюжетной литературы, научной фантастики, приключений, путешествий и открытий» – в Ленинграде. Московский (1927–1930), хоть и имел полугазетный облик, существенно выигрывал у ленинградского собрата за счет большего разнообразия содержания. С журналом сотрудничали многие известные фантасты той поры, именно на его страницах впервые увидели свет роман А.Беляева «Человек-амфибия» и многие другие произведения писателя, публиковались критические материалы, посвященные НФ, печатались статьи на околофантастические темы (например, футурологические очерки о городах будущего, науке завтрашнего дня и т. п.).
Впрочем, и ленинградский «Вокруг света» (1927–1931) сделал немало для популяризации НФ, в первую очередь – зарубежной. Достаточно вспомнить, что в 1930 году по инициативе Я.И.Перельмана редакция затеяла постоянную рубрику «Мастера научной фантастики», в которой публиковались рассказы, повести и фрагменты романов зарубежных фантастов. Каждая публикация сопровождалась предисловием Перельмана, в котором известный ученый-популяризатор не только представлял автора, но и подробно рассматривал заложенную в произведении научную идею.
В 1931 году все эти журналы были закрыты, а «Вокруг света» реорганизован, с тех пор выходил только один журнал под патронажем ВЛКСМ – бледная копия ленинградского предтечи с вялым фантастическим наполнением в духе параноидальной псевдо-НФ 30-х. Так продолжалось до конца 50-х годов.
* * *
С приходом оттепели и появлением «Туманности Андромеды» оживилась фантастическая жизнь. В общем потоке полемических публикаций по различным вопросам фантастической литературы впервые прозвучала мысль о необходимости специализированного периодического издания. В 1961 году по инициативе А.П.Казанцева была реализована идея выпускать в качестве приложения к «Вокруг света» журнал фантастической и приключенческой литературы. С первых же номеров «Искатель» приобрел феноменальную популярность, хотя оказался не ежемесячником, как хотелось, но выходящим раз в два месяца изданием. По типу он, скорее, напоминал альманах, однако помимо художественных произведений в книжечках «Искателя» образца 1960-х время от времени публиковались научно-популярные, критические и историко-литературные материалы. Благодаря сотрудничеству с журналом Е.П.Брандиса, в «Искателе» некоторое время фигурировала рубрика «Листая старые страницы», в которой публиковались забытые произведения из довоенных журналов. Но все эти журнальные элементы, к сожалению, не прижились в «Искателе» – уже к 1970-му году его номера превратились в сборники произведений, причем фантастику серьезно потеснила детективная и приключенческая литература. И все же отдадим должное первопроходцу отечественной НФ-периодики: немало лет он добросовестно утолял читательский голод, немало интересных авторов заявили о своем существовании с его страниц.
В какой-то степени отсутствие журнала вocпoлнял поистине культовый альманах «НФ» (1964–1992) рожденный в недрах издательства «Знание». С формальной точки зрения, это были, конечно же, сборники (начиная с 16-го выпуска они почти все выходили в твердом переплете), однако с элементами журнальной модели: постоянным в альманахе был обширный критико-публицистический раздел, в 1979-м добавилась информационная рубрика «Меридианы фантастики», освещавшая наиболее примечательные события фантастической жизни планеты за последние год-два.
Журналов НФ в чистом виде у нас не было, и все-таки 1960—1980-е в истории отечественной фантастики смело можно назвать «журнальным периодом» – самые интересные образцы НФ бытовали в научно-популярных журналах: «Техника – молодежи», «Знание – сила», «Химия и жизнь», «Юный техник»… Они же оказались пристанищем для молодых авторов, «кузницей НФ-кадров». И не только НФ. Достаточно вспомнить, что Виктор Пелевин дебютировал в конце 80-х в «околофантастическом» журнале «Знание-сила». Время от времени «заигрывали» с фантастикой известные литературные журналы – «Аврора» «Иностранная литература», «Даугава», а в сугубо научном гуманитарном издании «Советская библиография» (ныне – «Библиография») в 1980-е появилась даже регулярная рубрика «Библиография фантастики», долгое время добросовестно заменявшая отсутствующий и поныне жанровый критико-библиографический печатный орган.
И все же самым значительным явлением тех лет стал «Уральский следопыт». Именно этот журнал два десятилетия выполнял функцию несуществующего специализированного периодического издания. В 1966 году в журнал пришел Виталий Бугров, и в «Уральском следопыте» появился официальный раздел фантастики. Сегодня даже затруднительно перечислить всех авторов, прошедших через школу «УС». Примечательно, что с 1960-х журнал не просто систематически публиковал отечественную НФ, но и отдавал ей предпочтение в объеме. В 1991–1992 годах была даже предпринята попытка создать журнал в журнале («Аэлита») – со своей обложкой, персональной нумерацией.
И еще один немаловажный момент.
Как с читательского раздела Forum в «Amazing Stories» начался американский фэндом, так с рубрики «Мой друг – фантастика» и ежегодной НФ-викторины «Уральского следопыта» начался фэндом отечественный. «Следопыт» выполнял функцию не только печатного органа фантастов и критиков, но и координационного центра любителей фантастики. Стоит ли напоминать, что именно при непосредственном участии журнала в СССР был проведен в 1981 году первый конвент «Аэлита» и учреждена одноименная профессиональная премия в области фантастики – опять же первая в стране.
Вспоминая о предтечах российской НФ-журналистики, необходимо упомянуть и тематические номера в обычных журналах, целиком посвященные НФ. В числе первых выступило ныне не существующее критико-библиографическое издание «Современная художественная литература за рубежом», в 1975 году (№ 4) целиком посвятившее номер критическим, обзорным и библиографическим материалам о зарубежной НФ. Фантастике Чехии и Словакии посвящен № 8 за 1986 год журнала «Панорама чешской литературы», тоже ныне прекратившего свое существование…
Ближе всего к концепции журнала НФ подошел минский журнал «Парус». В 1988–1990 гг. каждый седьмой номер года целиком отдавался фантастике. В 1990-м из этих «семерок» родился первый профессиональный журнал НФ «Фантакрим-MEGA».
(Окончание следует)
Крупный план
Андрей Синицын
НУ А ТЕПЕРЬ – О ЛЮБВИ
Долгий путь проб и ошибок наконец привел издательство «Новая космогония» к настоящему коммерческому успеху. Целый год издательство экспериментировало, выпустив более десятка романов, нестандартных как по форме, так и по содержанию. Однако правильное позиционирование и успешный менеджмент позволили издателям привлечь к своим книгам довольно широкий круг читателей: от традиционной аудитории любителей фантастики до маргиналов всех мастей и ориентаций. Эклектичный, на первый взгляд, состав серии странным образом объединил достаточно разновекторную публику.
Однако «Новая космогония» попыталась пойти еще дальше и интегрировать своих читателей не только в рамках одной серии, но в рамках одной книги. И это издательству удалось. Цифры говорят сами за себя. Первоначальный пятитысячный тираж книги Инги Лавренцовой «Любовь патологическая и земная» за неполных три месяца продажи вырос почти в десять раз. Казалось бы – несомненный успех. Но не будем торопиться.
Самый поверхностный анализ текста указывает на то, что он написан мужчиной. Повествование ведется от первого лица персонажем по имени Анджей Снегурский. Сам роман, по сути, представляет собой описание поведения героя, которым движет исключительно его либидо. И описание, надо сказать, мастерское. Если же к этому добавить, что действие происходит в мире, как две капли воды похожем на тот, что описан в дилогии «Звездная тень» Сергея Лукьяненко, врача-психиатра по образованию, то возникает резонный вопрос: не является ли имя Инга Лавренцова псевдонимом известного писателя?
Итак, перед нами Земля недалекого будущего. Наша планета имеет статус наблюдателя при галактическом Конклаве. Люди – в качестве Слабой расы – находятся под консультативной опекой Сильных рас. В один отнюдь не прекрасный день XXI века, столкнувшись с колоссальной космической мощью, они автоматически были низведены до уровня обслуживающего персонала дорогой гостиницы.
И все же человечество заслужило право на жизнь и относительную свободу благодаря своей уникальной способности к творчеству и абстрактному мышлению. В одночасье художники, писатели, музыканты, кинематографисты, а также дизайнеры и кутюрье стали супервостребованными профессиями. Столетиями бороздящие Вселенную прагматичные пришельцы были потрясены этой сферой деятельности землян. Любые их попытки воспроизвести увиденное в собственной среде оказывались безуспешными. Из беллетристического опуса получался бухгалтерский документ, из живописного полотна – идеальная фотография, из кинофильма – документальный репортаж. И тогда на совете Конклава было принято решение превратить Землю в «резервацию искусства». Людей кормили и одевали, позволяли свободно перемещаться, лишь бы они творили: любовные романы для Алари, кинобоевики для Даэнло, пейзажи для Хикси и шлягеры для Торпп.
Как известно, лилиям прясть негоже: бароны пируют, скоморохи развлекают. Поэтому все произведения землян создавались без непосредственного участия Сильных рас. Небесные покровители лишь снабжали творцов-людей необходимыми технологиями и материалами. Таким образом, ко времени начала повествования 40 % населения Земли составляла богема, другие 40 % – обслуживающие их технари, а оставшиеся 20 %, как, наверное, догадались наиболее продвинутые читатели, занимались космическим извозом.
Главный герой романа, писатель Анджей Снегурский, получает от своего литературного агента необычный заказ. А надо сказать, что Анджею не привыкать сочинять любовные романы из жизни негуманоидов. Он прекрасно изучил материал, знает все подводные камни. Из-под его пера вышло уже более двадцати книг, некоторые из которых стали бестселлерами. Новый же проект необычен тем, что это должно было быть повествование о любви землянина к девушке гуманоидной расы с планеты Аракс. Снегурский вообще не представляет, что в Конклав входит какая-то гуманоидная раса, кроме человечества. Он пытается навести справки, но БВИ (Большой Всемирный Ин-форматорий) данных об Араксе не выдает.
После прихода Чужих на Земле пышным цветом расцвело множество сект. И членом Церкви Бумажного Носителя состоит наш модный автор. Прихожане собираются каждую четную пятницу месяца, читают книги, напечатанные на настоящей бумаге, пьют натуральное вино, едят свежее мясо и овощи и предают анафеме все технологии, появившиеся на Землю вместе с пришельцами: в основном дешевую синтетическую пищу (между прочим, раз и навсегда решившую проблему голода) и «безосновные» носители информации (между прочим, позволившие создать БВИ). В общем, ребята вполне неплохо устроились.
Заявившись в расстроенных чувствах на очередную такую мессу, Снегурский сталкивается там с миловидным существом по имени Инга (!), которая, конечно же, оказывается уроженкой планеты Аракс, прибывшей к нам для изучения земной литературы. Узнав о затруднениях Анджея, она с энтузиазмом берется ему помочь. С этого момента фантастика плавно перетекает в психоделику. Структура повествования претерпевает серьезные изменения. Теперь все подается как текст нового романа Снегурского, в котором он описывает свои реальные отношения с Ингой.
В первый же вечер молодые люди становятся любовниками. Сцена их встречи описана очень ярко и предельно откровенно. Снегурский уже не в состоянии думать ни о чем другом. Страсть пожирает его. Тут-то Инга и предлагает сочетаться законным браком – но по законам ее родной планеты. Не раздумывая ни минуты, Анджей соглашается. Кабина «нуль-Т» переносит наших героев в посольство Аракса на Земле. Там все уже готово к церемонии. В тело Снегурского что-то втирают, он что-то выпивает, после чего его одевают в пурпурные одежды сестры Инги (оказывается, на Араксе все женщины – сестры) и отпускают с миром. Через некоторое время он очнется у себя дома рядом с молодой женой, которая, заявив: «Теперь я всегда с тобой», категорически откажет ему в близости и, чмокнув в щечку, упорхнет изучать земную литературу. На протяжении почти ста заключительных страниц романа сознание героя пребывает в раздвоенном состоянии. С одной стороны, он работает над книгой, ходит в свою церковь, беседует с коллегами, с другой – видит и воспринимает мир, как воспринимало бы его существо иного пола. В своих видениях он принимает участие в ужасных оргиях с негуманоидами, посещает злачные места, заполненные совершенно невероятными посетителями, принимает участие в непонятных обрядах. В минуты просветления он видит склонившуюся над ним молодую жену, которая повторяет из раза в раз:
– Почему ты не хочешь мне помочь? Люби меня!
– Так я же люблю тебя.
– Это любовь земная, а мне нужна настоящая. Наконец, в момент очередного видения Снегурский узнает квартиру лучшего друга и вдруг отчетливо осознает, что видит мир глазами Инги. Анджей бросается вон из дома и по дороге понимает, что и раньше это был не бред, а страшная реальность его жены. В бешенстве он врывается к другу и убивает любимую женщину несколькими выстрелами в упор. Оперативники, прибывшие на место преступления, по законам Конклава препроводили его для суда в посольство Аракса. А там выясняется, что по обычаям этой планеты он ни в чем не виноват.
Проснувшись утром, Снегурский обнаруживает, что из БВИ пришел ответ на его запрос об Араксе. Справка, описывающая религиозные, этнические и физиологические особенности жителей этой планеты, полностью объясняет поведение Инги. Оказывается, после зачатия ребенка супруги не имеют права на физическую близость, но они проходят обряд бракосочетания и превращаются в единое психическое тело. Все эмоции и ощущения, испытываемые одним супругом, становятся доступны и другому. Таким образом они подпитывают энергией плод, зреющий в утробе матери. Ничего не понимающий Снегурский своим пребыванием в вечной депрессии фактически принудил Ингу к экстремальным действиям, а принятые на Араксе этические нормы не позволили ей объясниться с супругом.
Центральное место в полученной справке было посвящено легенде о явлении Мессии. Родиться он должен был от любви святой сестры Аракса и чужеземца-книжника. В зрелости ему надлежало вывести мир как отца, так и матери из бездны, в которую они пали, к солнцу и небу.
Прочитав все это, Анджей испытывает огромное желание повиниться перед сестрами Инги. Он направляется в резиденцию Аракса, но обнаруживает на ее месте лишь стоянку геликоптеров. Вернувшись же, Снегурский не находит в своем компьютере никакого ответа от БВИ, более того, там нет и запроса. Зато на столе лежит готовая рукопись романа «Любовь патологическая и земная».
Конечно, популярность книги Лавренцовой обусловлена, в первую очередь, ее скандальностью и эпатажностью некоторых сцен. На художественные достоинства этого романа обращают куда меньше внимания. Между тем они очевидны. По тексту разбросаны аллюзии и реминисценции. Тут и «Второе нашествие марсиан» А. и Б.Стругацких, и «Дюна» Ф.Херберта, а заодно – Ф.Дик и Ф.Фармер. Заметно также влияние эстетики Дэвида Линча и «догмы» Ларса фон Триера. Накойец, сцены оргий с хиксоидами и алари откровенно заимствованы из «Жюстины» маркиза де Сада. Но главное не в этом. Основной темой, красной нитью проходящей через все повествование, является тема свободы, причем в экзистенциальном смысле. Фраза, сказанная одной из сестер Инги Снегурскому после совершенного им убийства, на мой взгляд, является ключом, позволяющим разгадать ребус, составленный автором: «Мы не будем тебя судить, поскольку ты сам – жертва. Но твой мир, мир, в котором условности принимаются за истину, рано или поздно судим будет».
Андрей СИНИЦЫН