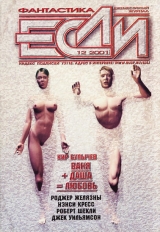
Текст книги "Журнал «Если», 2001 № 12"
Автор книги: Роджер Джозеф Желязны
Соавторы: Кир Булычев,Роберт Шекли,Роберт Сильверберг,Андрей Синицын,Владимир Гаков,Кейдж Бейкер,Нэнси (Ненси) Кресс,Джек Уильямсон,Роберт Рид,Дмитрий Караваев
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Он еще не успел скрыться с глаз, как я уже сообразил, куда пойду.
Туда, где меня не будут искать.
Никто не подумает, что я смогу туда направиться.
Я быстро прошел по коридору между операционными. Там уже было людно, но никаких сигналов еще не поступало. Наверное, охране было приказано изъять меня без шума.
Они опасались лишних свидетелей. Возможно, в бригаде хирургов были люди, которые не подозревали, что чужие органы попадают в наш Институт не случайно, а выращиваются вместе с людьми.
Ах, как много было болтовни по поводу появления на свет овечки Долли! Клонирование опасно! Клонирование ужасно! Не ходите, дети, в Африку гулять! Так будут создавать солдат!
Пока что солдат создавать нерационально, потому что ценность нынешнего солдата определяется не его мышцами, а знаниями, которые передать клону сразу не удается. Может, когда-нибудь научатся, и тогда сперма полковника «N» станет продаваться на международных рынках по цене бриллиантов. А пока оказалось, что деньги под клонирование можно получить, если клон тоже будет платить за право существовать.
Я дошел до боксов.
Прошел мимо палаты с маршалом, который оказался другим. Возможно, старшим лейтенантом запаса, не более того. А вот в одном из дальнейших боксов должна лежать, и ее готовят к операции, сама певица Травиата, кумир толпы.
Я отыскал ее бокс.
По оживлению вокруг нее, по суете, закрывающей мне путь внутрь.
Напротив и чуть наискосок была кладовка.
Такие кладовки появляются в нужном месте и в нужный момент, чтобы герой авантюрного романа мог в них спрятаться и дождаться того момента, когда коридор опустеет.
Так случилось и со мной. В конце концов я и есть герой авантюрного романа.
Напротив палаты, в которой поместили Травиату, и чуть наискосок был стенной шкаф, где хранились щетки, швабры, пылесос, банки с краской от какого-то из последних ремонтов и еще масса ненужных вещей, которые не давали возможности уютно устроиться, но по крайней мере помогли мне укрыться от преследования. Охрана отчаянно искала меня по закоулкам нашего отделения, перевернула все у женщин, в бассейне – где только они не рылись! Даже в кабинетах врачей, но вот хирургическое отделение, особенно тот отсек, который был выделен для завтрашней операции, казался им бесперспективным.
Я даже соснул немного. Потому что суета в коридоре никак не утихала.
Движение времени было для меня условным.
Я вылавливал какие-то мгновения, но точно о его течении не знал. Например, уже глубоко вечером в коридоре остановились две сестры, одна из них уходила домой и стала говорить товарке, что спешит, потому что боится опоздать на метро. Метро, я слышал, закрывают за полночь. Я пытался считать, вспоминал стихи, дремал…
Наконец я убедил себя, что пора идти.
Позже Институт уже начнет просыпаться.
Тело мое, хоть и затекло, умоляло меня еще повременить, ему так не хотелось решений и поступков.
Я вылез.
Постоял, готовый в любой момент нырнуть обратно в чуланчик.
Никого. Даже в концах коридора никого.
Я медленно открыл дверь в палату.
На обыкновенной койке лежала обыкновенная девушка.
Она была совсем не похожа на ту Травиату, которую я видел по телевизору и в журналах.
А похожа она была на Дашу.
Волосы прямые, русые. А почему она блондинка на сцене? Лицо бледное, скорее миловидное, но не более того.
Она была подключена к капельнице, за кроватью стояли мониторы – видно, они хотели перед операцией знать все, что происходит у нее внутри.
Я подошел к кровати.
Кровать была высокая. Куда выше той койки, на которой мы чуть было не поженились с Дашей.
Когда я подошел к ней. Травиата открыла глаза.
– Я не сплю, – сказала она. – Извините. Я знаю, что нужно спать, но ничего не получается.
– Это хорошо, – сказал я. – А как тебя вообще зовут?
– Вообще? Полина.
– А в самом деле?
– И в самом деле… Лариса, а что, не нравится?
– Нормально.
Она устало прикрыла глаза.
Я смотрел на нее и думал: ну ничего в ней особенного, тем более того, что показывают по телевизору. Даже имени у нее своего нет.
– Дышать трудно, – сказала она, приподняла слабую руку, показала на монитор. – Видишь, как прыгает?
– Вижу.
– Мне должны операцию сделать, – сказала она. – А сейчас состояние стабильное.
– А что у тебя?
– У меня врожденный порок, а недавно в нем что-то случилось, и у меня уже клиническая смерть была, честное слово!
Она же совсем еще молодая!
– Мне сердце будут пересаживать, – сказала Травиата. – Интересно, я завтра могу проснуться, а могу и не проснуться. А ты тоже здесь лежишь?
– Нет, – сказал я. – Я здесь работаю.
– А ты садись, – предложила Травиата. – Посиди со мной. Я сестру отпустила поспать. Представляешь, она призналась, что на свадьбе гуляла у подруги и совсем не спала. А сказать никому нельзя – выгонят. Смешно?
У Травиаты был южный говор, она даже ударения ставила неправильно.
– Ты с юга?
– Не, – сказала она, – с Краснодара. А ты?
– Я здешний.
– А я Москву не люблю, – призналась Травиата.
Я понял, что мне хочется говорить с ней и, может, даже подружиться. Хорошая девочка, нормальная. Но у меня совсем мало времени.
– У меня здесь квартира есть и коттедж в Барвихе. Я маму сюда хотела привезти, а она не поехала. У нее там хозяйство. Я ей говорю: на фига тебе хозяйство? А она мне говорит: ты лучше мне материально помогай, а я буду в банк деньги дожить. А то пропадет твой голосок, на что жить будем? Смешно?
Я пожал плечами.
– Ты замужем? – спросил я.
– А ты разве не читал в журналах? Ну, ты смешной. Я же разошлась. Он миллионер, такие букеты мне приносил! Но я в кино решила устроиться, а он стал к режиссеру ревновать, дурачок какой-то, у нас ведь за все платить надо.
– Ты с какого года?
– Я уже не молодая, но только кажусь молодой. Мне скоро двадцать два. А ты чего спрашиваешь?
– А моей девушке восемнадцать, – сказал я.
– Смешно! Когда мне восемнадцать было, кто меня знал? В самодеятельности выступала.
– А ты знаешь, откуда тебе сердце возьмут?
– Ой, я думала об этом! Честное слово, думала. Я думала, а вдруг это мужское сердце, тогда у меня волосы будут расти! Ужас какой-то! Или плохой человек. Я не переживу.
– Но ведь не откажешься?
– Тебя как зовут?
– Иваном.
– Ваня, а ты бы отказался? Я так жить хочу!
– Только ты одна жить хочешь?
Она не совсем поняла мой вопрос, закрыла глаза, лоб у нее был мокрый, она устала. Я взглянул на монитор. Сердце ее билось чаще, но мельче.
– Мое искусство миллионам людей нужно, – сказала она наконец. – Ты не представляешь, как меня все любят! Я сознание вчера потеряла на сцене, говорят, некоторые хотели покончить с собой, а сюда меня перевезли по личному указанию министра здравоохранения. У него мое дело на контроле.
– Так тебе не сказали про сердце?
– Я же тебе говорю, что мандражу! – В голосе возникла и Умерла визгливая нотка. – Иди, я спать буду. В меня столько накачали наркоты, даже удивительно, что я с тобой разговариваю.
– А я знаю, чье сердце.
Когда я сказал эту короткую фразу, мне сразу стало легче, как Цезарь, перешел Рубикон. Теперь можно расправиться с сенаторами.
– Что ты говоришь, Ванечка?
Как женщина, она почувствовала по моему тону: дело плохо.
– Я люблю эту девушку.
– Ты любил ее? Ужас какой-то. Она умерла, да?
Я не смог ответить, а воображение певицы вдруг понесло ее:
– А твоя девушка красивая, да, добрая? Ой, как хорошо! Мне повезло, в натуре. А я так боялась… А что с ней, под машину попала?
– Она живая, – сказал я. – И даже не знает, что завтра умрет.
– Кончай хохмить!
Ее сердце екнуло, и монитор показал лишний пик.
– Я не шучу. Стал бы я шутить. Подумай – здесь и сейчас. Разве это место для шуток?
– Тогда хоть объясни!
– Ты про клон слышала? Про клонирование?
– Овечка Долли, да? Мне Крутой предлагал такой псевдоним взять, а ребята освистали. Это пускай Свиридова про свою овечку пищит.
– Погоди, послушай меня. Клоны уже есть. Я сам из клона.
– Что это?
– Берут клетки донора, отца, и выращивают их в пробирках. Сколько смогут, столько и выращивают. Я знаю, что сначала нас было двадцать семь. Девять забраковали – процент ненормальности очень велик. Восемнадцать осталось. Нас было восемнадцать, и мы были одним клоном, то есть абсолютно одинаковые! Правда, абсолютного ничего нет, но ты бы нас не различила.
Вдруг она захихикала, лицо сразу ожило, стало таким милым и лукавым.
– Вас в одинаковых колясочках возили, – сказала она.
– Нет, – ответил я. – Мы сразу родились взрослыми. Два года назад. Мы родились в том возрасте, в каком был наш донор, наш отец. Ему было восемнадцать, и его никто не знает.
– И вы ничего не знали?
– В следующий раз объясню, – пообещал я. – Кое-что знали, кое-чему нас учили. Мы – часть большой научной программы.
– А где Долли?
– Если заболел очень большой, знаменитый человек или очень нужный нашей стране, то мы приходим на помощь. Мы… отдаем свою печень, сердце, глаза, чтобы спасти человека.
– Но ведь так погибнуть можно!
– Нас было восемнадцать, а осталось десять.
– Это ужасно!
– Были такие стихи поэта Тихонова: «Не все ли равно, сказал он, где. Пожалуй, спокойней лежать в воде».
– Ты смеешься, да?
– Какой уж тут смех. В соседней палате лежит маршал, летчик, великий человек. Лешенька из нашего клона отдал ему свою печень.
– Да точно врешь!
И я подумал – вот она встанет, захочет проверить, пойдет в соседнюю палату, а там совсем другой, коммерческий пациент. Но она же не пойдет.
– И еще есть другой клон, женский. Там есть девушка, которую я люблю. Она должна завтра отдать тебе свое сердце.
– Помолчи ты со своими глупостями! А то я кричать буду.
– Почему?
– Потому что ты нарочно меня пугаешь. Тебе деньги нужны?
– Ты не веришь?
– Так я тебе и поверила!
– Ты откажешься от операции?
– Никогда не откажуся! Врешь ты все.
– Мою девушку зовут Дашей. Она на тебя немножко похожа. Только не умеет петь. А может, просто не училась петь.
– Так не бывает, – сказала Травиата. Да какая она Травиата – точно, Лариса.
– Почему?
– Потому что их всех давно бы посадили.
– Лариса, – сказал я. – Об этом же не пишут в газетах. Об этом вообще не говорят. Этого нет. И меня нет.
– А у тебя паспорт есть? – спросила Лариса.
– Он лежит в отделе безопасности Института, – сказал я. – Мне так говорили.
– Никто никогда не станет убивать человека.
– А для меня в этом не было ничего удивительного. Я только недавно подумал, что это неправильно. Нас так научили, что человек должен уметь жертвовать собой ради народа, ради родины. Ты знаешь об Александре Матросове, о Гастелло?
– Я знаю про японские харакири, – вдруг сказала Лариса.
– Ничего общего. У нас высокая цель. Я был в этом уверен, но сейчас уже не так уверен. Даже не из-за себя. А потому что моя Даша и ты – вы ничем не отличаетесь. Только ты свое уже пожила, и в «Мерседесе» каталась, и коттедж построила, а Дашка ничего не видела, но очень хочет выйти замуж и родить ребеночка.
– Ой, я тоже хочу ребеночка, – тихо сказала Травиата. – Только мне нельзя. – Она коснулась длинными тонкими пальцами груди слева, показывая, что виновато больное сердце.
– Ты откажешься от операции!
– Не говори глупостей, Ваня, – сказала она. – Ты псих, но должен понимать, никто меня слушать не будет. Они сделают как надо, даже если бы ты не придумывал, а в самом деле такая фабрика работала, чтобы из людей людей делать. Они же в этом никогда не признаются.
– Тогда уходи, – сказал я.
– Как так – уходи?
– Вставай и уходи.
– Мне нельзя вставать, я умру.
Ну почему я заранее все не продумал? Я решил было, что расскажу правду Травиате, она поймет и уйдет из Института. И Дашку не тронут.
– Но что мне делать? – взмолился я.
– Пускай Даша твоя уходит!
– Она не уйдет. Она мне, как и ты, не поверит.
– Это все твои фантазии. Нет никакой Даши…
– Откажись, а?
– А теперь я и не подумаю. Мне жить хочется, а ты все врешь.
– И пускай Даша умрет?
На мониторе ее сердце билось, как азбука Морзе, – часто и мелко…
– А если бы была, – произнесла Травиата с трудом. – Ой, как больно! Если бы была, я бы все равно согласилась. Я – великая певица, меня вся страна любит, а твоя Даша – искусственная овечка, которую и сделали специально для того, чтоб использовать…
Не знаю, что меня подняло с табуретки, на которой я сидел.
– Нет, – прошипел я, сам не слыша своих слов, – ты этого не сделаешь!
Я рванулся к ней, чтобы убить. Не верите? Я сам теперь не верю, но я хотел только одного – убить ее, чтобы спасти Дашку.
– Ой, как больно! – Она вяло отбивалась, а я отбросил ее руки, чтобы дотянуться до горла.
– Доктора… спаси…
Я клянусь, что не дотронулся до ее шеи.
Но она, видно, думала, что дотронулся.
Она затрепетала, мелко, с хрипом, и мне стало страшно, как будто я ее убил.
Все еще склоняясь над ней, я обернулся к монитору.
Его пересекала прямая линия, как граница моря.
Рот Ларисы был полуоткрыт, и глаза неподвижно смотрели на меня.
И тогда я понял, что убил ее.
Ее сердце было таким слабым, что ему хватило испуга.
Я кинулся бежать из палаты.
Через секунду пойдет сигнал с центрального пульта.
Я побежал в другую сторону, к нашему отделению.
Мимо операционных и палат.
И когда меня схватили охранники на входе в наше отделение, я уже пришел в себя настолько, что сообразил: Даша спасена. Сегодня спасена. Некому отдать ее сердце.
Меня там, в палате, не было. Умру, но не сознаюсь. Ведь Травиата умерла сама по себе.
Значит, мне повезло?
Меня били, толкали, и какой-то из них все повторял, что мне не жить на свете.
Они втолкнули меня в бельевую.
Там уже собрались все наши. Весь клон.
Избитые, в наручниках, некоторые в крови.
– Нас убьют? – спросил Рыжий Барбос у охранников.
– А ты как думал? – сказал полковник, который стоял в дверях за спинами своих подручных. Дверь захлопнулась.
– Ох мы и дрались! – радостно сообщил Костик. Слепой Кузьма сказал:
– Я палку о кого-то сломал.
Они говорили все вместе, им так хотелось похвастаться своим новым бойцовским статусом. Они не понимали, что нас в самом деле лучше убить. Нужен несчастный случай – пожар или пищевое отравление. Но чтобы мы исчезли. Я хотел сказать, что мы должны дорого отдать свою жизнь. Так говорится в кино.
Но дверь открылась – и трех минут ведь не прошло с начала моего заточения.
Там стоял доктор Блох.
Пьяный, но не настолько пьяный, как утром.
– Выходи, узники тела и совести, – загадочно заявил он. Мы вышли, но осторожно, как выходит к кормушке битая псина.
– Вам все равно не поверят, но жить будете.
Из кабинета Григория Сергеевича вынесли носилки. Носилки были покрыты простыней, и головы не видно.
– Как так? – спросил Костик.
– Цианистый калий, – пояснил Блох.
– А можно в женское отделение? – спросил я.
– И не мечтай. Ты далеко не уйдешь. Тебя перехватят. И могут убить.
– При попытке к бегству, – глупо засмеялся Костик. Но я не обиделся. Костик был напуган.
– Я надеюсь, – сказал Блох, – что о девушках позаботятся. Он приложил указательный палец к губам, словно мы играли в прятки.
На черной лестнице, куда он выпустил нас, открыв дверь своим ключом, никто не встретился. Мы помогали спуститься тем, кому было трудно.
– Держитесь вместе, – сказал Блох.
Калитка в тихий переулок, зажатый между высокими глухими заборами, была не заперта.
– Уходите. Вот деньги, – сказал Блох. – На первое время хватит.
Блох захлопнул калитку.
Мы остались одни.
Критика
Вл. Гаков
КУДА КЛОНЯТ ФАНТАСТЫ?
В последние несколько лет тема клонирования стала едва ли не самой популярной в тех газетно-журнальных рубриках, что призваны знакомить читателей с новостями с переднего края науки (за что отдельное спасибо овечке Долли). И практически в каждой второй статье авторы поминают добрым или недобрым словом писателей-фантастов: мол, напредсказывали, а нам теперь расхлебывай… Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что ссылки на научную фантастику слишком поспешны: что-что, а тема клонов в ней представлена на удивление скудно.
Большая часть написанного «о клонах» к биологической проблеме клонирования никакого или почти никакого отношения не имеет. Самые заметные рассказы и романы из этого ряда – по сути, совсем о другом. Зато научно корректных произведений о клонировании и его социальных и психологических перспективах (ибо это, а не проблемы биологов, в конечном счете должно заботить писателей) не так много, как кажется.
Причина, в общем-то, очевидна: клонирование, как оно понимается специалистами, художественную литературу не может особенно интересовать. А вся поднятая за последние годы шумиха вокруг овечки Долли и перспектив массового выращивания не только агнцев, но и козлищ – суть результат недоразумения, рожденного массовой необразованностью так называемой широкой публики.
Итак, «клон – это популяция клеток или организмов, произошедшая от общего предка путем бесполого размножения». Еще недавно биологи, рассуждая о проблемах клонирования, говорили лишь о низших формах жизни – от микроорганизмов до растений. Однако разве широкую публику интересуют микробы, растения или даже животные? Пусть этим занимаются микробиологи, ботаники и зоологи. Зато перспективы выращивания генетических копий живущих или умерших людей (для чего нужно перенести ядра соматической клетки от донора в яйцеклетку, затем имплантировать ту во влагалище «приемной матери», которая и родит искомого клона), действительно, могут привести в восторг или ужас.
Весь сыр-бор, включая душераздирающие сценарии клонирования вождей третьего рейха или вождей мирового пролетариата, разгорелся, повторяю, из-за недоразумения. Создать генетическую копию того человека, что покоится в Мавзолее, в принципе, возможно – генетического материала хватает. Может быть, рожденный таким образом человек будет даже картавить, рано облысеет и станет покрывать свою лысину кепочкой. Но вот вождя мирового пролетариата из него не получится – как бы о том ни мечтали убежденные ленинисты. Для этого необходимо было бы параллельно воссоздать и тот мир, в котором формировалась личность будущего Ленина, и тот пролетариат, которым он так удачно рулил. А где сегодня тот мир и тот мировой пролетариат…
Тем не менее страхи на темы возможных социальных и психологических последствий клонирования людей имеют под собой основание. Всякое вторжение в процесс биологической эволюции – зачем-то ведь она остановилась на половом размножении высших животных (включая человека), отказавшись от партеногенеза (или клонирования) – чревато непредсказуемыми последствиями. Но то же можно сказать о любом другом достижении науки и техники. Тем более очевидны возможные злоупотребления, связанные с клонированием, однако к науке отношения не имеющие. Сегодня клонирование человека и даже отдельных его органов для нужд трансплантации трудно себе представить без сопутствующих негативных последствий. Например, богатые пациенты, которым требуется пересадка, могут очевидным образом стимулировать докторов, чтобы те «помогли» донору поскорее отправиться в мир иной… Однако если говорить о психологических травмах клонированных, тем более о перспективах появления на свет точных копий знаменитых злодеев и преступников прошлого, то страхи, скорее всего, преувеличены. Как преувеличены и утопические надежды на искусственное «выведение» новой – лучшей – породы людей, о чем неоднократно писали фантасты.
Между прочим, «клоны» давным-давно живут среди нас – и своим появлением на свет они обязаны не прогрессу медицины и биологии, а простой случайности. Это пары так называемых однояйцевых близнецов. Возможно, для узких специалистов сравнение последних с клонами звучит как ересь, но, если не вдаваться в тонкости, два человека, родившихся из одной и той же оплодотворенной яйцеклетки, – чем не клоны? По крайней мере, в Энциклопедии научной фантастики под редакцией Джона Клюта и Питера Николса это утверждается вполне определенно, а данный обзор предназначен читателям не каких-нибудь «Успехов биологических наук», но журнала научной фантастики.
Пока ничего особенно фантастического и даже драматического в судьбах однояйцевых близнецов ученые, насколько мне известно, не наблюдали. Эти же реальные «клоны», кстати, продемонстрировали то, что известно каждому мало-мальски образованному человеку: личность человека определяется не столько генетикой, сколько социальным окружением, в которое входит и воспитание, и образование, и обстановка, сопровождавшая данного индивида на ранних этапах формирования его психики.
То есть генотип (наследственность), конечно, отрицать несовременно, но есть еще и фенотип – «совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его индивидуального развития… складывается в результате взаимодействия наследственных свойств организма – генотипа и условий среды обитания». А выше, если говорить не об организме, а о личности, по идее, должен находиться еще какой-нибудь «психотип»…
Иначе говоря, клоны, будучи генетически идентичными с момента имплантации, после появления на свет могут оказаться в различных социальных средах, которые обязательно окажут воздействие на их развитие – отнюдь не идентичное.
Только наивным «генетическим детерминизмом» можно объяснить упрямую уверенность авторов – как популяризаторов, так и фантастов – в том, что, создавая клон, мы буквально «повторяем» ту личность, которая была донором.
Один колоритный пример, который и послужит мостиком к научной фантастике.
Клоны, рожденные из соматических клеток Гитлера, его копией – той, что и пугает нас более всего! – не станут. Будут выведены люди, обладающие генетической «матрицей» вождя третьего рейха, но какими личностями они будут, существенно зависит от их социального окружения. Чтобы вырастить точное подобие фашиста и врага рода человеческого, потребуется сущая мелочь: создать для клонированного младенца точную копию Австрии конца прошлого века и проиграть в мельчайших подробностях всю историю человечества до начала 1930-х годов. Причем, осуществить все это в идеальных лабораторных условиях, перекрыв для рождающегося фюрера любые каналы информации из внешнего, «реального» мира – где и рейх был разгромлен, и Нюрнберг поставил на гитлеровском творении точку! Иначе – провал эксперимента.
Только в этом почти неосуществимом сценарии остается вероятность того, что неонацисты обретут новых бесноватых фюреров, причем размноженных в любом требуемом количестве.
Именно это впечатляюще продемонстрировал один из немногих авторов научной фантастики, корректно разобравшийся в проблеме клонов: американский писатель Айра Левин. В его романе «Парни из Бразилии» (1976) современные последыши нацистов во главе со спрятавшимся в Южной Америке престарелым освенцимским врачом-убийцей Менгеле пытаются клонировать гитлеров из сохранившихся волос покойного вождя. В результате выходит сущая чепуха: чтобы рожденные мальчики действительно стали фюрерами, приходится создавать для них соответствующую социальную среду…
Но это произведение – редкий пример на фоне общей путаницы с клонами.
Джон Клют отмечал: главная ирония заключается в том, что первое научно-фантастическое произведение, в заглавии которого стоит это слово, – роман «Клон» (1965) Теодора Томаса и Кейт Вильхельм, – никакого отношения к биологическим клонам не имеет: чудовищное «дитя» экологической катастрофы оказывается просто разросшейся единой клеткой, пожирающей все на своем пути. Клон – это не просто «дубль», генетический двойник. Это человек, рожденный старым добрым способом, но обладающий идентичным генотипом с донором. Поэтому сразу же отбросим многочисленные произведения, где человека дублируют с помощью всевозможных камер-дупликаторов или роль последних играют различные временные парадоксы (например, при прохождении через сингулярности). А вот гипотетическое «царство амазонок – жриц партеногенеза» (как назвали их Стругацкие в «Улитке не склоне») – это уже теплее. Если не вдаваться в нюансы, то «однополые утопии» в романах Пола
Андерсона «Девственная планета» (1959), Чарлза Эрика Мэйна «Мир без мужчин» (1958), в концептуальном рассказе Джеймса Типтри-младшего «Хьюстон, Хьюстон, как слышите?» (1976) или той же «Улитке…» вполне уместны в данном обзоре, хотя, во всех указанных произведениях, кроме последнего, о биологическом процессе клонирования даже не упоминается.
Что еще можно записать в актив научной фантастики? Артур Кларк в романе «Имперская Земля» (1975) предполагает, что с помощью клонирования будет выведена своеобразная звездная династия космических пионеров. В рассказе Роберта Блоха «Во веки веков и да будет так» (1973) оно становится способом продлить физическое существование индивида после наступления смерти. Примерно о том же говорит Теодор Старджон в психологической новелле «Раз любишь – позаботишься» (1962), героиня которой, потеряв возлюбленного, пытается возродить его, клонируя из раковой клетки!
Более «легкомысленной» можно назвать идею клонирования исчезнувших животных, например, динозавров для тематических парков развлечений будущего, развитую Майклом Крайтоном в романе «Парк юрского периода» (1990). В романе Бена Бовы «Умноженный человек» (1976) ради общественного спокойствия и сохранения социального status quo клонируют умершего американского президента; в «Ночах Мерседес» (1987) – актрису и секс-символ нации; а в «Мидасе» (1987) немецкого писателя Вольфганга Йешке – знаменитых ученых.
Многих писателей, обращавшихся к проблеме клонирования, менее всего интересовали его реальные биологические и психологические перспективы. Просто литературные клоны оказались удобной научно-фантастической маской, приемом, с помощью которого лучше, нагляднее, парадоксальнее выступает человеческая личность – со всеми своими загадками и проблемами. Таковы клоны в романах «Пятая голова Цербера» (1972) Джина Вулфа и «Клон» (1972) Ричарда Каупера. А в «Железной мечте» (1972) Нормана Спинрада описана альтернативная история, когда неудавшийся венский художник Шикльгрубер эмигрировал в США, стал там заурядным автором «героической фэнтези» и в романе «Повелитель свастики» описал, в частности, заселение иных звездных миров клонами истинных арийцев-эсэсовцев. Иные авторы увидели в клонировании еще один механизм создания утопии. Эти настроения подстегнул выход в 1968 году научно-популярного бестселлера Гордона Тейлора «Биологическая бомба замедленного действия». Среди прочих тем автор с энтузиазмом обсуждает перспективу появления целиком клонированного поколения, связанного внутренней генетической общностью и взаимопониманием. Мир в буквальном смысле «всех людей – братьев» неизбежно станет миром кооперации, а не конкуренции, взаимопонимания, а не разрозненности, всеобщего единения душ, а не растущей некоммуникабельности. Подобное «гештальт-общество» в чем-то сродни утопии экстрасенсов-телепатов, также неоднократно описанной в мировой научно-фантастической литературе.
Закономерно, что подобной социальной перспективой клонирования заинтересовались в большинстве своем представительницы прекрасного пола. Вообще список серьезных произведений о клонировании, написанных авторами-женщинами, не уступает аналогичному «мужскому». Архетипический рассказ Урсулы Ле Гуин «Девять жизней» (1969), романы «Клонированные жизни» (1976) Памелы Сарджент, «Где допоздна так сладко пели птицы» (1976) Кейт Вильхельм (еще одна «бесполая» утопия женщин, возникшая на развалинах нашего мира, потерпевшего экологическую катастрофу), Кэролин Черри «Сайтин» (1988), Наоми Митчинсон «Третье решение» (1975), Нэнси Фридман «Джошуа, сын Ничей» (1973), уже упоминавшийся рассказ Типтри (псевдоним Алисы Шелдон).
А малоизвестная писательница (и, судя по всему, ярая феминистка) Анна Уилсон в романе «Гравированные камни» [5]5
Здесь игра слов: в оригинале роман называется «Hatching Stones», а глагол to hatch имеет значения и «гравировать», и «высиживать» (яйца). (Прим. авт.)
[Закрыть](1991) доходит до совсем уж радикального предположения: как только проклятые мужики-шовинисты научатся клонировать самих себя, то весь их мужской эгоизм и нарциссизм реализуется именно в этом, и старый добрый способ продолжать себя в детях попросту потеряет для сильного пола всякий интерес…
В заключение стоит упомянуть о считанных произведениях отечественной фантастики, имеющих отношение к теме.
Первым, конечно, вспоминается остросюжетный научно-фантастический детектив Павла Багряка «Пять президентов» (1969), в котором «их» президентов клонируют с далеко идущими политическими целями. Однако еще в 1961 году, когда разгромленная отечественная генетика еще только-только успела отмыться от ярлыков типа «продажная девка империализма», в рассказе Анатолия Днепрова «Пятое состояние» ученые уже пытаются создать живую клетку. И в вышедшем годом позже рассказе того же автора – «Формула бессмертия» – упоминается аппаратура, позволявшая «создавать» детей искусственно, в лабораторных условиях.
Зачем это нужно исследователям – кроме понятного научного любопытства, – автор, правда, внятно объяснить так и не смог. Зато сегодня это разъясняют в СМИ все кому не лень, вдохновляя или пугая публику, а по сути – дезинформируя ее. Вот уж воистину: по улицам клона водили…








