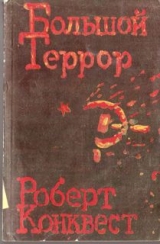
Текст книги "Большой террор. Книга II"
Автор книги: Роберт Конквест
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
Подвалы Лубянки, где совершались казни, были разделены на отдельные комнаты, расположенные вдоль коридора. Позднее, когда казни стали неотъемлемой частью тюремной жизни, в одной из этих комнат заключенный снимал тюремную одежду и переодевался в специальное белье. Затем его приводили на место казни и убивали выстрелом в затылок из автоматического пистолета. Врач подписывал последний документ, прилагаемый к делу, – свидетельство о смерти. После этого из комнаты выносили кусок брезента, специально положенный на пол. Его регулярно мыла уборщица, которую держали для этой цели.[217]217
217. V. and E. Petrov, Empire of Fear, p. 71.
[Закрыть]
Так было везде. В Горьком, например, в годы самого страшного террора из здания НКВД на Воробьевке выносили ежедневно от 50 до 70 трупов. Один арестант постоянно занимался тем, что белил стены в камерах заключенных сразу после того, как их увозили на расстрел в управление НКВД. Он замазывал фамилии, нацарапанные на стенах.[218]218
218. Kravchenko, I Chose Justice, pp. 281-2.
[Закрыть]
Распространенной формой приговора было «заключение без права переписки». А это дает все основания полагать, что число уничтоженных людей было больше, чем приговоренных к казням, ибо о заключенных, отбывающих срок по этому приговору – в лагерях или в тюрьмах – нет абсолютно никаких сведений. С другой стороны, в массовых могилах в Виннице были найдены трупы людей, получивших именно этот приговор (см. приложение А).
Между тем, репрессии продолжались, все глубже и глубже вгрызаясь в каждый общественный слой. Теперь на очереди была рабоче-крестьянская масса (до этого простые рабочие и крестьяне часто фигурировали как соучастники вредительства). Большинство крестьян и неквалифицированных рабочих, как пишет один из очевидцев тех лет, отделывались простыми показаниями – вроде того, что они занимались контрреволюционной агитацией, распространяя слухи о недостатке продовольствия или керосина, о низком качестве обуви, выпускаемой советскими фабриками, и т. д. Этого было достаточно, чтобы приговорить подсудимого к 3–7 годам принудительных работ по статье 58.[219]219
219. Beck and Godin, p. 46.
[Закрыть]
Воспоминания очевидцев изобилуют рассказами вроде следующего:
В сентябре 1937 года в харьковскую тюрьму неожиданно привезли 700 колхозников. Начальство тюрьмы не имело понятия, за что они арестованы. Колхозников избили, чтобы заставить их хоть в чем-то сознаться. Но они не могли сказать ничего путного – они сами ничего не знали. Тогда быстро состряпали дело. Обвинения были довольно просты: большинство заставили признаться в контрреволюционной агитации и в диверсиях. Например, в намерениях отравить колодцы, поджечь амбары, в агитации крестьян не выходить на работу и т. д. Словом – пустяки. Но около 20 человек попались как следует – они были обвинены в заговоре. Их группа якобы планировала украсть лошадей, прискакать в соседний город и поднять там восстание. О начале восстания должен был возвестить церковный колокол. В действительности ничего этого не произошло: колодцы не были отравлены, скот не пострадал, лошади и амбары остались целы, церковный колокол не звонил и крестьянского восстания в этом районе не было. История была выдумана от начала до конца.[220]220
220. Weissberg, p. 286.
[Закрыть]
Теперь подавляющее большинство заключенных по тюрьмам людей составляли колхозники – и продолжали составлять до самого конца ежовщины. Причем их группы были почти тождественными по составу. Сначала арестовывали председателя колхоза. Он «выдавал» ближайших сообщников, за ними шли бригадиры и, наконец, простые крестьяне. Обычно колхозники сознавались сразу, как только узнавали, что от них требуется. НКВД сообщал об этом через стукачей, распределенных по камерам. Колхозников, как сообщает очевидец, партиями отправляли в северные лагеря – два раза в неделю.[221]221
221. Там же, стр. 288-9.
[Закрыть]
В отдельных районах происходило то же самое. Английский наблюдатель, находившийся в то время в Ленкорани (Азербайджан), видел, как по городу один за другим проезжали грузовики с местными крестьянами. Их сопровождал конвой НКВД. Суда, в том числе пассажирские, были сняты с рейсов и подогнаны к азербайджанскому побережью, чтобы перевезти этих людей через Каспийское море.[222]222
222. Fitzroy MacLean, Eastern Approaches, London, 1949, pp. 40–41.
[Закрыть]
Е. Гинзбург пишет, что к лету 1937 года «Нас охватило ощущение колоссальных масштабов того действия, в центр которого мы попали. Исполнители всех операций были перегружены донельзя, они бегали, метались, что называется, высунув языки. Не хватало транспорта, трещали от переполнения камеры, круглосуточно заседали судебные коллегии».[223]223
223. Гинзбург, стр. 141 -2.
[Закрыть]
Офицер НКВД, арестованный в ноябре 1938 года, говорит, что уже за шесть месяцев до этого НКВД стало ясно: дальше репрессии такими темпами продолжаться не могут.[224]224
224. Weissberg, p. 414.
[Закрыть] В сейфах было накоплено достаточно материалов, чтобы объявить шпионом практически любого руководящего работника в стране. Многие из этих людей так и не были арестованы. Хороший пример – профессор Богомолец, президент Академии Наук Украины. Он умер своей смертью, но по крайней мере десять арестованных ранее ученых называли его в своих показаниях фашистским шпионом.[225]225
225. Beck and Godin, p. 49.
[Закрыть]
К этому времени половина городского населения уже была занесена в черные списки НКВД. Арестовать их всех было нельзя. С другой стороны, всякие различия исчезли, было столько же оснований взять одного, как и другого и третьего. Представители ранее установленных «категорий» – бывшие партизаны, старые большевики, участники оппозиции и т. д. – были в основном уничтожены. О тупике свидетельствуют новые репресии внутри самого НКВД. Там стали поговаривать, что аресты проводились без всякого разбора, и теперь «никто даже не знает, что с этими людьми делать».[226]226
226. Weissberg, p. 414.
[Закрыть]
К моменту падения Ежова было арестовано не менее 5 % населения – каждый двадцатый. Можно сказать, что из каждой второй семьи в стране один человек ушел в лагеря или сидел в тюрьме. Среди образованных классов норма была гораздо выше.
В 1938 году Сталин решил, что так дальше продолжаться не может. Следователи по-прежнему спрашивали обвиняемых – кто ваши сообщники? Таким образом, за каждым арестом автоматически следовало еще несколько. Если бы репрессии продолжались еще некоторое время, и каждый подсудимый называл 2–3 сообщника, то новая волна поглотила бы 10–15 % населения, а потом – 30–45 %. Существует много теорий относительно мотивов действий Сталина на протяжении всего этого устрашающего периода. Многие исследователи до сих пор задаются вопросом – почему Сталин прекратил террор на этой стадии? По нашему мнению – просто потому, что террор достиг крайнего предела. Продолжать было невозможно – экономически, политически и даже физически: следователей больше не было, тюрьмы и лагеря были забиты до отказа. Но между тем массовый террор выполнил свою задачу. Страна была подавлена.
НА КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ
Русская интеллигенция всегда была рассадником вольнодумства. На протяжении столетия, предшествовавшего революции, она упорно сопротивлялась всякому деспотизму и, главное, – подавлению мысли. Естественно поэтому, что на интеллигенцию репрессии обрушились с особой силой. Коммунисты создали систему «правильных» и «ошибочных» взглядов с неукоснительным подавлением последних. Кроме того, они разработали теории о форме и методах в искусстве и науках, теории отражения и познания действительности. Это давало возможность уличать в крамоле и репрессировать даже горячих сторонников советской власти – если они придерживались неверных мнений по части, например, драматургии или биологии.
После установления советской власти участие ученых в управлении было шире, чем в других странах в тот период. Экономисты были привлечены к работе Госплана, а затем, в начале 30-х годов, почти полностью уничтожены. В других сферах деятельности, например, в иностранных делах и культуре, было также немало специалистов. О судьбе одного профессора из Наркомата иностранных дел рассказал на XXII съезде Шверник:
«В 1937 году к Молотову, как председателю Совнаркома, обратился один из профессоров, работавших в Наркоминделе. Он писал Молотову о том, что его отец арестован, очевидно, по недоразумению, и просил вмешаться в судьбу отца. Молотов написал резолюцию: „Ежову: Разве этот профессор все еще в Наркоминделе, а не в НКВД?“ После этого автор письма был незаконно арестован».[227]227
227. XXII съезд КПСС, т. II, стр. 216 (выступление H. M. Шверника).
[Закрыть]
В марте, апреле и мае 1937 года в печати появились статьи, атакующие «уклоны» в истории, экономике и литературе. Статья Молотова, опубликованная в «Правде», заострила тон этой кампании.[228]228
228. См. «Правду» 21 апреля 1937.
[Закрыть]
Историки оказались особенно уязвимыми. На них часто навешивали ярлык «террористов». Была арестована вся школа историков партии, последователей Покровского. Сокольников на суде замечает совершенно естественным образом, что «среди историков начались аресты».[229]229
229. «Дело Пятакова», стр. 163 англ. изд.; в русском изд. пропущено.
[Закрыть] Любопытно, что во главе многих «террористических банд» стояли ученые историки: Пригожий (один из руководителей группы, которую судили в те годы), Карев, Зейдель, Анишев, Ванаг, Закс-Гландев, Пионтковский и Фридлянд, названные на процессах 1936 и 1937 годов активными террористами. Радек заявил, что Фридлянд возглавлял террористическую группу, состоявшую из историков, и добавил: «Между собой мы называли ее исторической или истерической группой».[230]230
230. Там же, стр. 94 англ. изд.; в русском изд. пропущено.
[Закрыть] Профессора университетов были на особом подозрении, так как они могли формировать последователей из числа студентов, а в применении к последним обвинение в терроре выглядело вполне убедительно. Студенты в целом также пострадали очень сильно. На процессе Пятакова в 1937 году было заявлено, что террористические организации Сибири вербуют кадры «главным образом среди молодежи высших учебных заведений».[231]231
231. Там же, стр. 217 англ. изд.; стр. 94 русского изд.
[Закрыть]
Фридлянд и другие, будучи видными историками, находились в центре идеологических споров. Однако преподаватели неполитических дисциплин также оказались в трудном положении. Рядовому советскому человеку достаточно было научиться держать язык за зубами, а профессорам приходилось читать лекции аудитории, среди которой неизбежно были осведомители. Некоторые их коллеги также сотрудничали с тайной полицией.[232]232
232. Kravchenko, I Chose Justice, Chap. 11.
[Закрыть]
Специалист по древней истории, профессор Константин Штеппа, попал в немилость после того, как назвал Жанну д'Арк нервной и экзальтированной особой. До середины 30-х годов если ее вообще упоминали, то упоминали враждебно, но с появлением Народного фронта во Франции она вдруг стала героиней Сопротивления. Поэтому замечания профессора противоречили генеральной линии. После этого началась серия неприятностей: сначала Штеппа упомянул в неподходящем контексте царя Мидаса, а затем, говоря о древней и христианской демонологии, отметил, что сельские жители всегда бывают более отсталыми. К сожалению, наряду с другими эту мысль как-то высказал Троцкий. И наконец, рассказывая об одном движении в Северной Африке во времена Римской Империи, Штеппа заявил, что оно было не просто крестьянским восстанием, но имело национальную окраску. Он был объявлен буржуазным националистом. В это время, в 1937 году, многие его друзья и коллеги уже находились под арестом. Как вспоминают люди, лично знавшие Штеппу, он на это сказал:
«Конечно, мне было жаль моих друзей. Но я испытывал по отношению к ним не только жалость. Я их боялся. Они, в конце концов, могли сослаться на какие-то наши разговоры, в которых не всегда выражалась строго официальная точка зрения. В этих беседах не было ничего преступного или антисоветского. Но мелкие критические замечания, жалобы, выражение недовольства или разочарования, которые прорываются в любом разговоре, заставили каждого советского человека чувствовать себя виновным.[233]233
233. Beck and Godin, p. 154.
[Закрыть]
Вскоре произошло самоубийство Любченко и его жены Н. Крупеник. Она, к сожалению, была университетским преподавателем, и весь штат Киевского университета попал на особое подозрение. В ВУЗах и культурных организациях была вскрыта „разветвленная сеть буржуазных националистов“. Тем не менее профессор Штеппа до марта 1938 года находился на свободе. После сурового допроса, который вели 13 следователей в течение 50 дней, его объявили одним из заговорщиков, замышлявших покушение на жизнь Косиора. После падения Косиора это обвинение было снято как с него, так и с многих других и заменено… шпионажем в пользу Японии.
Новая версия была основана на таких фактах. Профессор Штеппа некоторое время возглавлял Комитет византологии в АН Украины. Затем это название сочли реакционным и велели переменить на Комитет по Ближнему Востоку. Всякая связь с „Востоком“ автоматически вызывала подозрение в симпатиях к Японии или шпионаже в ее пользу. Было отмечено, что профессор читал лекции об Александре Македонском и Ганнибале группе старших офицеров Красной Армии. А контакт с армией дал ему возможность выполнять шпионские задания. Было доказано, что он встречался с иностранцами в лице профессора Г розного, крупнейшего чешского специалиста по истории готтов, который „завербовал“ его через византолога, читавшего лекции на советском Дальнем Востоке, то есть в непосредственной близости от Японии. И, наконец, был установлен косвенный контакт с профессором из Одессы, который встречался там с японским консулом. В донесениях, направляемых по шпионской сети в Токио, содержались данные о „политическом и моральном состоянии“ армии. В конце дела фигурировал действительный факт: обвиняемый заявил в разговоре с коллегой, что некоторые офицеры путали Наполеона I с Наполеоном III и Александра Македонского с Цезарем».[234]234
234. Там же, стр. 149-65.
[Закрыть]
После снятия Ежова стало чувствоваться некоторое послабление. Оставшиеся в живых ученые отказались от своих показаний, обвинения стали мягче. И, наконец, осенью 1939 года профессор Штеппа был освобожден. Ему повезло. Заместителя директора Института красной профессуры В. Ч. Сорина осудили в 1939 году как врага народа. Он умер в лагере или тюрьме в 1944 году.[235]235
235. А. К. Кучкин в «Вопросах истории КПСС» № 1, 1965 («В. Г. Сорин»).
[Закрыть] Такая же участь постигла многих беспартийных преподавателей ВУЗов.
Случалось, что на партийном собрании, посвященном разоблачению одного из сотрудников, вставал кто-нибудь из коллег и просил привести доказательства обвинения. Ни один из подобных инцидентов не прошел бесследно. Людей, задававших вопросы, всегда заставляли замолчать и часто арестовывали. Обычным обвинением были контрреволюционные взгляды. Например, когда на собрании в украинской Академии Наук разбиралось дело профессора Копершинcкого, другой ученый-коммунист, Каминский, заметил: «Когда говорит классовый инстинкт, никакие доказательства не нужны». Его тоже вскоре арестовали. Секретаря Академии публично обвинили в местной печати за то, что он потребовал доказательств в аналогичном деле.[236]236
236. Beck and Godin, p. 29.
[Закрыть] Он был одним из тринадцати секретарей Академии, сменявших друг друга с 1921 по 1938 годы. Все как один были арестованы. Из семи ректоров Киевского университета шестеро были арестованы и один умер естественной смертью.[237]237
237. Там же, стр. 37.
[Закрыть]
Нужно отметить, что жертвами повальных репрессий среди ученых были не только византологи и представители других редких специальностей – без них страна, стремящаяся к скорейшему развитию техники, еще могла обойтись. Представители естественных и точных наук пострадали в не меньшей степени. Вот как описывает физик Вайсберг положение в харьковском Институте физики:
«Послушай, сказал я. Наш институт – один из самых важных ВУЗов такого рода в Европе. Да и вообще, наверно, нет больше института с таким количеством различных и хорошо оборудованных лабораторий. Советское правительство не жалеет денег. Наши ведущие специалисты частично учились за границей. Их постоянно посылают за государственный счет к крупнейшим физикам мира, чтобы повысить знания и опыт. У нас было восемь отделов и во главе каждого стоял одаренный ученый. А что происходит сейчас? Обремов, начальник лаборатории кристаллографии – под арестам. Начальник лаборатории низких температур Шубников – тоже. Начальник второй лаборатории низких температур Руман – выслан. Начальник лаборатории расщепления атома Лейпунский – арестован. 8 тюрьме начальник рентгеновского отдела Горский, начальник отдела теоретической физики Ландау и я – начальник экспериментальной станции низких температур. Насколько мне известно, на работе остался только Слуцкий, начальник отдела ультракоротких волн…».[238]238
238. Weissberg, pp. 359-60.
[Закрыть]
Среди названных Вайсбергом основатель и первый директор Института Обремов; академик Лейпунский, который потом тоже стал директором; профессор Лев Давидович Ландау – крупнейший физик-теоретик Советского Союза. ГПУ еще раньше заставило Ландау уйти из института. Он уехал в Москву и стал работать с академиком Капицей. Под наблюдением Вайсберга строилась экспериментальная станция низких температур, но прежде чем она вступила в действие, его арестовали. Наследником Вайсберга стал Комаров – но его тоже арестовали. «Кто же – спрашивает Вайсберг – должен был продолжать работу?. Чтобы подготовить инженера, нужно пять лет. Но сколько трудов стоило правительству укомплектовать новые предприятия хорошими инженерами! А на подготовку хорошего ученого-физика требуется 10–15 лет».[239]239
239. Там же.
[Закрыть]
Лев Давидович Ландау, один из самых выдающихся физиков в России, сам описывал, как он едва не погиб в тюрьме в качестве «германского шпиона». Его спас П. Л. Капица, с исключительным мужеством выступавший в его защиту и сумевший убедить Сталина в его научных заслугах.[240]240
240. См. «Комсомольскую правду» 8 июня 1965.
[Закрыть]
Эти аресты были подтверждены в советских изданиях 60-х годов. Академик Берг писал, например:
«Потом настали трудные времена. 1937 год, потеря близких друзей. Вскоре по нелепому дурацкому доносу арестовали и меня. В тюрьме я провел ровно 900 дней. Незадолго перед войной меня освободили. Радиотехника за эти годы понесла большой урон. Закрылись институты и лаборатории, исчезли люди».[241]241
241. «Неделя» (приложение к «Известиям») 3–9 ноября 1963.
[Закрыть]
Больше всего пострадала, конечно, биология. С восходом звезды Лысенко в начале 30-х годов началась неистовая «идеологическая» борьба. Уже в 1932 году были арестованы (и позднее выпущены) цитологи Г. А. Левицкий и Н. П. Абдулов. Тогда же были арестованы и многие другие биологи.
В декабре 1936 года профессора Агола, одного из крупнейших советских биологов, обвинили в троцкизме и расстреляли. Начались гонения на других биологов. К декабрю 1936 года профессор С. Г. Левит, директор Института медицинской генетики был уволен с работы и исключен из партии на том основании, что его научные взгляды были «пронацистскими». Народный комиссар здравоохранения Каминский получил взыскание за то, что пытался защитить Левита.[242]242
242. New York Times, 27 декабря 1936.
[Закрыть]
Левит был арестован в мае 1937 года и умер в тюрьме. Ряд других видных биологов, Левицкий, Карпеченко и Говоров погибли, как и знаменитый H. М. Тулайков, директор Института зерна, арестованный в 1937 и погибший в одном из Беломорских лагерей в 1938 году.
В области биологии, как и в политической сфере, второстепенные работники арестовывались в первую очередь, замыкая таким образом ловушку, приготовленную их начальникам. Самая крупная игра развернулась вокруг Н. И. Вавилова, крупнейшего ученого, специалиста по генетике и в свое время любимца Ленина. В 1935 году он вынужден был передать руководство Всесоюзной Академией Сельскохозяйственных Наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) А. И. Муралову, ставшему зам. Наркома земледелия. Муралов был арестован 4 июля 1937 года; его заменил профессор Г. К. Мейстер. Но в начале 1938 года взяли и Мейстера, а Лысенко в результате злобной и грязной интриги стал во главе ВАСХНИЛ.
В начале 1940 года Вавилов оказался в затруднении в ходе спора о том, какую сельскохозяйственную политику следует применять в аннексированной части Финляндии. Последовала прямая стычка с Лысенко. В августе Вавилов был в поездке по Украине. Из Черновиц его внезапно вызвали в Москву и 6 августа арестовали. В протоколах по его делу (к которому ведущие биологи были допущены после падения Лысенко в 1964 году) находится письмо Берии Молотову как члену Политбюро, ведающему вопросами науки, требующее разрешения на арест Вавилова. Вавилова продержали одиннадцать месяцев под следствием, в ходе которого было свыше сотни допросов. Суд над ним состоялся 9 июля по обвинению в заговоре правых уклонистов, шпионаже в пользу Англии и т. п. Его приговорили к смерти, но не расстреляли. (По-видимому Берия, жена которого была биологом, не утвердил приговора).
Заслуженный биолог академик Н. Прянишников, вместе с братом Вавилова, академиком Сергеем Ивановичем (физиком), хлопотали перед Берией и Молотовым, тщетно пытаясь добиться его освобождения. Прянишников, по-видимому, обращался и к жене Берии, прося об улучшении тюремного режима и проявил беззаветное мужество, предложив Н. И. Вавилова кандидатом на Сталинскую премию 1941 года. Ученого держали между тем в Саратовской тюрьме. Он представился своим сокамерникам словами: «Перед вами, если говорить о прошлом, член Академии Наук Николай Вавилов, теперь же, по мнению моих следователей, говно и больше ничего». Его почти год продержали, не выводя даже на прогулку, в камере смертников – подвальном помещении без окон. Тут его чуть не спасло избрание в 1942 году в члены Королевского Общества в Лондоне. Было, однако, уже поздно. Дистрофия зашла слишком далеко; он был уже доходягой и умер 26 января 1943 года. Его жена и сын были эвакуированы из осажденного Ленинграда в Саратов и в 1942 году жили не так далеко от тюрьмы, в которой он умирал. Но им было сказано, будто их муж и отец в Москве, и они так и не узнали, что он был близко.[243]243
243. Подробности о Н. И. Вавилове даны в книге Ж. А. Медведева (Zhores A. Medvedev, Tne Rise and Fall of T. D. Lysenko, New York, 1969). Ha русском языке из этой работы напечатаны только большие отрывки (около 120 страниц) в №№ 70 и 71, 1969, журнала «Грани» (Франкфурт). Немало материала имеется и в опубликованной в СССР книжке С. Резника «Николай Вавилов». Впрочем, как сообщает «Хроника» № 10, книжка эта изъята снова из обращения.
[Закрыть]
Триумф лысенковщины был, пожалуй, самым убедительным признаком интеллектуальной дегенерации партии, последовавшей после того, как в начале 30-х годов Сталин упразднил мыслящую часть руководства, заменив ее своими ставленниками вроде Митина и Мехлиса. Злым гением всей этой драмы был шарлатан И. И. Презент, который осуществил повсеместное внедрение теории Лысенко на практике, подведя под нее наукообразную базу, составленную из цитат классиков марксизма. Здесь нужно отдать справедливость Жданову: его Лысенко не смог полностью одурачить. Советская биология была окончательно уничтожена только к 1948 году – после политического поражения Жданова и его смерти. А между тем Лысенко с помощью чудовищных интриг и очковтирательства сохранял главенствующее и даже монопольное положение.
Развитие лингвистики также было поставлено в зависимость от косной, антинаучной доктрины. К концу 20-х годов учение Mappa было принято в качестве марксистской линии (в других странах его полностью отвергли). В результате старые профессора попали в опалу, их книги исчезли, а в 1937-38 годах их стали арестовывать. Среди них оказался профессор Е. Д. Поливанов. В марте 1937 года его схватили, а 26 января следующего года он был расстрелян («погиб»). В результате, рукописи его затерялись и, когда в 1964 году приступили к изданию его работ, пришлось обратиться через газету «ко всем, кто может и хочет помочь в собирании и публикации материалов о Е. Д. Поливанове».[244]244
244. «Правда Востока», 5 сент. 1964, статья Л. Леонтьева «Е. Д. Поливанов, его слово и слово о нем».
[Закрыть] В 1950 году, после террора, направленного против антимарристов, Сталин вдруг отошел от марризма и обрушился на его последователей за то, что они запугивали антимарристов и установили в своей науке «аракчеевский режим».
Но, пожалуй, самой ужасной была судьба советских писателей. Они находились между двух огней: с одной стороны им был навязан «единственно правильный» творческий метод, а с другой – поставлены тематические рамки. Содержание их произведений находилось под самым тщательным присмотром. Как пишет Эренбург в четвертой книге своих воспоминаний, из 700 писателей, присутствовавших на первом съезде в 1934 году, только «может быть полсотни» дожили до второго съезда в 1954 году.[245]245
245. Эренбург, Собр. соч., т. 9, стр. 36 («Люди, годы, жизнь», кн. 4, гл. 7).
[Закрыть] Даже если сделать скидку на естественную смертность (хотя, согласно протоколам Первого съезда писателей, средний возраст делегатов составлял 38,9 года, а 71 % не было еще 40),[246]246
246. См. Протоколы I съезда Советских Писателей, Москва, 1934; см. также IV съезд писателей СССР, стеногр. отчет, Москва, 1967, стр. 173 (выступление М. Шолохова).
[Закрыть] эта цифра поразительна.
По словам Александра Солженицына в письме IV съезду писателей СССР, «мы узнали после XX съезда партии, что их было более шестисот – ни в чем не виновных писателей, кого Союз (Писателей) послушно отдал тюремно-лагерной судьбе». А имея в виду тех, кто не успел развернуть своего дарования, Солженицын добавляет: «однако, свиток этот еще длинней…».[247]247
247. А.Солженицын, Собр. соч, Франкфурт-на-Майне, 1970, т. 6, стр. 10.
[Закрыть] Молодой советский историк Р. Медведев считает, что в общем итоге носителей культуры погибло «более тысячи».[248]248
248. Рой Медведев, стр. 43.
[Закрыть]
Началось сведение старых счетов. Один из даровитейших советских прозаиков Исаак Бабель служил в армии Буденного во время гражданской войны в Польской кампании. В 1924 году он опубликовал свой изумительнейший сборник рассказов из истории гражданской войны – «Конармия». Буденный яростно запротестовал. Он считал эти безжалостно точные зарисовки клеветой и предпочитал псевдогероику военных корреспондентов. Бабеля защитил Горький, ценивший его талант. Это Бабель первым произнес на съезде писателей 1934 года слова о «героизме молчания» – они стали символом неблагонадежности и сопротивления режиму. Бабель был знаком с женой Ежова. Иногда он ходил к ней, хотя понимал, что это опасно, но ему хотелось, как он говорил, «разгадать загадку».[249]249
249. Эренбург, Собр. соч., т. 9, стр. 189–190 (кн. 4, гл. 28).
[Закрыть] Он был уверен, что «дело не в Ежове».[250]250
250. Там же.
[Закрыть] В 1937 году его перестали публиковать и вскоре арестовали: в мае 1938 года на его даче в писательском поселке Переделкино. О его гибели в советской «Литературной энциклопедии» сказано только: «В 1937 году Бабель был незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно».[251]251
251. Краткая литературная энциклопедия, т. 1, стр. 387.
[Закрыть]
Бабель не только лично оскорбил Буденного и пустил дурную славу о Первой Конной армии, откуда Сталин стал черпать кадры для высшего командования, Он даже, как говорят, необдуманно пошутил в адрес Генерального секретаря. Но этот поступок кажется незначительным по сравнению с тем, что сделал Борис Пильняк – другой крупный, хотя и меньшего калибра, талант, рожденный революцией. Его «Голый год» посвящен жизни провинциального города в 1919 году. Писатель показывает, как в борьбе за хлеб насущный проявляется неуравновешенность, эксцентричность и богатство русского характера.
Еще в 20-х годах его имя оказалось связано с одним из самых загадочных преступлений, приписываемых Сталину. Весной 1924 года заместителем Наркома по военным делам был назначен М. Фрунзе. Он практически взял армию в свои руки. Троцкий, смещенный лишь в 1925 году, почти не оказал ему сопротивления. Симпатии Фрунзе были, видимо, на стороне группы Зиновьева-Каменева. В конце лета 1925 года он заболел и умер 31 октября того же года. В Москве ходили слухи, что по приказу ЦК, то есть Сталина, ему пришлось лечь на операцию, которая и стала причиной смерти. Если бы Фрунзе умер в 1936 или 1937 году, то возникновение таких слухов вполне можно было бы понять. Любопытно, что слух распространился так рано, когда Сталин не проявил еще себя с этой стороны. До того прецедентов не было.
Последние советские книги о Фрунзе проявляют повышенную чувствительность к этому делу. В новой биографии,[252]252
252. Ф.Н.Петров, «М.В.Фрунзе», Москва, 1962.
[Закрыть] изданной в 1962 году, подробно рассказывается о заключении врачей, которые заявили, что операция совершенно необходима, и не отходили от больного в последние дни его жизни. Биография написана В. Н. Петровым, военным историком, который в других работах занимает открыто враждебную позицию по отношению к казни генералов, предпринятой Сталиным. Возможно, что написанная им биография была основательно отредактирована перед публикацией. Но возможно, что она отражает веру в невиновность Сталина – даже со стороны людей, которые хотели бы знать правду.
Пильняк был до тех пор совершенно аполитичным писателем. Он заявлял, что ничего не смыслит в политике и, не будучи коммунистом, не может писать как коммунист. Но на основе разговоров о смерти Фрунзе он написал «Повесть непогашенной луны», предпослав ей подзаголовок «Смерть командарма». Герой повести – Гаврилов, известный командир Красной Армии, который возвращается в Москву по приказу начальства и узнает из газет, что ему предстоит операция. Раньше он страдал язвой желудка, но полностью вылечился. Он идет на встречу с «самым важным из трех», как говорится в книге, стоящих во главе партии, и получает указание – лечь на операцию. Осмотрев его, врачи объявляют, что операция необходима. А потом, в частном разговоре, признаются, что это не так. Командарм умирает от повышенной дозы хлороформа. Повесть должна была появиться в «Новом мире», но в последнюю минуту номер конфисковали. В следующем номере редколлегии пришлось признать, что рекомендация к печати была ошибкой, и опубликовать письма читателей, в которых повесть объявлялась «злобной клеветой на нашу партию». Но рукописные книги долго ходили по рукам, и в 1927 году книга вышла в Софии.
Ясно, однако, что человек, обладающий политическим чутьем, не написал бы «Повесть непогашенной луны». Возможно, что Пильняку посоветовал ее написать кто-нибудь из друзей, более глубоко вовлеченных в идейно-политическую борьбу. Во всяком случае, тогда дело было замято.
В 1929 году Пильняк стал председателем Всероссийского Союза писателей, по-настоящему творческой организации, которая сопротивлялась политическим интригам РАППа (Рабочей ассоциации пролетарских писателей). РАПП был основан в 1925 году, во главе его стоял Авербах – племянник жены Ягоды. Ассоциация имела целью установить идейно-бюрократический контроль над творчеством. Самоубийство Маяковского также частично приписывается травле со стороны рапповского руководства.[253]253
253. МСЭ, 2-ое изд., т. 5, Москва, 1959, стр. 1064 (Статья «Маяковский»).
[Закрыть] Перед лицом оппозиции лучших писателей и даже самого Горького РАПП распался. Позднее многие его члены также были репрессированы.
Предлогом для гонений на Пильняка послужило его последнее произведение – «Красное дерево». Сначала оно должно было появиться в Германии, а потом в России (это было распространенной практикой, связанной с использованием авторских прав). После немецкого издания книга была объявлена антисоветской, а публикация ее – белогвардейской провокацией. Пильняк попал в трудное положение и был готов покориться судьбе. Одновременно начались нападки на Евгения Замятина, председателя ленинградского отделения Союза писателей. Его роман «Мы», послуживший моделью для «1984» Орвелла, был опубликован за границей при сходных обстоятельствах. Замятин смело потребовал права на выезд из страны, отказался идти на попятный и разоблачил всю систему «закручивания гаек» в литературе. Он заявил, что московское отделение вынесло резолюцию о Пильняке, не выслушав защиту. Приговор предшествовал расследованию. Замятин отказался быть членом организации, которая допускает такие вещи, и вышел из Союза. За Пильняка и Замятина вступился Горький. Он выступил со статьей в «Известиях», в которой писал о нетерпимой привычке выдвигать людей на ответственные посты, а потом смешивать их с грязью и с горечью указывал на карьеристов, набрасывающихся на человека, допустившего ошибку, в расчете, что его уберут и можно будет занять его место.[254]254
254. См. Max Hayward in Survey, № 36, April-June, pp. 85–91.
[Закрыть]








