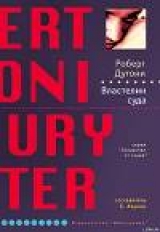
Текст книги "Властелин суда"
Автор книги: Роберт Дугони
Жанр:
Политические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
84
Эхо разнеслось по ущелью, так что определить, откуда шел звук, было невозможно, однако в том, куда он направлен, сомневаться не приходилось. Взгляд Паркера Медсена был устремлен вверх, когда грудь его, как раз под впадиной левой подмышки, пронзила пуля. Выстрел заставил его резко накрениться влево, словно сломав его тело надвое. Он качнулся назад, но устоял на ногах, отказавших ему, но выступивших как подпорки. Пуля «Золотая сабля», ремингтоновский, в медной оболочке, кумулятивный заряд, вошла в тело мягко, но, войдя, продолжила свою смертоносную работу. Она проскользнула между ребер, разорвала грудную клетку и мускулы груди, прошибла легкие и вырвалась с другой стороны.
Правая рука Медсена выпустила волосы Тины, и женщина упала на землю. Левая рука выронила занесенный нож, и он почувствовал, как кровь его, хлынув потоком, промочила камуфляж. На лице его отобразилось то, что уже знало тело, то, что ни один человек в мире, как бы по-солдатски вышколен он ни был, не может с готовностью принять. Он не просто получил пулю, он был смертельно ранен. Он наклонил голову к плечу, ища источник своей погибели с таким видом, словно его даже позабавило это неожиданно возникшее обстоятельство.
Слоун сидел на земле, вытянув перед собой левую ногу и согнув в колене правую, его руки слегка подрагивали, все еще сжимая нацеленный кольт.
– Слишком поздно, – опять шепнул Медсен ртом, из которого теперь текла струйка крови, и потянулся к своему оружию.
– На этот раз – нет, – сказал Слоун и вновь нажал на курок.
85
Он подполз к ней по неровной кочковатой земле, каждой частью своего тела превозмогая боль.
Тина сидела, сгорбившись и накренившись набок, руки ее были стянуты, плечи тряслись от рыданий.
Вторая пуля угодила прямо в грудь генералу Паркеру Медсену, и он был отброшен навзничь, как от удара кувалдой. Он лежал в пяти футах от ее спины, выставив подошвы своих черных сапог, выделявшихся теперь в траве. При приближении Слоуна глаза Тины расширились в радостном смятении. Она щупала его лицо, гладила его, словно одни лишь прикосновения могли убедить ее, что он действительно жив, что это не обман чувств и не игра воображения.
Подняв с земли нож, он осторожно освободил ее руки и, притянув ее к себе, сжал в объятиях, живую и полную жизни.
Жива. Она была жива.
– Все хорошо, – успокаивал он ее, твердя эти слова вновь и вновь не только для нее, но и для себя. – Все хорошо. Все позади. Позади.
Она глядела на него снизу вверх, не веря своим глазам.
– Но как же так? – недоверчиво спросила она. – Я ведь видела, как он застрелил тебя, Дэвид. Я ясно видела это.
Поморщившись, Слоун распахнул куртку Тома Мольи и потом рубашку. Бронежилет детектива остановил пулю, но действие ее оказалось ужасным. Каждый вздох причинял острую боль. Ощущение было такое, словно его переехало грузовиком. Слоуну не удалось проникнуть внутрь сознания Медсена, прочесть его мысли, узнать истинную суть этого человека, но это было и не обязательно. Людей, подобных Паркеру Медсену, он знал. Паркеру Медсену и в голову не пришло, что на Слоуне может оказаться бронежилет, потому что он поверил заключению психиатра в досье Слоуна, тому заключению, где говорилось о суицидальных наклонностях и тенденции к быстрым и опрометчивым решениям. Но в заключении психиатра не было того, что он не мог знать, того, что не знал никто, кроме самого Слоуна и рядового первого класса Эдда Вендитти, – настоящей причины, почему в тот день, в Гренаде, Слоун снял во время боя бронежилет. Причиной была не жара и не желание двигаться побыстрее. И не стремление к смерти было тому причиной. Бронежилет Слоун снял потому, что двадцатилетний солдат Вендитти, женатый и отец двоих детей, забыл свой жилет в вертолете, доставившем их к месту операции. Поняв это, Вендитти посмотрел на Слоуна с тем же ужасом в глазах, с каким смотрели на Слоуна родные Тома Мольи в тот вечер. Это был ужас сознания, что можно больше не увидеть самых близких тебе людей, ужас холодного отчаяния при мысли, что твоя семья, твои дети вынуждены будут остаться одни, без тебя. Слоун увлек Вендитти в скалы и, сняв свой бронежилет, приказал тому надеть его. Слоун не так боялся смерти, потому что у него не было никого на этом свете. И гибель его в тот день не разрушила бы ничью другую жизнь. После того как он был ранен, Слоун узнал, что Вендитти за свою оплошность пошел бы под трибунал – на снисходительность к допущенной ошибке в армии рассчитывать не приходилось. А так как к тому времени Слоун уже решил, что убивать – это не его стезя, то известие, что его не взяли в офицерскую школу, особенного огорчения ему не доставило.
Он поцеловал Тинину макушку, вдохнув нежный запах ее волос, мягко касавшихся его щеки.
– Все позади, Тина. Никто тебя не обидит. Теперь – никто. Никто и никогда.
– Ну а для тебя, Дэвид? – Она говорила шепотом, уткнувшись головой ему в грудь. – Для тебя тоже все позади? Ты разобрался с собой, узнал все, что тебе надо было узнать?
– Не вполне, – сказал он. – Но узнал достаточно. Я узнал, что люблю тебя и что, так или иначе, смогу быть очень счастлив, если буду все время помнить об этом.
– Вот и помни об этом. – И она обняла его. – Просто помни и никогда не забывай.
Они подняли голову, услышав звук приближающегося вертолета. Слоун смотрел на него из-под ладони, заслоняясь рукой от сильного ветра, взметнувшего вверх комья глины и прокатившегося по траве, как надвигающаяся гроза.
На переднем сиденье вертолета с лицом, несмотря на синеватые отблески огней, белым как мел сидел Том Молья.
86
Двое мужчин стояли молча, наслаждаясь возможностью просто глядеть на текущую воду и расслабиться после пережитых кошмаров, страшнее которых они еще не испытывали. Луна и звезды заливали блеском темную поверхность воды, и казалось, что это стремительно несется, мелькая как молния, длинный косяк рыбы. Слоуна поражала красота пейзажа в сравнении с безобразием, которое творят люди. За одну неделю место это запятнали два убийства.
– Он мог тебя убить, – сказал Молья. – Не слишком-то разумное поведение для человека со столь очевидным ай-кью, как у тебя.
Слоун прижал ко рту платок. Получив пулю в грудь, он прикусил язык, и тот до сих пор кровоточил.
– Он выстрелил мне прямо под дых. Сказалась выучка. Медсен и тут остался верен себе и действовал как хороший солдат.
Молья повернулся к нему и хмыкнул.
– Это утешает, правда?
Улыбнувшись, Слоун тронул платком ярко-красный ободок ранки, уже начавшей синеть.
– Прости меня за куртку, – сказал он, щупая дыру в ткани.
Молья пожал плечами.
– Все равно я ее не любил. Ее мне теща подарила. Но раз в год приходилось-таки ее надевать. Я считал, что куртка меня толстит.
Слоун засмеялся. Именно поэтому он и остановил на ней свой выбор.
– И вообще, если тебе есть о чем беспокоиться, так это о Мэгги. Она поднимет жуткий скандал – ведь это была ее любимая лампа.
– Такой же скандал, как из-за передержанного жаркого?
– Это, друг мой, все равно что сравнивать прохладный летний ветерок с ураганом.
Они повернули головы навстречу приближавшимся шагам. Чарльз Дженкинс был таким же, каким он запомнился Слоуну, – огромным и несокрушимым, как скала, хотя сейчас рука его была на перевязи, а лицо в синяках украшали бинты.
– Я буду ждать возле джипа, – сказал Молья. – На этот раз ты от меня не отделаешься, потому что уж куда-куда, а в вертолет меня больше не заманят.
– Но ты ж полетел: сумел преодолеть свой страх, – возразил Слоун.
– Ну да, – сказал Молья, поглядывая на крылатое чудовище. – Как я и говорил, не так страшен черт.
Слоун поднял глаза на Чарльза Дженкинса. Эти двое зрелых мужчин, оба с грузом прожитых лет, были навеки связаны событием, которое Слоун не желал помнить, а Дженкинс был не в силах забыть. Но, может быть, теперь все должно измениться, как для одного, так и для другого. И не так страшен черт, как выразился Том Молья.
– Это здесь его нашли? – спросил Слоун.
Дженкинс кивнул.
– Согласно следствию, здесь.
– Вы его знали?
Дженкинс кивнул:
– Да, я его знал.
– Что он был за человек?
Дженкинс оглянулся назад и, глядя на бегущий водный поток, задумчиво сказал:
– Хороший человек. Семейственный. Порядочный. Человек, который и жизни не пожалеет ради другого, если считает, что так надо поступить. Если вы, Дэвид, мучаетесь, считая себя виноватым, то не стоит: Джо не хотел бы этого. Я уверен, что он долгие годы чувствовал свою вину за то, что с вами произошло. Как и я. Но он, в отличие от меня, нашел в себе достаточно мужества, чтобы действовать. Вот почему он держал у себя папку. Я долго бился над загадкой, зачем ему это было нужно, но теперь я понял. Держать у себя вас он не мог. Это было бы слишком для вас опасно. И по этой же причине он не мог вас навещать. Но он хотел каким-то образом сохранить связь с вами, если бы когда-нибудь ему представился случай вас найти и рассказать, что с вами произошло и кто вы такой на самом деле.
Слоун почувствовал, как по щеке его скатилась слеза. Теперь он понял, что именно это и сделал Джо Браник.
Дженкинс вручил Слоуну толстую папку.
– Вначале там вложена записка. Джо предназначал ее вам. Надеюсь, она ответит на многие ваши вопросы.
Слоун взял папку.
– Вы можете мне рассказать, что произошло?
– А вы уверены, что хотите сейчас это выслушать?
Слоун повернулся и взглянул на Чарльза Дженкинса.
– Не знаю, хватит ли мне когда-либо готовности, мистер Дженкинс. Но у меня нет выбора. Я ведь понятия не имею о том, кто я такой.
Дженкинсу было знакомо это чувство.
– Возможно, мы оба это поймем, – сказал он и начал свой рассказ.
Он прибыл туда, когда уже смеркалось, насквозь промокнув под дождем, потея во влажной жаре в своем тяжелом шерстяном пончо. Он примкнул к группе людей, шедших в деревню с запада, а войдя, увидел там толпу, насчитывавшую, как он быстро определил, человек семьсот, гораздо больше, чем они подозревали. Он высматривал в ней людей с оружием, но если там и были солдаты, он их не видел.
Деревня была затеряна в глуши. В нее вела пешая тропа, выбитая в охристой каменистой почве предгорий. Ближайшая проезжая дорога оканчивалась в двух милях оттуда, а учитывая ее не располагающее к езде состояние – десять миль сплошных камней и колдобин, – путь этот можно было приравнять к двумстам. Маленькие, без внутренних перегородок глинобитные хижины под тростниковой крышей приютились в густых и непроходимых джунглях, обступивших их со всех сторон и грозивших поглотить. По грязным тропкам бродили свиньи, куры и тощие собаки, здесь же играли босоногие ребятишки. Ни водопровода, ни канализации. Ни одна усадьба не имела ни электричества, ни ванной, ни даже раковины. Освещения на улочках тоже не было. Как и телефона. На маленьком, в один акр, участке земли выращивали кукурузу, бобы, перец-чили и разного рода тыквы и кабачки.
Дженкинс устроился в задних рядах толпы, смущаясь своего роста, и, поджав под себя ноги, стал ждать – чего именно, он не знал. Уже через десять минут его колени, колотившиеся на ухабистой дороге о приборную доску джипа, затекли и стали болеть. Даже мысль об обратном пути вызывала тоскливую боль. Тут как назло опять полил дождь, сразу же проникнув в каждую щель и каждую дырочку, в каждый шов его одежды. Он поплотнее надвинул на лицо капюшон, оставив себе для наблюдения лишь маленькую щель. Толпу дождь, казалось, ничуть не обескуражил. По ней как будто пробегал электрический ток предвкушения – так ждут начала спортивных соревнований или разрекламированного бродвейского шоу.
Затем толпа притихла, и в наступившей тишине слышалось только, как где-то вдалеке воет собака. Все повернули голову в одну сторону и вытянули шею. Дженкинс возвышался над всеми сидящими, но вначале он не мог разглядеть, что привлекло внимание толпы. А потом он его увидел.
Его подняли на большой плоский валун, и он стоял там, словно паря в воздухе. Мальчик.
Это был просто мальчик – босоногий, с нежными, ангельскими чертами и темной копной волос.
Дженкинс смотрел, как мальчик прикрыл глаза, простер руки и запрокинул голову так, словно пил дождевые струи, лившиеся с деревьев. Белую рубашку его подхватил ветер, и она раздувалась как парус.
– Levante sus ojos у mire del lugar donde usted es.[9]9
Поднимите глаза и взгляните с места, где вы есть (исп.).
[Закрыть]
Головы поднялись, точно повинуясь приказу.
– Да возликуют селения. Да воспоют жители Мексики, преисполнившись радости. Да разнесется клич с горных вершин. Да явится Господь в величии своем. Подобно мощному воину, тряхнет он оружием и огласит простор, призывая на битву, и сокрушит врагов своих.
Дженкинс стянул с головы капюшон. Сидящие вокруг люди закрыли глаза, застыли подобно молчаливым каменным изваяниям, и только губы их подрагивали. Молитва. Они молились. Это было поразительно.
Слова изливались из уст ребенка и текли потоком, и как ручей влечет за собой камни, так эти слова, увлекая толпу, текли туда, где сидел Чарльз Дженкинс.
– Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать... Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними и кривые пути – прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.[10]10
Исайя 42:14-15.
[Закрыть]
Слова были смутно знакомыми. Откуда он знает их? И, слушая мальчика, он вспомнил. То, что он, посещавший баптистскую церковь, считал давно забытым, оказывается, лишь дремало, дожидаясь своего часа. Мальчик произносил слова Священного Писания, но они казались другими, совсем другими. Мальчик произносил их словно впервые, так, словно это были его собственные слова. Прошло десять минут. Двадцать. В толпе почти не было движения; по лицам слушателей текли слезы.
Господи, думал Дженкинс.
Мальчик сделал паузу и устремил в толпу взгляд такой пристальный, что сидевшие впереди отпрянули, чуть не упав. Голос мальчика окреп. Слова теперь не текли потоком, а врезались в толпу, как острие ножа.
– Мы мексиканцы. Наши предки называли эту землю своей задолго до того, как пришли захватчики, отняв то, что по праву принадлежало мексиканцам. Мы потомки великой расы воинов, потомки гордого народа.
Шепот беспокойства пронесся по рядам.
– Мы ацтеки, толтеки, запотеки и михтеки. Тысячи и тысячи лет мы жили свободные и независимые. Мы создали великие цивилизации. Мы ни от кого не зависели и не искали ничьей помощи. Мы щедро дарили, но они желали все большего. Мы не искали войны, но война сама нашла нас. Слушайте меня ныне. Не может быть Мексики иной, чем свободная Мексика.
Так это была правда. Дженкинс надеялся, что это не так. Однако это была правда. Вот она, пучина мятежа.
– Истинная Мексика возродится только тогда, когда мы перестанем вручать нашу судьбу людям во власти, тем, кто хочет поработить мексиканский народ, чтобы возвыситься самим, чтобы жить в роскошных дворцах. Разрушителям Мексики, угнетателям ее народа не должно быть места на этой земле. Те, кто насилует Мексику, крадет ее земли, богатства ее недр, должны быть изгнаны отсюда навечно. Только независимая нация может процветать. И только добившись истинной независимости, с честью возродится наша гордая раса.
Толпа вдруг как один поднялась и окружила его. Камень захлестнули крики одобрения. Дженкинс потерял мальчика из виду, а потом вдруг увидел его высоко над толпой – люди несли его, а он плясал над их головами, стоя у них на плечах, плясал под рокот барабанов. Картина была фантастической, похожей на сцену из спектакля или кадры кинокартины, снимаемой на студии в Голливуде. Но это не были актеры, и это не был спектакль. Это была правда. И это происходило в действительности.
Гром ударил с разъяренного неба, громовой раскат тряханул джунгли с такой силой, что земля содрогнулась, а небеса разверзлись. Дождь полил сплошной завесой, с деревьев потекло, как из крана. Толпа быстро рассеялась, люди разбежались по хижинам или укрылись в джунглях, откуда они пришли. Чарльз Дженкинс стоял под дождем один.
– После каждой моей поездки я представлял донесение, – сказал Дженкинс. Он покачал головой. – Мне очень жаль. Я не хотел, чтобы это случилось.
Слоун видел страдание в глазах Дженкинса, целая жизнь, полная боли и вины, сейчас промелькнула перед ним. Они были так похожи, он и Дженкинс. Оба прожили много лет, не зная, кто они, и сомневаясь, что хотят это знать.
– В том, что случилось в то утро, виноваты не вы, – сказал Слоун. Он тер подбородок, вспоминая Мельду, молодого полицейского – отца новорожденного сына, дежурного охранника в своем офисе, незадолго перед тем ставшего дедом, и Питера Хо с семьей.
Он думал о Джо Бранике.
Он думал о женщинах и детях из той деревни. Он думал о матери.
Огромность его потери – вкупе с болью, которую она ему принесла, – навалились на него грузом таким тяжелым, что ему было трудно дышать.
– Я убедил их в том, что угроза реальна, что вы – это реальность, – сказал Дженкинс.
– Нет. – Слоун покачал головой. – Это я убедил вас. – Он поднял глаза на Дженкинса. – Я убедил вас, потому что меня так научили, потому что я видел в этом свое предназначение. Ни вы, ни я не были ответственны за то, что произошло. Мы оба были слишком молоды, слишком доверчивы. Одного не могу понять: почему это случилось сейчас? Почему после стольких лет Джо Браник вытащил это все на свет божий? Он хранил папку. Зачем же он ждал тридцать лет, чтобы обличить Роберта Пика?
– Потому что Джо не пытался обличить Роберта Пика, Дэвид. Он пытался его спасти.
– Не понимаю.
– Независимо от того, что он думал о Пике, когда узнал правду, когда раскрылось, что человек, служению которому он посвятил не один год, был убийцей, Джо любил свою страну и не желал, чтобы она понесла урон.
– Тогда зачем ему понадобился я?
– Потому что вы единственный из оставшихся в живых, который знает, кто такой Эль Профета.
87
Солярий на третьем этаже Белого дома раньше служил комнатой для детей президентов. Там же обычно на каникулах собиралась вся семья. Когда Роберт Пик заступил в должность, дети его уже выросли, и часть бюджетных денег, выделяемых обычно президентской чете на обустройство, они потратили в соответствии со своими вкусами, превратив солярий в помещение, отчасти похожее на личный кабинет, отчасти же – на мемориал Роберта Пика. На темных дубовых панелях были развешаны фотографии, запечатлевшие как рабочие будни семьи, так и минуты отдыха, и в центре каждой был Роберт Пик, сын всеми уважаемого государственного деятеля, достигший поста президента Соединенных Штатов. За толстым стеклом стенных шкафов хранились солидные книжные тома, сувениры, памятные мелочи, грамоты и благодарности, скопившиеся за время выдающейся политической карьеры Пика. Все это перемежалось семейными фотографиями и освещалось мягкой подсветкой. Единственным дополнительным источником света служила старинная настольная лампа – казалось, в комнате этой нарочно сохраняется полумрак, чтобы тайны, скрываемые Робертом Пиком, ненароком не разрушили заботливо созданный образ.
Слоун сидел в полумраке, держа на коленях раскрытую папку; он читал собранные в ней донесения Чарльза Дженкинса, те самые, что подвигли Роберта Пика послать в горы подразделение «Когти» и учинить там расправу. За шесть месяцев, в течение которых Дженкинс наведывался в деревню, тон его донесений становился все более пылким и убедительным. Начав с откровенного неприятия, он перешел к осторожным сомнениям и раздумьям, а кончил – твердой уверенностью. Слоун перечитал одно из донесений:
«События, свидетелем которых я стал, нельзя отвергнуть как не заслуживающие внимания. Атмосферу этих сборищ я не могу назвать иначе как наэлектризованной, похожей на ту, что вызывают наблюдения за паранормальными явлениями. Этот ребенок не просто цитирует Библию – текст Священного Писания льется из него, как вода из крана, так, словно он это сочинил... или же сочинили это для него. Толпы, которые собираются, чтобы послушать его, не просто внимают его словам. Они их впитывают, словно загипнотизированные самой личностью этого ребенка».
Слоуну вспоминались присяжные, и он, думая о сходстве, ощущал неодолимое желание читать дальше.
«Выступления этого ребенка, или, как их называют местные, «проповеди», вызывают все большее беспокойство. Хотя проповедует он лишь мексиканские культурные ценности, смысл его речей – явно антиправительственный. Он отстаивает возврат к основополагающим принципам мексиканской революции – требованиям свобод для бедных и неимущих, предоставления земли тем, кто на ней трудится, национализации мексиканских банков и природных богатств, правительственных субсидий для оплаты жилья и медицинского обслуживания. Все явственнее проскальзывает критическое отношение к правительству и исторически сложившемуся вмешательству США в политику Мексики. Не призывая к насилию открыто, он нередко возбуждает присутствующих до горячего сочувствия ему».
«Нельзя не учитывать влияния революционного настроения марксистов, жаждущих превращения Мексики во второй Вьетнам. Возрастающее количество народа, собирающегося на выступлениях мальчика, свидетельствует о том, что идеи эти грозят распространиться за пределы джунглей и найти отклик и сочувствие в более искушенной аудитории – среди студентов, рабочих и мятежно настроенных профсоюзных и иных объединений мексиканских городов. Если это произойдет, идеи эти, доносимые до слушателей так, как я это наблюдал, могут иметь непредсказуемые последствия и истолкования, способные подорвать спокойствие страны и вызвать падение ее правительства».
Дверь в комнату отворилась.
Вошел Роберт Пик, одетый по-домашнему – в синие джинсы, шерстяной свитер и тапочки. Не обращая внимания на Слоуна, он прошел к стоявшему у окна стеклянному столику на колесиках и, вытащив пробку из хрустального графина, плеснул себе бренди в широкий бокал.
– То, что я делал, – сказал он, стоя спиной к Слоуну, – я делал потому, что это как нельзя лучше отвечало интересам моей страны. Наши вооруженные силы по всему миру были настороже ввиду угрозы на Ближнем Востоке, который вот-вот готов был взорваться. Нашим военным кораблям в Индийском океане и Персидском заливе грозила постоянная опасность.
Пик отвернулся от окна и встретился взглядом со Слоуном. Его небрежно-высокомерная манера не могла скрыть того, что изобличало тело. Синие глаза его казались усталыми, и знаменитая лучезарность его взгляда словно потускнела, под глазами обозначились темные мешки. Кожа обвисла, и щеки горели румянцем, какой бывает от повышенного кровяного давления.
Гнев и горечь, гнездившиеся в глубине души Слоуна, при виде этого гордого высокомерия вспыхнули, он ощутил язвящую боль. Отложив папку, он встал.
– То, что вы делали, – сказал он голосом не громче шепота, – называется убийством – убийством ни в чем не повинных женщин и детей.
Пик закусил губу, но продолжал:
– Я отдал приказ, потому что последствия в случае, если б я воздержался от этого, перевесили бы последствия моего приказа.
– Вы отдали приказ, чтобы спасти свою политическую карьеру.
– Если б разразилась революция, то ни в чем не повинные женщины и дети могли бы пострадать.
– Они и так пострадали.
– Бывают времена, когда ради блага страны, ради многих надо пожертвовать несколькими. Как правило, я этому не следую. И не я это выдумал. Но моей задачей было не допустить никаких препон на нашем пути к мексиканской нефти. Я только исполнял свою работу, свой служебный долг.
В голове Слоуна пронеслись слова, сказанные им матери Эмили Скотт, и он почувствовал стыд.
Пик обошел массивное кресло, опираясь на его спинку, словно удерживая тем равновесие.
– Я не могу изменить того, что было сделано тридцать лет назад, мистер Слоун.
– Разумеется. Но что случилось неделю назад, изменить вы могли.
– Вы не знаете того, что знаю я, того, что я знал и раньше. Вы не сидите в моем кресле. Вы не имеете права меня судить.
– Ошибаетесь, – сказал Слоун. – Сегодня вечером я как раз сижу в вашем кресле. И потому сужу вас.
Пик поднес ладони к губам и наклонил голову, словно в беззвучной молитве.
– Эти переговоры важнее наших разногласий. У нас есть возможность уменьшить, а в перспективе и искоренить нашу зависимость от ближневосточной нефти и покончить со всеми сопряженными с этим проблемами.
– Не выйдет, мистер Пик. Ваше прошлое в конце концов нагнало вас, и на сей раз вам не убежать, и отец ваш вас не спасет. И отдать спасительный приказ вы тоже не сможете. Вы в западне. Вы рассердили ОПЕК, и если вы не вернете нефтяным компаниям мексиканский рынок, они вас изничтожат. Пути к отступлению у вас нет. Вам надо присутствовать на саммите, иначе вы лишитесь своего поста. Но в данный момент это наименьшая из ваших трудностей.
Пик допил бренди, сделав последний глоток.
– Охраны там будет больше, чем когда-либо. Этому человеку и на милю не приблизиться к Белому дому.
– Если б вы и вправду так считали, я сейчас не вел бы с вами беседу.
Кадык Пика дернулся как поплавок.
– И вам известно, кто он, этот Эль Профета?
Слоун не ответил.
– Вы что-то хотите за это?
– Право, не много. По сравнению с тем, что поставлено на карту. Вы разрушили мою жизнь. Я собираюсь разрушить вашу. Бывают времена, когда ради блага страны, ради многих надо пожертвовать несколькими. Я тоже, как правило, этому не следую, мистер Пик. Условия я вам изложил.
Пик покачал головой.
– Я этого не сделаю.
Слоун повернулся и направился к двери.
– В таком случае завтра к полудню вас не будет в живых.








