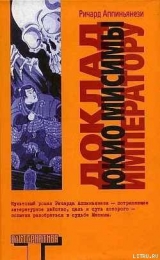
Текст книги "Доклад Юкио Мисимы императору"
Автор книги: Ричард Аппиньянези
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 43 страниц)
– Вы красноречивы, но напоминаете женщину, которая сожалеет о том, что ей стукнуло сорок.
– Мне тридцать пять.
– Но мне сорок.
Кейко затронула мои слабые струны. Меня терзали угрызения совести. Мои накачанные мышцы были всего лишь тщеславным желанием вернуть молодость, являлись ностальгией по юности. Я искал корни своей жажды вновь обрести юность в идее вечно молодой, нестареющей Японии, которая существовала только в моем воображении. Мускулы были для меня волшебной сказкой, уверенностью, которой мне не хватало, орудием, с помощью которого я надеялся преодолеть свой скептицизм.
Мы вернулись за столик. Я достал из рюкзака черный бюстгальтер и рассказал Кейко о том, как он попал ко мне. Наши зрители ахнули от изумления и восхищения, когда я протянул Кейко лифчик, принадлежавший незнакомке, участвовавшей в уличной манифестации.
– Надо обладать талантом Гудини, чтобы снять с себя нерасстегнутый лифчик, – заметила Кейко. Поднеся к лицу мою находку, она понюхала ее и тут же поморщилась. – Духи этой дамы не в моем вкусе.
– Хотите, я отдам вам его?
Я чувствовал, что возвращаю бюстгальтер его законной хозяйке.
– Простите, но зачем он мне?
– На память.
И тут я, сам не знаю почему, заговорил о том, что по улицам Гинзы гуляет много неприятных людей. Я упомянул о затмении, которое устроила удалившаяся в пещеру Аматерасу, и об осколках Божественного Зеркала. Я рассказал о выступлении обнаженных танцовщиц в стриптиз-клубе и стал перечислять другие симптомы необратимых патогенных изменений нашей культуры, начавшихся в 1945 году.
– Должно быть, кому-то пришлось бы по вкусу, если бы во время спектаклей театра Кабуки и Но показывали стриптиз. Но к чему это? – возмущенно продолжал я. – Возможно, у меня началась националистическая паранойя, но я не могу согласиться с тем, что во время праздника О-бон исполняют мелодию «ча-ча-ча», а синтоистские обряды проходят в сопровождении кантри-рока. Наша традиционная тяга к новому здесь ни при чем. Как вы знаете, принцип «има мека», то есть «тяготение к новизне», утвердился в японской культуре еще в десятом столетии, в эпоху Хэй-ан. Но то, что происходит сейчас, не имеет ничего общего с этим принципом. Я имею в виду не те изменения, которые сопровождают наш прогресс в области электроники, судостроения и внедрения мощных сборочных конвейеров. Нет, изменения, о которых я говорю, более зловещие. Это новый ужасающий вид прогресса, обусловленный абсолютным духовным вакуумом. Я вовсе не обвиняю Запад в том, что он поставляет нам вещи, несовместимые с нашими традиционными ценностями. Я обвиняю бесхребетную нацию, которая позволяет своей культуре умереть.
– Значит, об этом будет ваша статья, которая завтра появится в «Майники»?
– Я считаю, что нет никакого смысла писать об этом.
– В таком случае в чем вы видите смысл?
Я хотел было сказать «в действии», но сдержался.
– Я жду, что вскоре произойдет одно важное событие, – промолвил я. – Ни демонстрации, ни пролитая кровь участников беспорядков на улицах города, ни поднятый депутатами-социалистами шум, ни полицейские, ворвавшиеся в святая святых парламента, – ничто не имеет сейчас значения. Главное событие произойдет через несколько дней, когда император тихо, не обращая внимания на протесты народа, поставит свою печать на ратифицированный Договор о безопасности с США.
Заглянув в мой открытый рюкзак, Кейко заметила нарукавную повязку репортера «Майники».
– Вы теперь репортер?
– Временно, пока в городе будут продолжаться беспорядки.
– За вами трудно угнаться, сэнсэй. Вы, как вихрь, постоянно в движении. Вы писатель, драматург, театральный режиссер, а недавно к тому же снялись в фильме.
– О да, я сыграл парня из якудзы. Это был настоящий скандал.
– Вы правы насчет скандала. Вы рисковали, поскольку литературные круги могли не одобрить ваше появление на экране в роли преступника. Почему вы все-таки рискнули и снялись в этом скандальном фильме?
– Я согласился сняться в этой роли, потому что мне понравилась сцена смерти моего героя на эскалаторе. Интересно, чем я, по-вашему, рисковал?
– И вы еще спрашиваете? Я очень хорошо помню, как вы жаловались на пуританизм литературных кругов, на нетерпимость ваших собратьев по перу к проявлению индивидуальности. Неужели литературная мафия изменилась за эти восемь лет?
– Нет. Напротив, она стала еще жестче относиться к таким» как я. Литературная мафия долго ждала своего шанса, чтобы отомстить мне.
– Значит, вы прекрасно знаете, чего ждать от них. Эти люди, могут замалчивать ваши успехи, распустить порочащие вас слухи, объявить вам бойкот. Все это – смертельное оружие в руках литературной клики. Вы не можете отмахнуться от этих людей, ведь они в состоянии повлиять на вашу карьеру. Можно сколько угодно называть респектабельность конформистским вздором, но сегодня очень многое в нашей жизни зависит от репутации.
Я видел, что Кейко искренне озабочена моей судьбой. Мне показалось, что это моя мать сейчас сидит напротив меня и бранит за неосмотрительность.
– Все мои усилия стать респектабельным оказались тщетными, Кейко. Поэтому мне нечем рисковать.
Кейко поморщилась, мои слова, должно быть, задели ее за живое.
– Ваша репутация намного лучше, чем репутация многих известных людей, рисковавших всем ради экономического возрождения страны в первые послевоенные годы. О них теперь ходит дурная слава. Они опорочили свое доброе имя, заключив разного рода грязные сделки, они запятнали свою честь и навсегда стали изгоями для респектабельного общества, отплатившего им черной неблагодарностью. Я прежде всего имею в виду графа Ито. Возможно, он слишком резкий и безжалостный человек, но нация многим обязана ему.
– В этот же ряд можно поставить и бывшую баронессу Омиёке. Кейко проигнорировала мое замечание.
– Я знаю, что бывший граф Ито недавно стал членом верхней палаты парламента. Мне кажется, ему нечего жаловаться на неблагодарность нации, – сказал я.
– Вы ничего не понимаете, – с досадой возразила Кейко. – От того, что он стал членом парламента, респектабельные люди не стали относиться к нему лучше.
– Да, я знаю. Респектабельные люди… Для своего тестя, Сугиямы Ней, этого приверженца традиционных ценностей и лицемера, я навсегда останусь презренным типом, бросающим тень на его репутацию. Он считает, что я недостоин его дочери.
– Но раз вы знаете о том, как относятся к вам ваши родственники, тогда зачем согласились сниматься в скандальном фильме о якудзе?
– Я объясню вам, почему согласился участвовать в съемках этого фильма. Фильм рассказывает о преступном мире с его сложными взаимоотношениями и кодексом чести, с его принципом верности и культом меча. Несмотря на то, что все это чистой воды беллетристика низкого пошиба, в ней тем не менее сохранена связь с нашим прошлым, с уже исчезнувшим миром самурайской культуры. Этот мир был уничтожен еще сто лет назад, когда в стране началась модернизация под влиянием Запада. Оккупационные власти строго запрещали снимать фильмы о якудзе. Однако, несмотря на преследования со стороны американцев и неодобрительное отношение японских либералов, этот популярный киножанр выжил и начал развиваться, бросая вызов американизму, послевоенному либерализму и безжизненному модернизму. Я понял, что участие в этом фильме было моим первым шагом на политической арене. Моя интуиция меня не подвела. Через месяц после того, как закончились съемки фильма, люди вышли на улицы и начались народные волнения. Мой протест совпал с широким народным протестом против предательства национальных интересов и распродажи страны американцам.
– Ваш протестующий голос не был бы услышан, если бы в это же время не начались политические акции, – заявила Кейко. – Но почему вы не снялись в подобном фильме раньше?
– По совершенно очевидной причине: по своим физическим данным я не подходил для роли члена якудзы, – ответил я, наблюдая за тем, как Кейко поглаживает чашечки лежавшего на столе лифчика. – Вы все еще участвуете в соревнованиях по кэндо?
– Редко, лишь в те периоды, когда возобновляю тренировки.
– Я никогда не забуду ваше выступление на сцене кинотеатра двенадцать лет назад. Я давно хотел кое-что спросить у вас, но не осмеливался, поскольку всегда помнил о том положении, которое вы занимаете в Церкви космополитического буддизма.
– Я догадываюсь, какой вопрос вы хотели задать мне. Вас интересует, действительно ли я верю в учение, проповедуемое этой сектой, или просто притворяюсь.
– Предположим, что я действительно задал бы вам этот вопрос. Что бы вы ответили мне?
– Скажите, у вас есть дети?
– Да, дочь Норико. В этом месяце ей исполнится год.
– Моя дочь умерла примерно в этом же возрасте.
– Я не знал, что у вас был ребенок.
– Я пренебрегала им. Рождение дочери вызвало у меня досаду. В моем сердце не было места для этого несчастного создания. Признаюсь, я часто желала ей смерти. Вы помните мою горничную Коюми? Я полностью предоставила ребенка ее заботам с тайной надеждой, что моя дочь умрет. Потому что Коюми совершенно не подходила на роль заботливой няни. Коюми, бывшая гейша, всей душой ненавидела мужчин. Она была лесбиянкой и потворствовала всем моим капризам. Коюми сразу же догадалась о моих тайных желаниях.
– Но ведь это чудовищно, Кейко! Вы хотите сказать, что ваша горничная жестоко обращалась с ребенком?
– Да, но это выглядело так, словно она просто баловала ее, испытывая безграничную нежность и преданность. Она покрывала ее тельце поцелуями, душила ее в своих объятиях, купала по сто раз на дню, брызгала одеколоном, кормила одними сладостями, не давая нормальной здоровой пищи. Если бы моя дочь выжила, она превратилась бы в отвратительное больное чудовище. Быть может, она умерла, потому что судьба смилостивилась над ней. Коюми повсюду таскала ее с собой, даже в такие места, в которых ребенку грозила опасность. И вот однажды на кухне, готовя обед, Коюми опрокинула на ребенка чайник с кипятком. Когда я на следующий день вернулась домой, моя девочка уже была мертва. В последний раз я видела ее в морге. Ее тельце было так сильно изуродовано, что у меня дрогнуло сердце. Я ощутила раскаяние, но было уже слишком поздно. Вы спрашиваете меня, искренна ли моя вера. Искренна, потому что я искренне раскаиваюсь. Меня мучают угрызения совести, я объехала все главные храмы страны, постоянно участвую в великих религиозных праздниках, бываю у ясновидцев мико. Одним словом, я пытаюсь успокоить оскорбленный дух своей дочери и заставить его прекратить преследовать меня.
– Вы рассказали ужасную историю, Кейко. Когда все это случилось? Уже после того, как мы перестали общаться?
– Да.
– А какова судьба вашей горничной Коюми? Кейко мстительно усмехнулась.
– Она поклялась, что покончит с собой, но попытка самоубийства оказалась неудачной, эта здоровая корова выжила. Я приказала ей побрить голову и удалиться в женский монастырь секты Хоссо, расположенный вблизи Киото. Эта обитель отличается чрезвычайной строгостью. Там она останется до конца своих дней. Раз в год, в годовщину смерти ребенка, я посещаю Коюми в этом монастыре. Она воет, рыдает, царапает себе грудь, разбивает до крови голову о пол, умоляя меня показать ей шрам.
– Шрам? Какой шрам?
– Я не могу говорить с вами об этом. Это запретная тема.
– Запретная даже для вашего близкого друга графа Ито?
Кейко покачала головой. Прядь волос выбилась из ее прически и упала на лицо. Она напоминала трещину на прекрасном белом фарфоре. На мгновение мне показалось, что передо мной дух ками с одной из черно-белых картин Мицунобу. На Кейко было больно смотреть, и я отвел глаза в сторону. Слышавшие ее рассказ посетители бара застыли, окаменев от ужаса. Официанты ходили между столиками со скорбными лицами, словно присутствовали на похоронах. Неужели власть Кейко над этими людьми была столь велика, что они сохранят ее рассказ в тайне?
– Надеюсь, ваша дочь Норико здорова?
– Я молю богов о том, чтобы это было так, – осторожно ответил я, испытывая суеверный страх.
Я с детства был суеверным, и вот теперь мороз пробежал у меня по коже при мысли о том, что неупокоенный ревнивый дух умершего ребенка Кейко может причинить вред моей маленькой Норико. Я почти физически ощущал присутствие призрака дочери Кейко здесь, рядом с нами.
– Я расскажу вам одну историю, о которой никогда никому не рассказывала, – начала Кейко. Я хотел остановить ее, заткнуть уши, ничего больше не слышать, но, взглянув в полные слез глаза собеседницы, промолчал. – Смерть моей дочери Норико…
Кейко осеклась, заметив выражение ужаса в моих глазах, и закрыла лицо руками.
– Простите, Мисима-сан. Я совсем обезумела от горя. У меня не поворачивается язык, чтобы назвать настоящее имя ребенка. Рейко, мою дочь звали Рейко.
– Вы не обязаны продолжать свой рассказ.
– Но я должна это сделать. Я хочу рассказать вам эту историю до конца и тем самым поставить на ней крест. Рейко появилась на свет при неблагоприятных обстоятельствах. Может быть, это и предопределило ее дальнейшую судьбу. Акушер в клинике святого Луки, профессор Маруяма Суники, решил делать мне кесарево сечение. Он не хотел слышать никаких возражений. Профессор Маруяма был человеком старой закалки, он считал, что женщины знатного происхождения не должны страдать, рожая детей, словно крестьянки, разрешающиеся от бремени посреди рисового поля. Этот врач был типичным представителем касты гинекологов, напыщенным и самодовольным. Мне порой кажется, что право доступа к женским гениталиям привлекает людей с наклонностями настоящих фашистов. Он обещал мне, что роды пройдут безболезненно. «Вы заснете и ничего не почувствуете. А когда проснетесь, увидите рядом с собой здорового ребенка, появившегося как по мановению волшебной палочки». По его заверениям, шрам не нанесет ущерба моей внешности, так как доктор намеревался сделать горизонтальный разрез внизу живота. «Вы сможете носить бикини, – сказал он, – если, конечно, предпочитаете эту модель купальника».
Утром перед операцией я сильно нервничала, и у меня все не ладилось. Когда мы утром приехали в клинику, то обнаружили, что двери операционной заперты. Моя операция была назначена на восемь часов, и профессор сердился на свой персонал за то, что ему не оставили ключей. Настроение профессора стало еще хуже, когда он узнал, что опытный анестезиолог заболел и его заменит молодой специалист, который явно чувствовал себя не в своей тарелке.
Операция началась в девять, с опозданием. Анестезиолог сделал мне укол в левую руку и попросил посчитать от десяти до одного, в обратном порядке. Я досчитала до семи и погрузилась в глубокий сон. Когда я очнулась, висевшие на стене напротив операционного стола часы все еще показывали девять. Я запаниковала, но потом стала внушать себе, что это только сон. Однако неприятные ощущения от всунутой мне в рот трубки свидетельствовали о том, что я не сплю. Я стала задыхаться от удушья и услышала встревоженный голос анестезиолога: «Профессор, она открыла глаза!» Взглянув на меня, профессор Маруяма раздраженно сказал: «Ну и что? Мадам Омиёке все равно ничего не видит и не слышит». И он продолжал оперировать.
– Значит, вы во время операции открыли глаза и все видели?
– Да, открыла. И не могла снова закрыть. Я вообще была не в состоянии пошевелиться, потому что введенное мне в вену обезболивающее средство полностью парализовало меня. Однако я сохранила способность видеть, слышать и, что самое ужасное, чувствовать. Я попыталась подать хоть какой-нибудь знак, предупредить их о том, что очнулась от наркоза, что они должны прекратить операцию, но не могла даже моргнуть. Я как будто была заключена в тюрьму собственной плоти, заживо погребена. Я кричала, не издавая ни звука, я плакала, не проливая слез. Я поняла, что сейчас умру в страшных муках, перейду в вечность, глядя на висящие напротив меня часы, отсчитывающие время.
Затем меня пронзила невыносимая боль. Она обдала все тело как огнем. Это в мою плоть вошел скальпель. Я поняла это, потому что увидела, как моя кровь брызнула на передники профессора Маруямы и его помощника. Сам скальпель от меня скрывал мой большой живот, в котором шевелилась Рейко.
– Вы действительно испытали боль, несмотря на наркоз?
– Да, я все отчетливо чувствовала.
– А вы могли бы описать свои ощущения?
Кейко внимательно посмотрела на меня. На ее щеках блестели слезы.
– Я помню, что мне было очень больно, но мое тело не сохранило воспоминаний о самих ощущениях этой боли. Наверное, только тело могло бы описать эти страшные муки, но, к счастью, у него нет слов, чтобы сделать это. Боль была неописуемая.
То, что рассказала Кейко, было драгоценным свидетельством для меня. Я слушал ее как зачарованный. Она делилась со мной своим неоценимым опытом, пережив, по существу, вивисекцию. Ее рассказ напомнил мне о других людях, испытавших подобные страдания. Однако они не могли дать отчет в своих ощущениях. Я имею в виду тех, кто совершил обряд сеппуку, то есть вспорол себе живот мечом. Ни в одной книге из истории самураев, будь то кодекс бусидо или «Путь Смерти» священнослужителя Ямамото Дзоко, я не встретил даже намека на то, что именно физически ощущают те, кто совершает сеппуку. Потому что после сеппуку не бывает выживших. Ритуал заканчивается обезглавливанием, которое выполняет кайсаку-нин, специальный человек, назначенный тем, кто намеревается совершить сеппуку. Конечно, между несчастьем, которое пережила Кейко, и сеппуку есть большая разница. Кейко стала страдалицей поневоле, в то время как сеппуку – осознанный добровольный акт. Сеппуку требует огромного упорства и силы воли. И все же я был искренне благодарен Кейко за то, что она дала мне почувствовать вкус боли.
Кейко улыбнулась сквозь слезы.
– Я услышала, как кто-то сказал: «Девочка», – продолжала она. – Чувствуя себя совершенно беспомощной, я смотрела на часы, и вдруг на их фоне появилась голова Рейко. Ребенок показался мне окровавленным пауком. Вы просили, чтобы я описала боль. Боль вселяет чувство полного одиночества. Ты один во вселенной, которая мертва и пуста, и тебя никто не слышит. Я молила богов о том, чтобы смерть избавила меня от мук. Боль снова усилилась, когда профессор Маруяма начал накладывать швы. Я видела в его окровавленных, как у мясника, пальцах иглу. Завершая операцию, профессор читал своему помощнику лекцию по французской кулинарии. Вы можете это себе представить? Страдая от невыносимой боли, я вынуждена была слушать рецепты приготовления гусиного паштета!
Наконец, когда действие наркоза совершенно прошло, я вновь обрела способность двигаться и начала кричать и биться как безумная. Врачи вынуждены были привязать меня к кровати. Я отказывалась брать ребенка на руки и кормить его. Я даже видеть его не хотела! Уже после смерти Рейко в одной американской книге по психиатрии я прочитала, что мое состояние после родов называлось реактивной депрессией.
Рассказывая, Кейко открыла пудреницу, чтобы припудрить лицо. Я видел, что в зеркальце по ходу ее рассказа отражаются разные женские лики – женщины то надували губки, то изгибали бровь, то хмурились, то морщились, выражая свое недовольство. Если бы художник сумел схватить все ее гримасы, то он создал бы на холсте образы женщин, которых мучают в аду.
– Простите меня за нескромность, но мне очень хочется спросить, кто был отцом вашего ребенка?
Кейко закрыла пудреницу.
– Во всяком случае не Ито-сан.
– Значит, кто-то, кого я не знаю? Она пожала плечами:
– Могу сказать, что он не был японцем. Впрочем, какое значение это имеет?
– Вы разрешите мне взглянуть на ваш шрам? – неожиданно для себя спросил я.
– Не кажется ли вам, что это довольно странное желание?
– Вы правы, но, на мой взгляд, это было бы логическим завершением вашего рассказа.
Поколебавшись, Кейко кивнула:
– Хорошо. Я выполню вашу просьбу, но при одном условии. Вы должны встретиться с Ито-сан. Он каждый месяц устраивает традиционную вечеринку, на которую съезжаются крупные политики, такие, например, как премьер-министр Киси Нобусукэ. Вы придете?
Я кивнул.
Такси доставило нас в фешенебельный район Азабу. Мы подъехали к особняку, окруженному английским садом. К парадному входу вела широкая подъездная дорожка. Внушительное здание было построено в стиле модерн, модном в 1900-е годы. Оно было свидетелем золотой эры Мэйдзи и чудом уцелело во время бомбежек Токио в годы войны.
– Вы переехали сюда из дома у парка Коганеи? – спросил я Кейко.
– О нет, я не могу позволить себе подобной роскоши. Здесь живет Ито-сан. Не беспокойтесь, Кокан, он сейчас в отъезде, в Швейцарии, и пробудет там до конца месяца.
Интерьер дома графа Ито поражал своим великолепием. Пол : в вестибюле был выложен черными и белыми мраморными плитами, на стенах висели фламандские гобелены и живописные полотна голландских художников. Здесь и там скромно стояли со вкусом подобранные предметы японского искусства. Каждая комната была обставлена в стиле определенной эпохи. И повсюду царила восхитительная смесь европейского и японского искусства, свидетельствовавшая о незаурядном вкусе хозяина дома.
Кейко проводила меня в гостиную, обставленную в стиле рококо, здесь стояла мебель эпохи Людовика Четырнадцатого. На стенах висели картины на свитках периода Хигасиямы.
– Да это настоящий музей! – восторженно воскликнул я. – Ито, должно быть, богат как Крез.
– Ходят слухи, что этот особняк построил принц Хигасику-ни для своей любовницы, французской графини. Однако она так и не переехала в этот дом. Принц отдал его Ито-сан в счет карточного долга.
Кейко подала мне бурбон в стакане из венецианского стекла.
– Дайте мне немного времени, чтобы подготовиться к демонстрации шрама, – сказала она. – А вы тем временем можете полюбоваться миниатюрами.
Она показала на лежавший на столике свиток и удалилась в смежную комнату.
– Ито-сан – прекрасный знаток европейского и японского искусства! – крикнул я так, чтобы Кейко услышала меня. – Его коллекция безупречна.
– Он берет пример со своего кумира принца Коноэ Фумимаро, – ответила Кейко из смежной комнаты, дверь которой оставалась открытой. – Вы знаете, как принц Коноэ покончил с собой? Ночью накануне вынесения судебного решения о признании его военным преступником категории «А» он собрал на своей вил-ле друзей, веселился вместе с ними до утра, а потом принял яд. Утром на ночном столике рядом с его кроватью нашли книгу Оскара Уайльда «De Profundis». На открытой странице был отмечен следующий абзац: «Я должен сказать себе, что сам погубил себя и что никто не может погубить человека, будь он мал или велик, кроме него самого». Таким образом он приносил свои извинения императору.
– Вы запомнили эту цитату?
– Я часто слышала ее из уст Ито-сан. Принц Коноэ жил и умер как настоящий античный сибарит, такой, например, как Петроний. Миниатюры, которыми вы сейчас любуетесь, принадлежали ему.
Миниатюры на свитке принца Коноэ иллюстрировали историю чиго, которая имела явный гомосексуальный характер. Чиго – мальчик, любовник священника. Я начал читать рассказ о чиго с того места, на котором была открыта рукопись.
В книге рассказывалось о почтенном настоятеле монастыря Нинна-джи, который всем сердцем привязался к чиго. У настоятеля было много любовников в монастыре, но чаще всего он спал с мальчиком чиго. Настоятель был слишком стар, и его член не обладал уже достаточной силой для того, чтобы проникнуть в анус мальчика. Старик ограничивался тем, что «тер свою стрелу между двух холмов». Чиго находил такую практику прискорбной и стал готовить себя специальным образом для того, чтобы доставить настоятелю истинное удовольствие.
– Кстати, раз уж мы заговорили об Оскаре Уайльде, – раздался голос Кейко из соседней комнаты, – то я хотела бы сказать, что в апреле смотрела в театре вашу постановку его «Саломеи». Я ходила на этот спектакль вместе с мадам Сато, это жена младшего брата премьер-министра Киси, Сато Еисаку.
– Вы вращаетесь в высшем обществе, дорогая Кейко.
– Если вы встретитесь с Ито-сан, то сможете тоже запросто общаться с представителями этого общества.
– Какое мнение у вас сложилось о моей постановке?
– О, мадам Сато очень понравился спектакль. При встрече она, конечно, поделится с вами своими впечатлениями.
– А вам понравилась моя режиссерская работа?
– Не совсем. Решенные в черно-белой цветовой гамме декорации и костюмы показались мне чрезмерно нарочитыми.
– Эстетскими?
– Да, можно сказать и так.
Реакция Кейко была похожа на реакцию человека, стоящего перед уставленным изысканными сладостями подносом и не уверенного в том, окажутся ли эти великолепные на вид кондитерские изделия столь же вкусны, сколь красивы.
– Я предпочел черно-белые тона, потому что, ставя это произведение на сцене, ориентировался на монохромные иллюстрации Обри Бердсли к «Саломее» Уайльда. Знаете, я мечтал сам сыграть роль Иоанна Крестителя. Это вызвало бы среди моих литературных критиков, этих слабосильных лилипутов, новую вспышку гнева.
Кейко засмеялась. Я услышал потрескивание наэлектризованной одежды, которую она надевала.
– Думаю, что после вашего участия в фильме о каракадзе эстетская постановка «Саломеи» показалась им своего рода попыткой оправдаться в их глазах.
– Вероятно, это действительно так. Они восприняли ее как извинение за «Каракадзе Яро».
Кейко промолчала, и я снова вернулся к чтению рукописи о чиго. «Каждый вечер чиго призывал в келью слугу, сына своей кормилицы, и приказывал, чтобы тот «разрабатывал пальцами» его задний проход. Затем он велел слуге вставить ему в задний проход искусственный фаллос, наполненный теплым растительным маслом. И наконец, согрел свои прекрасные ягодицы над жаровней с древесным углем.
Бедный слуга, выполнявший все распоряжения чиго, не мог удержаться и стал мастурбировать.
Подготовившись соответствующим образом, чиго явился к настоятелю рано утром на рассвете, когда старик позвал его, и настоятель сумел без труда проникнуть в его задний проход».
Как только я закончил читать рукопись и разглядывать миниатюры, из соседней комнаты раздался голос Кейко:
– Прошу вас, Мисима-сан, войдите в комнату.
Я переступил порог спальни, обставленной в неоклассическом стиле. Использование морских мотивов в декоре мебели прославляло успехи военно-морской кампании Англии против флота Наполеона в начале девятнадцатого века. Кейко сидела спиной ко мне на изящном стуле, имевшем форму развернутого свитка. Перед ней стоял богато декорированный туалетный столик с мраморной столешницей. На стене над флаконами с духами, расческами и баночками с кремом висело большое овальное зеркало, вставленное в позолоченную резную раму. В резьбе были тоже отражены морские мотивы – канатные узлы, якоря, волны. Кейко, глядя в зеркало, смотрела на меня, как будто из иллюминатора.
Я вдруг подумал, что весь этот декор в морском стиле был своего рода данью памяти мужу Кейко, летчику военно-морской авиации Омиёке Такуме.
Кейко обиженно улыбнулась:
– Как это характерно для вас, Мисима-сан! Вы любуетесь мебелью и не замечаете сидящую в комнате женщину.
– Прошу прощения, но эта комната заставила меня вспомнить об адмирале Вильневе, который потерпел поражение при Трафальгаре. Он покончил с собой и тем самым, как и принц Коноэ, искупил свою вину перед императором. Но Вильнев выбрал более элегантный способ самоубийства. Он пронзил свое сердце длинной иглой.
– Вы думаете в этот момент о самоубийстве? Как лестно для меня!
Кейко встала. Длинные черные волосы водопадом рассыпались по спине. На ней было кимоно из кремового шелка, на котором были вышиты цветки вишни. Красота и изящество Кейко произвели на меня большое впечатление. Чтобы скрыть свое смущение, я упорно рассматривал обстановку комнаты. Кейко надела свадебное кимоно, и это казалось мне странным. Даже знатные богатые семейства обычно берут такие наряды напрокат, а затем возвращают их и больше никогда не надевают после свадьбы. Должно быть, какие-то чрезвычайные обстоятельства заставили Кейко сохранить это кимоно в своем гардеробе и надеть его сегодня.
Кейко заметила мое волнение.
– Это мой свадебный наряд, – сказала она. – Он не нравился моему мужу, барону Омиёке. В те дни цветами вишни называли самолеты камикадзе, и ему был неприятен этот намек.
– Я знаю. Я работал на авиационном заводе, где производились «цветы вишни», эти летающие гробы.
– Я приказала вышить на кимоно столько цветков вишни, сколько камикадзе погибло к тому времени. Я пользовалась официальными данными, списками погибших, которые печатались в газетах. Барон Омиёке был дважды серьезно ранен еще до нашей свадьбы, вскоре после нее он снова получил ранение и почти ослеп на один глаз, но все же продолжал летать.
– Я прекрасно понимаю его.
– Правда?
Я понимал, почему барону Омиёке не понравился свадебный наряд Кейко. Это была своего рода насмешка над официальными данными о погибших, которые публиковались в прессе. На самом деле количество потерь было намного больше.
Я представил себе эту свадьбу, праздновавшуюся в те далекие памятные дни 1944 года. Барон Омиёке был кадровым офицером, храбрым и прямым, но его никак нельзя было назвать фанатиком. В день свадьбы он, наверное, спорил со своей наивной невестой, надевшей обличающий официальную ложь наряд. Я представил себе красивую юную Кейко, уверенную в том, что супруг одобрит ее выходку.
– Я, наверное, не ошибусь, если предположу, что ваше свадебное кимоно вышивали специально подобранные непорочные девушки.
– Нет, не ошибетесь.
– Мне жаль невесту, которая носила это кимоно, – промолвил я.
– То же самое сказал мне жених, но было уже слишком поздно. С тех пор я ни разу не надевала этот наряд.
– Почему же вы сделали это сейчас?
Кейко прищурилась и с вызовом взглянула на меня:
– Потому что нашу сегодняшнюю встречу можно назвать в некотором роде отложенной свадьбой.
– Груз прошлого тяжел, и нам не дано вернуть то, что стало его достоянием.
Выражение решимости в глазах Кейко нервировало меня. Ее лицо в обрамлении пышных густых волос казалось маленьким, хрупким и одновременно пугающим. Прекрасная, безупречная, несмотря на возраст, шея сейчас была покрыта багровыми пятнами, свидетельствовавшими о сексуальном возбуждении Кейко.
Она старалась взять себя в руки.
– Иногда человек делает шаг, который меняет все, в том числе и прошлое. Разве вы не сделали мне сегодня одно важное признание, Мисима-сан?
– Вы имеете в виду мое преображенное тело и участие в фильме о якудзе, где я снялся в роли злодея?
– Вы могли бы сыграть эту роль в действительности прямо сейчас.
Я засмеялся. С каждой минутой я все больше жалел о том, что обратился к Кейко с неразумной просьбой.








