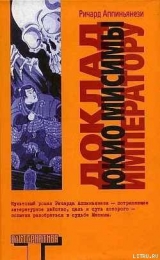
Текст книги "Доклад Юкио Мисимы императору"
Автор книги: Ричард Аппиньянези
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 43 страниц)
ГЛАВА 8
БЕНАРЕС: ВДОВИЙ ДОМ
– Очевидно, он хотел утопиться, – промолвил доктор Чэттерджи.
Его слова вывели меня из задумчивости. Образ посылающей мне воздушный поцелуй Мицуко растаял, и я вернулся к действительности.
Несколько лодочников, отплыв на некоторое расстояние от берега, пытались вытащить что-то из воды. Товарищи и наблюдавшие с берега зеваки подбадривали их громкими криками. Наконец я увидел, что лодочники, напрягая все силы, тянут из воды человека. Это был старик. Вскоре благодаря усилиям спасателей он оказался в одной из лодок.
Странная мысль пришла мне в голову. Я вдруг подумал, что это чудесным образом ожил труп, который только что на наших глазах был кремирован и пепел от которого бросили в воды Ганга. Я засмеялся над столь нелепой мыслью, и доктор Чэттерджи улыбнулся мне, полагая, что я разделяю общую радость и веселье по поводу спасения старика, который, кстати, сопротивлялся и протестовал, когда его тащили из воды.
– Зачем его спасли? – спросил я. – Ведь он наверняка приехал в Каси, чтобы умереть.
– Я уже говорил, что самоубийство недопустимо. Это плохая смерть.
– В таком случае что вы называете хорошей смертью?
– Смерть, которую человек принимает добровольно.
– Но ведь именно так и определяют понятие «самоубийство».
– Вы играете словами, сэр.
– Да, вы правы, доктор Чэттерджи. Нельзя относиться легкомысленно к словам. В них заключена огромная сила, и они способны воплощаться. Я знаю это.
– Я мог бы показать вам храм Карват. Там с потолка свисает большая пила, «карват». Говорят, что в менее развращенную эпоху пила падала на просителя, которому Шива даровал смерть. Хотите, я отведу вас туда? Вы получите благословенную смерть из рук Шивы, если это – ваша судьба и если ваше время пришло.
– Самоубийство – не благословенный дар, не судьба и не вопрос выбора.
– В любом случае лишать себя жизни нехорошо. В наши дни карват больше не падает. Но если хотите, я покажу вам хорошую смерть.
Мы покинули Маникарника и вскарабкались по одной из бесчисленных крутых дорожек вверх по склону, туда, где стояли храмы и здания, высившиеся над площадками для кремаций. На углу двух улиц мы увидели стайку детей, которые весело кружились на небольшой карусели, приводимой в движение вручную. Одетые в яркие праздничные сари женщины наблюдали за своими радостно резвящимися чадами, катавшимися на разрисованных игрушечных лошадках. Казалось, счастливые матери и дети существуют в другом измерении и не видят, что всего лишь в нескольких ярдах от них стонет и корчится в предсмертных муках похожий на скелет нищий старик. Он лежал у пропахшей мочой стены на груде гниющих отбросов и испражнений, а рядом копался бродячий пес в поисках объедков.
Внимание прохожих было приковано к другому старику – обнаженному саддху, ползшему по узкой улочке. Он продвигался вперед на животе, отталкиваясь локтями и коленями, в окружении уличных лоточников, нищих и коз. За ним шли прокаженные. Вся процессия направлялась на берег Ганга. Длинные, покрытые золой и перемазанные испражнениями пряди волос саддху волочились по земле. Он прополз у наших ног, и я заметил, что его тело покрыто коркой грязи, а мерзкие глаза и открытый рот покраснели и сочатся влагой.
Саддху не обращал внимания на то, что ему бросали милостыню. Но следовавшие за ним прокаженные набрасывались на деньги, словно стая воробьев на хлебные крошки. Я не сомневался, что это именно тот саддху, которого мы встретили в предрассветных сумерках у гостиницы. Тогда он дрожал от холода, сидя под деревом.
Я сказал об этом доктору Чэттерджи.
– Какая разница? – пожав плечами, промолвил он.
– Вы верите в святость саддху, доктор Чэттерджи?
– Я – всего лишь гид, сэр, – ответил он. – Бедный ученый, живущий в эпоху Кали. То, что я думаю, или то, во что я верю, не имеет никакого значения.
Повсюду в Индии можно встретить праздность и равнодушие. Но доктор Чэттерджи называл это традиционным образом жизни, «паккарпан» или беззаботностью. Владельцы магазинов и рикши потягивали пьянящие напитки и жевали орехи бетеля. Улицы были заплеваны красной от орехов бетеля слюной и походили на полы в палате туберкулезников.
– На это можно взглянуть и по-другому, – сказал доктор Чэттерджи в ответ на мое замечание. – Представьте, что это красные отпечатки ног девадаси, прекрасных куртизанок, прошедших по улице.
– Поэзия закрывает глаза на нищету и убогость.
– Индусы преследуют в жизни четыре цели. Мы не лишаем себя кама, удовольствия, не чуждаемся артха, богатства и власти, и выполняем религиозные обязанности, дхарма. И мы не терпим спешки и суеты в достижении последней цели – мокша, освобождения.
Мы вошли в сад и по обсаженной кустарником дорожке направились к двухэтажному зданию. Небольшие таблички, прикрепленные к растениям, напоминали посетителям о необходимости молиться. Здесь были, например, такие надписи: «Рама, Рама, помни имя Рама».
– Это вдовий дом. Здесь можно встретить тех, кто находится в поисках мокша, – сказал доктор Чэттерджи, задумчиво жуя сорванный по дороге листик священного кустарника тулси.
Мы миновали молитвенную комнату. Здесь стояли алтарь, фигуры божеств и проигрыватель, из которого день и ночь доносилось одно и то же: «Харе Кришна!»
– Я знаком с директором этого приюта, – заверил меня доктор Чэттерджи, заметив, что я с опаской поглядываю на строгих, явно недовольных нашим появлением служительниц.
Мы вышли в залитый солнечным светом внутренний дворик. По его периметру располагались двухэтажные корпуса. В крохотных, скудно обставленных комнатах жили старушки, пришедшие сюда, чтобы умереть.
Доктор Чэттерджи провел меня в одно из этих сырых, мрачных помещений. Его обитательница лежала на узком соломенном тюфяке. Она хотела было приподняться, но не смогла и застыла, оцепенев. Лишь ее голова свободно двигалась из стороны в сторону, тело же было словно каменным. Ее одежда из сверкающего ярко-зеленого щелка была распахнута, и мы видели обнаженное тощее тело с выступающими ребрами и грудью девочки-подростка. Я чувствовал, как меня неудержимо влечет к этой женщине, жалкой и одновременно утонченно-возвышенной. Заметив одну странную особенность ее внешнего облика, я подошел поближе. Длинные распущенные волосы были седыми лишь в нескольких сантиметрах от корней, далее же они оставались иссиня-черными, не тронутыми сединой. Создавалось впечатление, что голову женщины окружает черный ореол, парящий на некотором расстоянии от нее. Вблизи я хорошо видел, что ее губы шевелятся, она что-то шептала. Вскоре я догадался, что умирающая поет. Печаль, страх и мука сложились в мелодию.
Примерно каждый час в комнату к ней и другим умирающим заходили две-три служительницы. Они громко пели молитвы, оглушительно били в гонг и трубили в большую раковину.
– Такую смерть не назовешь безмятежной и спокойной, – заметил я, зная, что шумные служительницы только что покинули это помещение, в очередной раз подвергнув умирающую тяжелому испытанию.
– Она здесь не для того, чтобы наслаждаться миром и покоем, – с улыбкой промолвил доктор Чэттерджи. – Вы слышали, как ее уже называют? Хара, Хара Махадева. Так обращаются только к Шиве или трупу.
– И она не получает здесь никакого лечения?
– Никаких лекарств. Только немного воды из Ганга и несколько листочков тулси раз в два часа.
– Так, значит, на самом деле она умирает от голода.
– Вы все еще упрямо твердите о самоубийстве? Вам не надоело говорить на эту тему?
– В Японии существует практика мокудзики. Аскеты постятся тысячу дней, питаясь лишь листвой. Фактически это растянутый во времени процесс самоубийства, в результате которого человек умирает от голода. Причем тело аскета за время поста само мумифицируется.
– Пожилая леди, которую вы видите здесь, занимается самоочищением, а не лишает себя добровольно жизни.
– Я не вижу разницы.
– Разница заключается в том, что это – хорошая смерть, – раздраженно заявил доктор Чэттерджи. И, пытаясь доказать свою правоту, он пустился в объяснения, используя при этом тело умирающей женщины как муляж на уроке анатомии. – При плохой, то есть безвременной, смерти «акала мртию», последний вздох, испускается или через задний проход вместе с испражнениями, или через рот с рвотными массами, или через какое-нибудь другое нечистое отверстие. Поэтому лучше всего умирать на пустой желудок, очистив тело от всех фекалий и других ненужных веществ. – По ходу своей речи он сунул палец в рот женщины, дотронулся до ее живота и, наконец, прижал его к черепу. – При хорошей смерти жизненное дыхание выходит вот отсюда, оно покидает тело через череп. Эта женщина постится, чтобы сделать свое тело слабым и дать возможность дыханию легко покинуть тело.
Во время его речи женщина не сводила с меня глаз, повторяя какие-то слова.
– Что она говорит? – спросил я.
– Она говорит: «Мои зубы сильны. Огонь не хочет покидать мое сердце». Эта женщина сожалеет о том, что смерть медлит и ее семейство несет большие расходы.
– Сколько времени она уже находится здесь?
– Почти четыре месяца. Я не сдержал улыбку.
– У нее нет другого выхода, ей остается только одно: преодолеть жизнь, выбрав смерть.
– Возможно, это действительно так. Простите меня, сэр, я не сумел показать вам хорошую смерть.
– Не стоит извиняться. Вы убедили меня, что смерть – дело практики. Но как на практике научиться умирать?
Когда мы на обратном пути вновь проходили по обсаженной кустами тулси дорожке, я сорвал листик и попробовал его на вкус. Он был горьким. Я представил себе, как умирающая старуха жует его сильными белыми зубами, напоминающими ей о неутоленной жажде жизни.
Это нелепое посещение вдовьего дома вопреки ожиданиям улучшило мое настроение, хотя доктор Чэттерджи, казалось, был удручен. Без всякой на то причины я вдруг ощутил твердую уверенность в том, что непременно снова встречу юного атлета, моего Дзиндзо, моего спасителя. И я стал искать его глазами в уличной толпе. Но почему я решил, что Дзиндзо проявит ко мне сострадание, в то время как я сам жестоко обошелся с Нацуко? Моя надежда зиждилась на измене. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я вырвал из рук прохожего медный кувшин с водой из Ганга и, быстро сделав из него глоток, запил горький листок тулси.
ГЛАВА 9
ПОЦЕЛУЙ
Мой доклад императору разочаровывает меня. Предыдущие страницы несут на себе отпечаток холодного величия, маскирующего ту правду, которую я пытаюсь сказать. Я собираюсь умереть в скором будущем, но мне до сих пор не хватает мужества признать мелкие, вызывающие недоумение истины жизни. Если продолжать бесстрашно анализировать дальше переживания существа, которое в 1945 году лелеяло амбиции стать всемирно известным писателем, то окажется, что в конце концов в нем проявились низменные качества пигмея. Я говорю о том существе, которое, растянувшись после обеда на диване в гостиной в доме родителей, с бессильной яростью алкоголика воображало себе, как покорит весь мир.
Я говорю о смешном конквистадоре, который не мог выйти из дома, не испытав приступа удушливого страха, подобно человеку, страдающему агорафобией – боязнью пространства.
Я говорю о романтически настроенном бездельнике, витавшем в облаках, о маленьком, домашнем, чувствующим себя обиженным монстре, который, если бы ему дали власть, стал бы для человечества настоящим ночным кошмаром.
Я говорю о семейной тайне, которую всегда тщательно хранят, о домашнем демоне, скрывающемся под крышей каждого буржуазного дома. Это – та маленькая правда, о которой я должен рассказать. Все поэты, великие и малоизвестные, с незапамятных времен мечтали, испытывая мстительное чувство, о явлении мессии, Антихриста праздности.
Как вы думаете, о ком я сейчас говорю? Я говорю о Гитлере. Да, о нем. И это моя маленькая правда. Гитлер, эта грандиозная загадка, присутствует в мечтах наших поэтов инкогнито до того дня, когда униженные поэты от мучительной праздности переходят вдруг к действию.
Впрочем, хватит о маленькой правде, давайте продолжим препарировать то ничтожное существо, которое пытается эту правду сказать.
Продвигаясь по темным закоулкам прошлого на ощупь, как слепой, я нашариваю цепочку событий, в результате которых я вышел на свет из мрака безвестности и обрел славу популярного писателя.
1945 год я провел в праздности. Наверное, это трудно себе представить. Тем, кто не пережил войну, со стороны кажется, что она касается всех, что каждая секунда человеческой жизни наполнена ею. На самом же деле военное время дает человеку возможность предаться полному безделью. Оно идеально для праздного поэта.
За несколько месяцев до подписания Акта о безоговорочной капитуляции меня отправили на военно-морские верфи в Коза, местность, расположенную приблизительно в тридцати милях к юго-западу от Токио. Я поехал туда не один, а в составе небольшой группы студентов, изучавших вместе со мной право в Императорском университете. Все мои сокурсники, кстати, в отличие от меня были совершенно справедливо признаны негодными к действительной службе в армии. Однако в Коза меня, как жалкого инвалида, отправили работать в библиотеку. Не буду писать о своих обязанностях библиотекаря, это слишком скучно. Упомяну лишь, что большую часть времени я проводил не среди книг, а на земляных работах. Я вырыл бесконечное множество выгребных ям для уборных – намного большее, чем их требовалось для поредевшего штата верфи. Когда раздавался сигнал воздушной тревоги, я, бросив все, бежал в довольно ненадежное убежище, расположенное на склоне холма. Мы давно уже перестали обсуждать вопрос о том, почему вражеские бомбардировщики уничтожают целые города, но не трогают такие военные объекты, как наша верфь.
Говорят, что простуда – завуалированная или символическая форма плача. Если это действительно так, то можно сказать, что я провел в слезах все лето 1945 года. Я перехворал бронхитом, гриппом, тонзиллитом и другими видами простудных заболеваний. Не знаю, были ли эти недуги следствием недоедания или меланхолии.
В конце июля я приехал домой в отпуск на поправку после очередной болезни. Ужасные воздушные налеты, которые продолжались весь март, в конце концов заставили отца перевезти семью из района Сибуйя в более безопасное место, в токийское предместье Готокудзи, где жили мои кузены. Сам Азуса остался в Сибуйя охранять дом. Вооружившись револьвером, он нес бессменное дежурство, готовый в любую минуту дать отпор грабителям. Разграбление домов стало обычным явлением в дни, когда в стране воцарился хаос. Однако мне показалось, что отец больше занят не охраной нажитого добра, а какими-то темными делишками. Во всяком случае, когда не было неполадок на телефонной линии, он вел бесконечные разговоры со своими друзьями-финансистами, часто переходя на таинственный шепот и прибегая к условленному коду.
Однажды после очередного подобного разговора Азуса вошел в гостиную и с изумлением посмотрел на меня. Я, по своему обыкновению, лежал на диване. По выражению лица Азусы я понял, что он забыл о моем присутствии в доме и был неприятно поражен, обнаружив меня здесь.
– Поезжай к своим кузенам в Готокудзи, – сказал он. – Там, на свежем воздухе, ты сразу же забудешь о своих хворях.
– А ты знаешь, что твой слуга распродает на черном рынке наши съестные припасы?
Азуса пожал плечами.
– Он полезен мне, и я не хочу увольнять его, – заявил отец, ясно давая мне понять, что в отличие от слуги я совершенно бесполезен в этом доме.
– Ты все еще не расстаешься с оружием? – спросил я. Азуса хмыкнул и похлопал ладонью по карману пиджака:
– В ящике моего стола лежит еще один пистолет.
– Все это напоминает переполох и неразбериху тех дней, которые обычно называют эпохой «Перед Рассветом».
– О чем ты?
– Дедушка рассказывал мне, что в те времена его отец, Хираока Такики, тоже вынужден был защищать свой дом от грабителей.
– Ты к любому явлению стремишься найти возмутительную историческую параллель, – сердито заметил отец и налил себе стаканчик шотландского виски.
Где он достал баснословно дорогое виски в военное время, когда многие горожане пребывали на грани голода?
– Что читаешь? – спросил отец.
– Маркиза де Сада.
– Прекрасный выбор, именно такие книги должен читать истинный патриот в наши дни, когда близится конец света, – со смехом сказал отец. У него отсутствовало чувство юмора, и это всегда раздражало меня. – Ты – больной человек.
Взяв стакан с виски, он направился к двери, но на пороге гостиной остановился и повернулся ко мне:
– Прошу тебя, уезжай в Готокудзи. Твоя неразумная мать будет рада тебе, а для меня твое присутствие слишком обременительно.
Мне очень хотелось, чтобы «Б-29» сбросил все свои бомбы на этот дом, на виски моего отца, на его револьвер, на телефон, по которому он, понизив голос, обсуждал свои темные делишки. Пусть голубое летнее небо покарает этого ублюдка!
Честно говоря, я читал не самого маркиза де Сада, а эссе о нем, написанное Жоржем Батаем. Если быть совсем точным, я перечитывал один пассаж Батая, который, впрочем, знал наизусть и над которым постоянно размышлял «в наши дни, когда близился конец света», как выразился отец. Я познакомился с божественным маркизом после смерти Нацуко. В завещанной мне библиотеке бабушки имелось несколько его книг. Его произведения произвели на меня сильное впечатление, а с годами я начал еще больше ценить де Сада. Я считал его единственным философом, к мнению которого стоит прислушиваться. Думаю, первоначально он снискал мою любовь прежде всего тем, что провел долгие годы в тюрьме. Мне, прожившему в карантине у бабушки двенадцать лет, это было близко. Кроме того, меня заворожила таящаяся в произведениях этого арестанта загадка. В душе долгое время томившегося в тюремной камере де Сада имелась другая, таинственная, закрытая для всех камера, и маркиз был пожизненно осужден носить ее в себе. Его загадка, как я понимал, была связана с сексуальным удовлетворением или, вернее, с невозможностью получить его.
Длившийся двадцать семь лет ад де Сада начался в пасхальное воскресенье 1768 года, когда он, связав проститутку Роз Келлер, бросил ее ничком на кровать и жестоко выпорол. За это маркиз был приговорен судом к тюремному заключению. Доказывая его вину, мадемуазель Келлер утверждала, что маркиз не вступал с ней в половые сношения, но когда хлестал ее плетью по ягодицам, то издавал «ужасные громкие крики». Может быть, эти вопли вырвались у него в момент оргазма и на самом деле он получал удовольствие? Нет, я в этом сильно сомневаюсь. Батай приводит свидетельства очевидцев оргий де Сада. Они в один голос говорят о том, что маркиз неистово кричал и выл, не в силах получить удовлетворение.
Невозможность получить удовлетворение – я назвал бы это анестезией чувства удовольствия – приводила де Сада к бесконечным эксцессам, разжигала его фантазию и заставляла воплощать самые безумные сатанинские замыслы. И все только ради того, чтобы получить наконец разрядку, выплеснуть сперму в момент, когда он испытывал самое глубокое мучительное неудовольствие.
Я хорошо понимал маркиза, потому что сам пережил нечто подобное в возрасте десяти с небольшим лет. Я так привык заниматься онанизмом, что меня неудержимо тянуло предаваться этому пороку в самых странных, неподходящих местах. Я не раз уединялся в туалете Школы пэров, чтобы удовлетворить свою ненасытную жажду. И вот в один прекрасный летний день, когда я, по своему обыкновению, онанировал в туалете недалеко от распахнутого окна, во дворе школы раздались оглушительные вопли моих одноклассников, кэндоистов. Отвращение, которое я испытывал к кэндо, заставило меня удвоить свои старания, чтобы быстрее довести дело до конца. Однако мой проклятый, необычно большой член сопротивлялся. И хотя он был твердым, как дубинка кэндоиста, он все еще не желал извергать свое содержимое. Запястье моей правой руки сильно болело. И тут меня пронзила боль, по телу пробежала судорога, и мощная струя спермы ударила в то мгновение, когда раздался пронзительный боевой клич одного из кэндоистов. В некотором смысле это был мой собственный крик. Но не крик, который рвется из глубины души в момент наслаждения, а вопль де Сада, кусающего губы от отвращения и испытывающего высшую степень неудовлетворенности.
Я сделал открытие. Дело было не в мужественных боевых кличах моих одноклассников, а во мне самом, в моей истинной сущности, которая проявилась в момент, когда они издали истошный вопль. И я понял, что смогу получить крупицу настоящего удовлетворения, только причиняя боль другому человеку или убивая его.
Я лежал на диване, наслаждаясь своим восхитительным состоянием. От легкого жара у меня немного кружилась голова, а дувший с реки чуть прохладный летний ветерок приятно холодил разгоряченное тело. Я думал о том, что отец прав и мне действительно необходимо уехать в Готокудзи. Мне хотелось отравиться туда еще и потому, что с недавних пор все мои мысли занимала Мицуко.
С того памятного февральского вечера, когда я в кругу семьи праздновал избавление от неминуемой смерти и в моей памяти всплыло воспоминание о посланном мне когда-то сестрой воздушном поцелуе, я не переставал думать о Мицуко. Мой разум пытался найти объяснение тому, почему воздушный поцелуй – эта мимолетная шалость, такая же эфемерная, как пух одуванчика или пыльца с крыльев бабочки, не дает мне покоя. И я, конечно, нашел его. Невинный поцелуй врезался мне в память, потому что моя мать слишком резко прореагировала на него. До сих пор в ушах у меня стояли обращенные к Мицуко слова Сидзуэ: «Прекрати! Неужели девушек в вашей школе учат подобным вульгарным жестам?» Раздраженный голос Сидзуэ свидетельствовал о том, что ее терзает ревность.
Горячность родителей во всем, что касается меня, объясняется тем, что их внимание всегда было приковано исключительно ко мне одному. Я был центром притяжения семьи Хираока, той точкой, вокруг которой вращалась ее вселенная. Родители не уделяли Мицуко и Киюки такого повышенного внимания. Мои брат и сестра были как будто лишними персонажами в семье. Я порой думал о том, что они, наверное, втайне испытывают глубокое чувство обиды. Однако воздушный поцелуй Мицуко дал мне ясно понять, что сестра, к счастью для нее, не стала спутником в этой вселенной. Она пребывала вне зоны действия моего темного магнитного поля. Мицуко, восхитительно легкое невесомое создание, существовала в своем безопасном мирке. Будущее было исполнено для нее простых земных чудес, в то время как я был лишен подобной перспективы.
Мне нравились повадки Мицуко, этой девчонки-сорванца, ее уживчивый характер. Так, наверное, выздоравливающий больной идеализирует ухаживающую за ним сиделку. Меня восхищала сама мысль о том, что у меня есть сестра. Мицуко, единственная среди членов семьи Хираока, пользовалась уникальной привилегией. Ей позволялось поддразнивать меня, потому что своими шалостями она была способна вывести меня из депрессии. Так, одной ее улыбки в мрачный февральский вечер 1945 года было достаточно, чтобы вернуть мне душевное равновесие.
Сидзуэ, находившаяся в поле моего притяжения, ревновала меня к сестре. Но в тот раз она переборщила. Реакция матери возбудила во мне эротическое чувство к Мицуко. Я вдруг обратил внимание на то, как восхитительно она надувает свои нежные губы. У нее были слегка выдававшиеся вперед зубы с забавной щелью в верхнем ряду. В моей душе родилось нечто похожее на теплое человеческое чувство. А затем, в последующие месяцы, оно превратилось в навязчивую идею. Я испытывал жгучее желание припасть губами к губам Мицуко в настоящем страстном поцелуе.
Меня переполняла радость оттого, что я снова увижу Мицуко после долгой разлуки, длившейся целый месяц. Перед мысленным взором возникал образ резвой девочки в строгой школьной форме, делавшей ее похожей на кокетливую монахиню. Я не был готов увидеть юную женщину, выглядевшую старше своих семнадцати лет, загорелую до неузнаваемости, одетую в свитер с треугольным вырезом. Высокие холмики грудей топорщили ажурную вязаную ткань. Вопреки моим ожиданиям на ней были женские хлопчатобумажные брюки. Женская прелесть Мицуко поразила меня до глубины души.
– Не смотри на меня с таким страхом, Том, это я, твоя сестра, – смеясь, сказала Мицуко.
«Том» было моим детским прозвищем. Так звали превратившегося в духа воды мальчика-трубочиста из повести Чарльза Кингсли «Дети воды», любимой книги Мицуко, с которой она не расставалась в детстве.
Мицуко взяла меня за руку. Ее ладонь была шершавой, как панцирь лобстера, а моя отвратительно мягкой и нежной.
– Это от работы на огороде, – сказала Мицуко, показывая свои ногти с набившейся под них грязью. – Боюсь, теперь мне будет трудно играть этюд Шопена.
– Но ведь ты никогда не мечтала стать Вандой Ландовской, не правда ли?
Мое замечание задело Мицуко за живое. Она серьезно увлекалась музыкой. Я не хотел обижать ее и теперь не знал, как сгладить неловкость. «Что за неуклюжие попытки добиться расположения Мицуко! – упрекнул я себя. – Разве таким образом можно завоевать симпатию девчонки?» Однако проблема заключалась как раз в том, что Мицуко уже не была девчонкой. Я имел дело с недоступной, далекой, словно звезда на небе, юной женщиной, у которой были собственные желания. Как мне примирить действительность с моими жалкими фантазиями? Я был в отчаянии.
– Я рада, что ты приехал, Том, – сказала Мицуко. – В Сибуйя сейчас опасно.
– Кто знает? Возможно, было бы неплохо, если бы воздушный налет положил конец моей никому не нужной жизни.
– Не говори так! – воскликнула Мицуко, и я понял, что она беспокоится не только обо мне, но и об Азусе.
Что, конечно, было вполне естественно.
Мне так хотелось убедить ее в том, что я мечтаю умереть. Однако, возможно, эта идея лишь на меня производила огромное впечатление, а Мицуко могла оставить равнодушной. Во всяком случае, мое желание умереть показалось бы ей, пожалуй, менее искренним, чем просьба прямо здесь, на этом самом месте, поцеловать меня.
– Не печалься, Том. Отец говорит, что война скоро кончится, – сказала Мицуко и чмокнула меня в щеку.
Дружеский поцелуй, который лишил меня всякой надежды на воплощение заветной мечты.
14 августа 1945 года американские самолеты «Б-29» сбросили на Токио целый дождь листовок с условиями капитуляции, которую предлагали союзные войска. В тот день я лежал в постели с тонзиллитом в доме наших родственников в Готокудзи. А назавтра, 15 августа, все семейство столпилось у репродуктора, чтобы узнать новости. В полдень мы услышали по радио священный Драгоценный Голос, объявивший о капитуляции.
Это событие произвело на всех мрачное гнетущее впечатление. Голос, символизировавший ночь, воплощавший драгоценный блеск луны, прозвучал в полдень. И о чем он нам возвестил? О том, что императорское зеркало разбилось, солнце навсегда закатилось и мир погрузился в вечный мрак. Незнакомый подданным голос императора слегка потрескивал, будто призрачный огонь, пожирающий сухой валежник. Император говорил на устаревшем языке, который понимали только эрудиты и который плохо доходил до простонародья.
– … военная ситуация не всегда развивалась в пользу Японии…
Услышав эти слова, я взглянул на Азусу и заметил – или мне показалось, что заметил, – как он усмехнулся. Азуса тоже наблюдал за выражением моего лица, ожидая реакции на заявление императора.
– … Мы решили проложить путь к великому миру для всех поколений, чтобы вынести невыносимое и преодолеть непреодолимое.
– Как это понимать? – спросил кто-то.
Это был Киюки или, может быть, один из моих кузенов.
– Спроси своего учителя в школе, – сказал отец.
– Это означает, что император Сева наконец решил воплотить в жизнь лозунг своего правления – «Просвещенный Мир», – промолвил я, чувствуя, что у меня перехватило горло.
Мой хрипловатый голос в тот момент был похож на голос императора.
– Это означает, – заявил Азуса, зажигая сигарету, – что мы входим в эпоху культуры. – И отец, обратившись ко мне, продолжал с надменным видом: – Так что, если у тебя еще не пропало желание быть писателем, действуй, настало твое время.
Азуса помолчал, давая нам время переварить услышанное. Так человек, поливающий комнатное растение в горшке с пересохшим комом земли, дает воде возможность хорошо впитаться. А затем, когда все в комнате затаили дыхание, Азуса, зная, как много значит для меня его разрешение заниматься литературным творчеством, перечеркнул только что сказанные слова одной фразой:
– Но прежде окончи университет и получи юридическое образование.
Почувствовав недомогание, я снова лег в постель. Через некоторое время ко мне в комнату зашла Мицуко. Я ждал ее. Но она явилась не сразу. Чтобы не обидеть Азусу, она покинула гостиную под предлогом, что мне необходимо теплое питье. Мицуко принесла мне жаропонижающий настой местных трав.
– Мне очень жаль… – промолвила она, протягивая чашку с настоем.
– Какая гадость, – морщась, жалобно проговорил я и не спеша выпил лекарственный чай, наслаждаясь тем, что сестра испытывает чувство неловкости. Вернув пустую чашку, я заметил: – Ты не должна извиняться, Мицуко.
– Но мне очень стыдно.
– Стыдно? За кого? За себя, за меня или за нашего отца?
– За нашего отца… Но знаешь, Том, порой ты ведешь себя столь же экстравагантно, как и он.
– Однако это не оправдывает его. Ты прекрасно знаешь, что он преднамеренно жестоко обошелся со мной. И прошу тебя, не зови меня больше Томом.
Мицуко казалась мне сегодня необычайно красивой, наверное, потому, что была сейчас недосягаема, как никогда.
– Отец говорил в порыве чувств и потому, может быть, выразился не совсем удачно.
– В порыве каких чувств, Мицуко?! – воскликнул я и хрипло засмеялся. В горле у меня першило. – Неужели я единственный в этой семье еще сохранил крупицу честности? Хочешь, я скажу тебе, что почувствовал, услышав голос императора, заявившего о необходимости безоговорочной капитуляции? Я не испытал ни волнения, ни скорби, ни даже чувства облегчения. После чудесного спасения от неминуемой гибели моя жизнь как будто разделилась на две части. Капитуляция дает мне робкую смутную надежду на то, что я наконец выйду из изоляции и начну что-то делать в этой жизни, к чему я, возможно, совершенно не гожусь или не готов. Мне следовало бы совершить самоубийство, как это сделали генерал Анами, вице-адмирал Ониси и пятьсот офицеров, взявших на себя ответственность за капитуляцию… Почему ты не подсыпала мне яду в чашку? Неужели отец до сих пор еще не приказал тебе сделать это?
– Не говори такие ужасные слова!
– Почему? Все будут только рады, если ты отправишь меня на тот свет.








